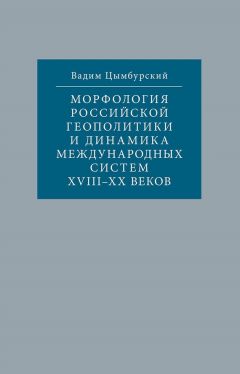
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
В этом тупике прорезались единичные случаи, когда перед Россией намечался третий вариант решения Восточного вопроса и влиятельное возвращение в Европу на основе сделки с Германией в качестве ее тыла. Первый случай – это конвенция 1873 г. в изначальном варианте, без участия Австрии, перечеркнутая Бисмарком. Случай второй – запрос Александра II в 1876 г. в начале войны на Балканах насчет возможности германского нейтралитета в случае наступления России против Австрии. Бисмарк конфиденциально объявил таким условием согласие России на «совершенный разгром Франции», – и сделка была заблокирована Горчаковым [ИД II, 37" 41. ИВПР 1997а, 188]. В последний раз подобные шансы обозначились в 1886–1887 гг., когда представители Александра III в Берлине Петр и Павел Шуваловы предложили Бисмарку русско-германский договор без участия Австрии, предполагающий нейтралитет России в войне Германии против Франции при любых условиях – вплоть до того, что первая «посадит прусского генерала в качестве парижского губернатора». Суля России проливы и Болгарию, Бисмарк опять-таки оговорил целостность Австрии и ее влияние в Сербии, и в результате договор был дезавуирован Александром III [ИД II, 248–251. ИВПР 1997а, 265]. Камнем преткновения постоянно оказывались славянские земли Австрии и прилегающие к ней участки Балкан: эти земли, с точки зрения Бисмарка принадлежавшие к германской Центральной Европе, а с русской – видевшиеся то ли естественной частью русского Балто-Черноморья (Фадеев), то ли западной оконечностью евроазиатской дуги, представляли собой участок, относительно которого сталкивающиеся «национальные геополитические коды» двух сторон не допускали согласования.
В результате России пришлось вести войну 1877–1878 гг. на жестких английских и австрийских условиях, а выход за рамки этих условий в Сан-Стефанском прелиминарном договоре был пресечен совместным германо-австро-английским нажимом на Берлинском конгрессе. На этот нажим Россия могла ответить лишь действиями в Афганистане, повлекшими его оккупацию Англией, – заставившую русских в их черед наступать в Туркмении. Россия оказывалась вынуждена идти на новые сделки с Германией и Австро-Венгрией, заключившими против нее в 1879 г. меридиональный комплот. Восстановленный «Союз трех императоров» гарантировал России нейтрализацию проливов, а значит, защиту ее черноморского побережья от Англии (зато Австрия развернула экспансию на Балканах от Бухареста до Белграда). Партнеры последовательно переориентировали Россию на отдаленные от Европы участки евроазиатской дуги. Впрочем, расходясь с австрийцами, Бисмарк постоянно оставлял в запасе вариант с уступкой русским Болгарии и проливов в обмен на европейскую гегемонию Берлина – при последующем сдерживании России австрийскими и английскими силами. Горчаков сопротивлялся «Союзу трех императоров», но никакой альтернативы не предлагал и вообще всё больше отходил от реальной политики. Берлинский конгресс и позиция, занятая на нем Германией, определили крушение преждевременного русского «возврата в Европу»: наметившаяся новая фаза А оказалась абортивной. «Союз трех императоров», по крайней мере, давал возможность возобновить евразийскую интермедию, достраивая русское пространство на юге, призывы же Горчакова к «свободе рук» оказывались совершенно неконструктивными. Существенно другое: на константинопольском направлении Россия была нейтрализована Австрией, за которой стоял Второй рейх, усиливающийся на Балтике и начавший с 1880-x инвестировать в перевооружение турецкой армии и насыщение ее германскими инструкторами. Официально трактовавшееся до сих пор как вспомогательное, поддерживающее босфорские и константинопольские замыслы среднеазиатско-индийское направление становится единственным, на котором Россия могла действовать до тех пор, пока не соглашалась на полную германизацию Европы (включая и Балтику, и значительную часть балкано-славянского пространства).
Оформляя новую ситуацию, в 1880 г. возникает проект Д.А. Милютина, изложенный в записке «Мысль о возможном решении Восточного вопроса в случае окончательного распада Оттоманской империи»: странная идея Балканской федерации с включением в нее же и Константинополя с Адрианопольским вилайетом, и управляемых Австрией Боснии и Герцеговины. Всё это скопище территорий виделось Милютину управляемым комиссией, образуемой представителями великих держав и хлопочущей о нейтрализации проливов Мраморного моря. Этот замысел – вырожденный итог целой серии русских проектов, включающей «греческие царства» Екатерины II и Пестеля, «Дунайский союз» Погодина и т. д., то продолжающих Россию на юго-запад, то, наоборот, прикрывающих ее с этого направления, которое Милютин, чтобы защититься от Англии, готов был полностью отдать под контроль «мирового сообщества». При этом политик-практик и организатор реформируемой армии даже не задается вопросом, который встает в те же годы перед разбирающими сходные планы Данилевским и Достоевским: во что же способно обратиться подобное, нейтрализуемое «мировым сообществом» пространство в случае возникновения в Европе большой войны, которой бы это сообщество раскололось на враждующие блоки. Весь проект Милютина рассчитан на долгий европейский мир и действия России по преимуществу вне Европы. Евразийская фаза продолжалась, толкая ко всё более глубокой переоценке ценностей и перестройке картины мира российских политиков и стратегов.
VII
Достоевский как публицист с обостренным интересом и вкусом к международной политике воплотил с особой силой веяния этого десятилетия с его зависанием между проскоком в новый цикл и продолжением евразийской фазы. Сравнивая его с Данилевским, видишь: с одной стороны, он больше, чем тот, живет спором с идеями европейского максимума (1840–1850-х), он более чуток к ускользнувшим в 1870-х шансам начать новый цикл; с другой стороны, он не ангажирован панславистски и потому глубже и богаче видит тему «русского пространства в Азии». Вообще, «Дневник писателя» и наброски к нему перенасыщены гео– и хронополитическими наблюдениями, заставляющими вспомнить о военном образовании автора. То он вспоминает выкладки Мальтуса насчет способности территории «поднять ту численность населения, которая сообразна с ее средствами и границами», – и заключает: «Таким образом, многоземельные государства будут самые огромные и сильные. Это очень интересно для русских» [Достоевский XXIV, 89]. То мимоходом заметит о войнах как «нормальном состоянии» с периодом в 25 лет [Достоевский XXV, юз; XXIV, 276], то рассуждает о случаях появления нового оружия задолго до того, как специфическое стечение обстоятельств обнаружит его подлинный потенциал [Достоевский XXIV, 269]. И много такого в «Дневнике» – от прогнозов насчет деградации России в перспективе нарастающего «безлесья» до пронзительной экологической эсхатологии высказываний о том, что «человечество обновится в Саду и Садом выправится» [Достоевский XXIII, 96 и сл.].
Связь с идеологией досевастопольских лет сквозит в монологе Князя из набросков к «Бесам», в то же время передразнивающем фразеологию («этнографический материал») «России и Европы» Данилевского: «никогда еще мир, земной шар, земля не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас с Востока на смену европейских масс, чтобы возродить мир. Европа и войдет своим живым ручьем в нашу струю, а мертвою частию своею, обреченною на смерть, послужит нашим этнографическим материалом» [Достоевский XI, 167]. Вся «мертвая часть» Европы назначается на ту роль «материала» для российской цивилизации, которую Данилевский отводил финским племенам. Но это – из речи героя, а в собственных черновиках Достоевский не устает отрекаться от «устарелого панъевропеизма». «Может ли кто верить в такую дряхлую мечту (что русские покорят Европу)». «Нет человека теперь в Европе, чуть-чуть мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может и в силах истребить цивилизацию…. Невероятно, чтобы не знали они, что Европа вдвое сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих» [Достоевский XXIII, 185, 62].
Власть над Европой – идея «дряхлая», идея ушедшей эпохи. Но Достоевский лукавит: он сам постоянно возвращается к этой «дряхлой» идее, однако смещает ее в то неопределенное будущее, где Европа национальных государств будет расшатана социализмом (при этом крушение папских притязаний на светскую власть вызывает мысль о будущем переплетении «подрывной» работы католицизма с социалистическими движениями). Он, как и Тютчев, верит, что эти силы приведут к тому разложению, которое позволит России, до поры самоотстранившейся от западных дел, вернуться в Европу судьей, который, держа судьбу этого сообщества в своих руках, с православных позиций войдет в диалог с европейским социализмом. В этой временной дали «будущность Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе?… Россия решит вовсе не в пользу одной стороны; ни одна сторона не останется довольна решением» [Достоевский XXII, 122; XXIV, 147]. Однако к тому столетию русские уже будут вполне самостоятельны и дистанцированы от европейских забот, обретя новую мощь, – и Достоевский не случайно в этой связи выписывает слова «Восточные окраины и Сибирь» [Достоевский XXIV, 147]. Откат русских к востоку – ретардация сюжета, отсрочивающая и в то же время подготавливающая паневропеистский финал «русского суда». Восприятие европейского социализма как фактора, который в своей разрушительности работает, в конечном счете, на Россию, выливается у Достоевского в раздумья о русских «левых западниках», которые обнаруживали свою русскую сущность именно тем, что в Европе примыкали к революционным силам, т. е. к потрясателям западной цивилизации. Достоевский их приветствует за это, правда, подчеркивая, что для полной стратегической последовательности им бы следовало сочетать революционность в Европе с консерватизмом применительно к России [Достоевский XXIII, 38–42; XXIV, 205].
Свое время Достоевский определяет как конец «эпохи прорубленного в Европу окошка», как время утраты столицами с их прикосновенностью к Европе особой просветительски-цивилизационной роли. Именно поэтому он связывает с этой фазой всплеск областничества [Достоевский XXIII, 6–7]. Но сама по себе эта фаза – лишь звено истории Восточного вопроса. По Достоевскому, Восточный вопрос родился «вместе с царством Московским» [Достоевский XXVI, 30]. Он формулирует его в различных местах по-разному, но неизменно этот вопрос выходит у него за пределы вопроса славянского. Разрешение Восточного вопроса России предстоит «после разрешения славянского вопроса». Точнее, у России «есть кроме славянского и другой вопрос … а именно Восточный вопрос», который разрешится лишь в Константинополе [там же, 81, 84]. «Восточный вопрос, то есть вопрос об объединении православия (и более ничего)» [Достоевский XXIV, 174]. «Весь православный Восток должен принадлежать православному царю, и мы не должны делить его (в дальнейшем на славян и греков)» [там же, 313]. Восточный вопрос – ключевой вопрос самосознания русских, как и у Тютчева [там же, 294]. В конечном счете, этот вопрос был поднят в истории как альтернатива миродержавию католической церкви с ее претензией «вести человечество мечом». Восточный вопрос заключает в себе потенцию панправославного мирового проекта, и славянский вопрос – лишь частная предварительная стадия на подступах к этому проекту. Понятно, что при таком видении Восточного вопроса он на самом деле и в Константинополе разрешен не будет: константинопольский вопрос в его исторической конкретике – такая же частность, как и вопрос о судьбе и назначении славянства; всё это подсюжеты, встроенные в сюжет пути к мировому панправославному единению для становления России миром и мира – Россией. В долгосрочной истории этой мировой трансмутации Достоевский предполагает четыре фазы. Фаза первая соответствует Московскому царству. «Древняя Россия была деятельна политически… но она в замкнутости своей готовилась быть неправа». Она сочетала православный идеал с «деловитостью»: при «тощих средствах, малой густоте населения, отчужденности от мира других народов», она умела «блюсти и соблюсти государство, единство, торговлю, колонизацию». Этап второй: «через реформу Петра мы сами собою сознали всемирное значение наше» [там же, 183 и сл.]. Однако самодовлеющий пафос «служения Европе» вылился в ложные зигзаги вроде «служения Меттерниху» [Достоевский XXVI, 171]. С Крымской войной эта вторая фаза кончилась. Намечается третья эпоха – возвращения России к себе, обретения ею вне Европы нового самосознания и новой мощи (тема русского Востока). Но эта эпоха подготавливает четвертую фазу финального русского возвращения в Европу, суда над нею и «собирания племен, тот акт, которым наш русский Восточный вопрос разрешится в мировой и вселенский» через крушение западного псевдохристианства (ср.: «Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия» [там же, 85], «утверждение всемирности России»). От деятельной самозамкнутости Московского царства через осознание всемирного положения России после Петра I и, далее – через новое понимание своего назначения на неевропейских путях – к финальному вливанию Европы и всего христианского человечества в Россию, покоряющую к тому времени под свою руку мусульманский восток. Такова четырехфазовая хронополитическая историософия Достоевского, где современность предстает третьей фазой созидания восточного царства, предшествующей четвертому времени – хилиастическому итогу мировых судеб (ср.: [Достоевский XXIII, 46 и сл.]). В этот долгосрочный сюжет встроен мотив второй, послепетровской эпохи как великого недоразумения, когда Россия отчаянно пыталась доказать себе и Западу свой европеизм, европейцам же эти попытки внушают страх видением чужеродной силы, пытающейся слиться с Западом, поглотив его [Достоевский XXV, 20–22]. Этот мотив, восходящий к опыту Священного союза, к истории с «Завещанием Петра Великого», у Достоевского исполняет двоякую миссию: с одной стороны, он оправдывает «исход» России с Запада, размежевание двух человечеств. С другой же стороны, европейский страх перед русскими оказывается правдивым предчувствием того последнего решения Восточного вопроса, когда Россия станет над Европой миродержавным судьей. Идеология фазы С нашего первого стратегического цикла, осуществление надежд, видевшееся Тютчеву и Герцену столь близким, относится Достоевским в будущий век; в результате же время, предшествовавшее Крымской войне, по смыслу своему оказывается недоразумением, но недоразумением пророческим.
Любопытно, однако, что разрешение славянского вопроса и овладение Константинополем Достоевский вовсе не относит к эсхатологической, долгосрочной перспективе становления мира – Россией: славянская и константинопольская проблематика образуют у него особый среднесрочный сюжет, который таким образом входит в сюжет долгосрочный (четырехфазный), что все эти проблемы, над которыми десятилетиями билась русская мысль, оказывается необходимым решить еще в фазе отстояния и отделения русских от Европы. Таким образом, в политической эссеистике Достоевского взаимодействуют два хронополитически разномасштабных сценария, которые объединяет тема кризиса католицизма как европейской сакральной вертикали и созидания вокруг России Восточного царства.
Среднесрочный сценарий организуется сюжетом заката Австрии и превращения Берлина в новый восточный центр Европы, чем резко изменяется непосредственный, ближайший смысл Восточного вопроса для России. «Восточный вопрос переносит центр тяжести; он не в Париже, не в Entente cordiale и даже не в Англии. Семя его перелетело вихрем обстоятельств на немецкую почву и что же в том, что он глубоко еще закопан в землю; природа возьмет свое и зерно даст рост. Восточный вопрос теперь в Берлине, да и всё теперь таится и гнездится в Берлине» [Достоевский XXIV, 163; ср. 171 и сл.]. К Германии переходит былая австрийская роль в кризисной Европе, Австрия получает германскую поддержку для действий на европейском «корневом» юго-востоке. «Австрия, по-видимому, оставлена хозяйкой этого движения. Надобно же ее вознаградить за немецкие земли» [там же, 171]. Австрия возьмет «турецких славян. Одним словом, уж конечно, Берлин теперь – владыка Восточного вопроса, а никто другой, а Россия пусть занимается Средней Азией и Берлин ее в том поощряет». «Таким образом… совершенно уничтожается Восточный вопрос и становится берлинским вопросом… Австрия в Константинополе» [там же, 187].[41]41
Последующий большой фрагмент этой главы утрачен. Лист рукописи обрывается на начале предложения, реконструировать которое полностью представляется невозможным: «Сталкивание России и мери<дионального германо-австрийского блока>». – Примеч. ред.
[Закрыть]
<Неустойчивым элементом выстраиваемого Россией пространства оказываются западные славяне, слишком озабоченные> своей всё не получающейся кооптацией в «коренную» Европу и готовые (в лице своей интеллигенции и политиков) добиваться этого, враждебно отталкиваясь от России. Если для Погодина 1840-х гг. антироссийский славянский фронт, создаваемый с западной подачи, выглядел катастрофой Империи, то Достоевский спокойно размышляет о вероятности славянского союза под эгидой оседлавшей проливы Англии [Достоевский XXIII, 113 и сл.], о распространенной среди славян «затаенной недоверчивости к целям России, а потому даже враждебности к России и русским», о греческом и славянском элементах Юго-Восточной Европы «с огромными, совсем несоизмеримыми и фальшивыми мечтаниями» и готовностью в осуществлении этих мечтаний строить «союз и оплот против северного колосса» и т. д. [там же, 115–116]. Он готов признать вражду между «русскими» и «славянами» (именно так, а не между русскими и другими славянами) за «семейные ссоры», и вместе с тем для него славяне – «источник будущих несчастий России», вносящий к нам «начало раздора и разъединения» [Достоевский XXIV, 131, 288]. Он убежден, что в условиях сосуществования России и германо-австрийского блока славяне «первым делом будут подлизываться к Австрии и бранить и обвинять Россию», страшиться присоединения к ней [там же, 189].
Отсюда его программа отношения России к славянам. Во-первых, «мы не можем раствориться в славянстве, мы выше» [там же, 131]. Во-вторых, Россия не должна присоединять к своему пространству ни клочка славянских земель, но исключительно наблюдать за их «свободой, согласием и самостоятельностью», проводя здесь долгосрочную воспитательную работу: «делая им добро и проходя мимо», принимая как неизбежность всплески здесь вражды против нее [Достоевский XXIV, 131; XXV, 100; XXVI, 81]. «Дело славянское есть дело русское и должно быть решено окончательно лишь одной Россией и по идее русской» [Достоевский XXIII, 151]. Это значит, что, вопреки Данилевскому, смысл существования России вовсе не состоит в утверждении славянства, но сами судьбы славянства имеют подчиненный смысл относительно русской Пан-Идеи, а во-вторых, славянам отводится роль политического лимитрофа с достойной свободой по отношению к России. Лишь в пору увлечения дележом Европейского полуострова между Россией и Германией он увлекается «всеславянской философией». По сути же, славяне в его глазах образуют общинное окраинное соседство, окаймляющее Россию в пору ее отмежевания и отделения от Европы; цивилизационный же статус России не сводится к лингвистическому славянизму.
Поэтому понятно, что для него немыслимо соучастие России во владении Константинополем с другими славянами, по Данилевскому, «если Россия им неравна во всех отношениях – и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым» [Достоевский XXVI, 83]. «Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос» [там же, 81]. Царьград должен достаться России не как столица всеславянства, а необходим ей, помимо стратегического значения, как охранительнице православия. Но и в этом качестве он немыслим как русская столица без того, чтобы не спровоцировать в ней жестокий кризис. «Царьград не Россия и не может стать Россией» [Достоевский XXIII, 49]. Там императоры русские перестали бы быть русскими, а стали бы императорами всего православия; эта идея была близка допетровскому Царству и не чужда даже Петру. Слова о том, что новая империя должна была бы выйти из России, «как из желудя выходит дуб» [там же, 199], заставляют вспомнить эмбриологическую метафору Тютчева. Но в этом случае инстинкт самосохранения грозил бы разделением и взрывом такой православной империи, ее географическим расколом. «Мощный великорус остался бы в отдалении на своем мрачном снежном севере, служа не более как материалом для обновления Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть (воспроизведя в более грандиозных формах русский раскол XVII в. – В.Ц.), совершилось бы распадение самого православия на два мира: на обновленный царьградский и старый русский» [там же, 48 и сл.].
С ужасом обращается Достоевский к картине опустевшего, переставшего служить столицей Петербурга – к той картине, что когда-то радовала воображение Погодина: «множество домов без поддержки, без штукатурки, дырья в окнах – а посреди – памятник Петра» [там же, 199]. Не исключено, что мотив Петербурга как города-призрака, готового исчезнуть, оставив сторожащего болота и пустоши Медного Всадника (в «Подростке»), изначально связан с идеей геополитического переворота, влекущего за собой перенос столицы (предвосхищение картины покинутого правительством Петрограда в дни Гражданской войны). Наконец, Достоевский договаривается и до того, что «завоевание Константинополя теперь (сентябрь[42]42
Ошибка автора. Цитируется одна из редакций текста «Дневника писателя» за июнь 1876 г. – Примеч. ред.
[Закрыть] 1876 г. – В.Ц.) было бы более гибельно, чем полезно…. Великорус может согласиться лишь на первенство, но греки как теперь немцы…. И тогда … уже не великорус будет первенствовать и вести, а дело православия, ибо славян, греков и великорусов (поразительный ряд, где великорусы противополагаются одновременно грекам и славянам. – В.Ц.) могла бы связать в целом лишь весьма сильная идея, а только православие нет. И великорус, может быть, обособился бы, отъединился» [там же, 199]. Иначе говоря, Константинополь как столица породил бы кризис в отношениях между пан-православной имперской идеей и геокультурной идентичностью русских и Россией – кризис, который бы разрушил православие и «всемирное» самосознание русских, отвратил бы их от их «призвания» и толкнул к самоизоляции от южных центров православия. Единственным возможным решением, по Достоевскому, может быть Константинополь – нейтральный город под исключительным покровительством России – метрополии православия, обретший статус ее окраинного владения. Такой ход прочно закрепил бы перефокусировку православия на север и вглубь материка, закрепив за Константинополем и южными православными землями, как и за славянскими областями, положение опекаемых окраинных зон цивилизации северного православия[43]43
Собственно, лишь один раз Достоевский поколебался в этой установке – опять же, в пору своего наивысшего увлечения идеей германо-русской сделки, когда, увлеченный мыслью о якобы готовящейся перекройке Европы, он желал России «на некоторое время забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, ввиду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего „при дверях“» [Достоевский XXVI, 84].
[Закрыть].
Берлинский конгресс и последовавшее за ним возрождение на новых началах «Союза трех императоров» совпали с двухлетним перерывом в издании «Дневника писателя». У Достоевского было время пережить крах надежд на русско-германское соглашение, которое бы позволило включить в «русское пространство» Константинополь, выход в Средиземное море и славянский (балто-балканский) порог Европы. Перед смертью поворот в геополитической мысли Достоевского становится очевиден; причем, поворот не прямо геостратегический, как у Данилевского («в Константинополь через Калькутту»), но более фундаментальный, охватывавший сам стиль геополитической имагинации. На то были и давние предпосылки. Еще в набросках от ноября 1875 г. (до начала своего «германского эпизода») Достоевский связывает судьбы южной линии Сибирской железной дороги с будущим Китая. Задолго до того, как тема «желтой опасности» заполонит русскую прессу, он предсказывает, что Китаю «достаточно только некоторого расширения кругозора и мысли или толчка от реформ, несомненно имеющего последовать даже от самых первоначальных военных реформ (при которых не может не прийти сознание силы, сплоченности и единства), чтоб не догадаться, что кругом пустые и богатые земли, Сибирь не Средняя Азия, а их, китайцев, бесконечно много, чтоб не помыслить захватить эти земли. С первой военной идеей… чтоб не догадаться, до какой степени эти земли слабы и незащищенны и даже в дальнейшем защищены быть не могут». Предрекая наступление модернизированного Китая на русский Восток «не сейчас, но, конечно, лет через 50», Достоевский делает на полях заметку «О Японии» [Достоевский XXIV, 83–84]. Тема опасности с Востока начинает переплетаться с размышлениями о восточных окраинах и границах в контексте обсуждения новых задач – задач эпохи российского пребывания вне Европы.
Другим стимулом интереса Достоевского к Азии стала его крутая полемика с заметкой либерала Л.А. Полонского в «Вестнике Европы» за 1876 г. В этой заметке автор предупреждал насчет вероятных волнений российских мусульман в случае войны с Турцией: «Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа, должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Эта заметка в западническом журнале вызвала у Достоевского яростный ответ насчет того, что политика России не может быть ориентирована на предпочтения инородческих групп. «Русская земля принадлежат русским, одним русским… и ни клочка в ней нет татарской земли» [Достоевский XXIII, 127]. Однако, тогда же в набросках к «Дневнику» он записывает, что «пока существовала Казань, нельзя было предсказать, кому будет принадлежать европейская Россия: русским или татарам», а в самом «Дневнике» проскальзывают слова: «Я столько же русский, сколько и татарин» [Достоевский XXIV, 258; XXIII, 189]. Так намечается тема становления России из Азии, отступающей перед русскими и преображаемой ими, России, крепнущей наступлением на Азию и господством над нею, при этом являющей новое качество по сравнению с азиатским строительным материалом.
В последнем подготовленном номере «Дневника писателя» Достоевский помещает статью, посвященную развернувшемуся под прикрытием «Союза трех императоров» наступлению России в Туркмении и занятию Геок-Тепе экспедицией Скобелева. Овладение Константинополем и проливами сдвигается в неопределенное будущее (не в то ли, где видится суд России над Европой?) Подготовкой же эсхатологического будущего должно стать низведение широты азиатских пространств и массы исламских народов под руку Белого Царя, распространение его власти на мусульманский мир, подготавливающее самих турок к занятию русскими Константинополя как неизбежному итогу этого шествия Империи в Азии. Вся эта статья – своего рода геоидеологическое завещание Достоевского с ее декларациями о «мире-океане земли Русской, море необъятном и глубоком», о «понимании и смирении перед великой землей Русской, перед морем-океаном» (эта статья может рассматриваться как один из источников топики «континента-океана» у евразийца П.Н. Савицкого). С заметками 1876 г. ее объединяет один мотив – ожесточенное сопротивление тем энтропийным тенденциям, которые видятся Достоевскому в русском западничестве. Если в том году он спорил с призывами соотносить политику Империи с построениями и чувствами «инородцев», азиатского, неадаптированного человеческого материала, то в 1880-1881 гг. так же резко спорит с запугиваниями вроде «в Азию пойдем – сами азиатами сделаемся». В заметках того времени жестоки его нападки на западников-«редукционистов», чью логику он глумливо пародирует словами: «Окраины всё это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи, Россия до Урала, а дальше мы ничего и знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и американцам. Среднеазиатские владения подарим Англии. А там какую-нибудь киргизскую землю это просто забудем. Россия-де в Европе, и мы европейцы и преследуем цели веселости. А более никогда и ничего, вот и всё» [Достоевский XXVII, 73]. Любое из этих решений – и в «России масса инородцев, а потому политика не может не учитывать их международных ориентаций и пестроты», и «в Азию пойдем, если азиатами сделаемся… Окраины – это вздор, всё это мелочи и с другого боку, всё мелочи» – бескомпромиссно отвергается Достоевским в пользу резко контр-энтропийного образа Империи Белого Царя, простирающейся по материку и охватывающей миллионы азиатов, придавая этим массам новую форму бытия. Становление России из Азии вопреки «азиатчине», в преодолении и переоформлении ее – в этом образе колонизационно-цивилизаторский пафос вполне в духе наступившей колонизаторской интермедии европейского милитаризма слился с древней идеей Православного Царства, каковое, беря под свою руку массы неверных, подготавливает окончательное решение мировых судеб – в эсхатологической, четвертой фазе русской истории, по Достоевскому, куда после Берлинского конгресса сдвигается и решение константинопольской проблемы.
Осмысление Восточного вопроса в последней статье Достоевского и в его подготовительных заметках, несомненно, должно рассматриваться как одно из вершинных геоидеологических самовыражений нашей первой евразийской эпохи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































