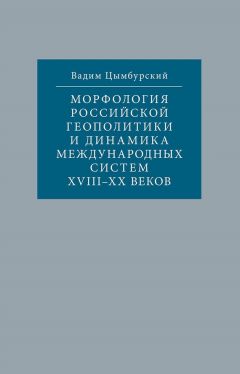
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
VIII
Итак, каковы особенности геополитической мысли этого времени, когда Россия входит в свою первую евразийскую фазу, еще не предвидя ее подлинной продолжительности, а в 1870-х пытается вновь вернуться в Европу, но терпит поражение, чтобы вернуться к более глубокой проработке евразийской сюжетики.
Некоторые черты этой мысли прорезались уже на исходе Крымской войны, в «откатной» фазе D первого стратегического цикла. Таковы жесткая констатация П.А. Вяземского «Россия и Европа уже не одно, а два существа», два сообщества на отдельных пространствах и его же мысль о том, что в новую эпоху Россия будет присутствовать в жизни Европы «своим отсутствием»; это тезис Погодина о необходимости для поворота России к Азии надежных буферов, которые бы прикрыли ее «от Балтики до Дарданелл»; это замечания Вяземского и И.В. Вернадского о превращении «восточного вопроса» в «английский вопрос». Позднее А.Е. Снесарев, развивая эту мысль, заявит, что в этой фазе Англия фактически навязала России свое понимание Восточного вопроса; он становится вопросом англо-русского баланса сил и влияния вдоль евроазиатского приморья от Дарданелл до Китая, причем фокусом спора становится с английской подачи зона Центральной Азии, нависшая над Индией. Восточный вопрос, казалось бы, получал формулировку, при которой он перестал соприкасаться с вопросами европейского баланса, определяя кристаллизацию за пределами «коренной» Европы – новой евразийской конфликтной системы, потенциально осмысляемой как противостояние вне коренной Европы ее морского и континентального маргиналов.
Нельзя сказать, чтобы это видение в России стало общепринятым. Официально борьба всё так же идет за черноморские проливы – настоящее «устье Днепра и Дона» (М.А. Терентьев). Угроза Индии мыслится огромным вспомогательным маневром, как отчасти и «сброс Аляски», но сама масштабность этого маневра ведет к тому, что тема Константинополя переосмысляется кардинально. СВ. Лурье отмечает очень точно: геополитическая игра России, обретя стратегическую виртуозность, утрачивает однозначную цель. Дело не только в том, что стремление к Константинополю в принципе перестает увязываться с задачами реконструкции коренной Европы, с перестройкой ее по русскому проекту. Дискредитированной оказывается сама идея выноса российского центра на освобожденный от мусульманства порог Ближнего Востока, в преддверие Средиземноморья.
Лурье связывает это явление с «константинопольским комплексом» России, со страхом перед возрождением Второго Рима, обессмысливающим Третий Рим (вспомним нежелание Бисмарка интегрировать Вену – центр Первого Рейха – непосредственно в пространство Второго Рейха, собираемое вокруг Берлина). Лурье считает этот комплекс константой нашей Империи, полагая, что он проявлялся уже в политике Николая I. Однако, как мы уже видели, геоидеологии времен нашего первого европейского максимума этот комплекс чужд – идет ли речь о Тютчеве, Герцене или Погодине начала 1850-х: все эти авторы не страшатся шага, за которым им видится переход России, Европы и мира в целом в новое качество, исчерпывающее как эпоху европейского буржуазного модерна, так и существование Петербургской монархии. В новую эпоху «константинопольская опасность» становится предметом геоидеологического дискурса, толкая к разработке сценариев, которые позволили бы встроить Царьград в российское или околороссийское пространство, не нарушая идентичности последнего, не порождая в нем цивилизационных и политических потрясений.
Данилевский оспаривал сакральность Константинополя и, стремясь избежать оттягивания этим городом сил России, не находит лучшего выхода, чем сделать его центром конструируемого Россией славянского Большого Пространства. Но поскольку, по логике его историософии, лояльность к этому пространству должна быть для самих русских выше лояльности к России, он в конце концов склоняется к тому, чтобы оставить Константинополь за турками, включив последних в российскую зону при разделе Евро-Азии. Тот же константинопольский страх сквозит и у Достоевского (связываясь с мотивом обращения Петербурга в город-призрак), и даже у позднего Погодина. Отстаивая панправославную трактовку Восточного вопроса, Достоевский приходит к заключению, что гармонично спаять русских, греков и славян в единое пространство могла бы лишь идея более мощная, чем православие в его исторической данности. В 1878 г. в записке Александру II Б.Н. Чичерин напишет о том, что «ни один здравомыслящий русский не думает о завоевании Турции и о присоединении себе Константинополя». Далее идут уже привычные аргументы насчет опасности ухода центра Империи на юг, утраты русскими своей мировой особенности, отодвигания их на второе место в Империи и т. д., с характерным заключением: «Если Россия должна оставаться Россией, она не может сойти со своего места и стать у Средиземного моря», – вызывающим у Александра II реплику «Совершенно справедливо» [Сказкин 1964, 418 и сл.]. Как и Данилевский, Чичерин выступает против «преждевременного» изгнания турок с Балкан, влекущего за собою экспансию в этом регионе европейских великих держав, что опять же получит полное одобрение Александра II. Вопреки Данилевскому, Милютин даже готов в 1880 г. нейтрализовать проливы общеевропейской опекой, чтобы тем самым прикрыть этот фланг евроазиатского англо-русского фронта (как на востоке тихоокеанский фланг укрепляла продажа Аляски). Второй Рим теряет свою эсхатологическую притягательность («близ есть, при дверях»).
Эпоха отмечена прощупыванием потенциальных евроазиатских пределов российского пространства, «русского дома»; причем Царьград ощущается как участок того пространства, где Россия уже определенно переходит в «не-Россию». В этом смысле другие направления меньше внушают тревогу; во всяком случае, авторы, испытывающие такую тревогу (перед «туранизацией» России), редко бывают способны ее строго аргументировать. Формулировка Р. Фадеева «Славянство или Туран» неубедительна ни для Данилевского, для которого «Туран» относится к естественным владениям славянства в Евро-Азии, ни для Достоевского, который настороженно трактует <мусульманские народы Империи> как маргиналов Европы и потенциальных недругов России, одновременно рисуя величественную картину покорения и преображения православной Россией (на пути к Константинополю и к финальному суду над Европой) всей подчиняющейся Белому Царю тюрко-мусульманской Азии. И в этом смысле очень интересен развернувшийся в первой половине 1880-x на страницах славянофильской «Руси» спор между Е.А. Марковым и И.С. Аксаковым по поводу взятия Мерва. Марков панически уверяет, что с момента русского выхода в XVI в. за Урал (Камень) «шаг за шагом, незаметно, каким-то роковым, будто невольным образом, оттянуло нас от себя самих, от Европы и европейского и утопило сперва по колени, потом по горло и теперь уже выше макушки … в азиатчине, в дичи всякого рода. Да поможет же нам наш русский Бог избавиться с этой поры от всяких подобных приобретений!.. Пора, наконец, знать, где кончаются стены нашего дома и где начинается чужбина!» Ответ Аксакова сводится к тому, что на деле границы русского дома еще вовсе не определены, Россия «все еще не сложилась, всё еще пребывает в периоде формации – формации даже внешней географической». Волга, которую Марков полагает «исконно русской» рекой – изначально река татарская, азиатская. «Русская» Волга с ее русской торговлей немыслимы без серьезного российского контроля над Каспием и его азиатскими берегами. Точно так же Черное море есть продолжение русских рек, и его безопасность невозможна без замирения Кавказа. Контроль же над Кавказом и Каспием требует соглашения с Персией, если не сюзеренитета над нею. Как и для Достоевского, для И. Аксакова, Россия строится на землях, отвоевываемых, изымаемых у Азии, обретающих новый образ по мере того, как русским приходится «догонять лютую азиатчину до самых ее источников и тем ослабить, обезвредить ее навеки». Но точно так же и прямых контактов с Европой Россия не могла добиться иначе, как встав в непосредственные отношения к более просвещенному Западу помимо его ретивых аванпостов, т. е. сокрушая буфера по его окраинам (польские, шведские, восточногерманские и иные). Черноморские проливы, юг Каспия, горная гряда по югу Средней Азии становятся, как и в модели Данилевского, единственно надежными пределами русского дома, на западе такой предел обозначает Галиция, позволяющая прочно опереться на Карпаты. Земли для «русского дома» должны быть отвоеваны у Азии и у окраинной Европы, надежна лишь та Россия, которая прочно обоснует себя и укрепит за счет не-России и недо-России.
Аксакова при всей яркости его пера оригинальным мыслителем считать трудно; скорее, он ярко озвучивает ряд тем, возникающих у авторов этого времени. Это тема азиатской границы России, намеченная Венюковым, фактически ставящим русских перед выбором: либо держаться границы «ядровой» России по рубежам леса и степи; либо опереться на прочную южную гряду гор с охватом русской границей массы тюрок-среднеазиатов; либо ограничиться бассейнами рек, текущих к Ледовитому океану и омывающих русские леса; либо полностью охватить бассейны закрытых центрально-азиатских водоемов, приходящихся на степи и пустыни. Любое промежуточное, половинчатое решение может быть временным, давая подвижную полуоткрытую границу типа фронтира. Работы Венюкова продемонстрировали крупнейший парадокс России, отличающий ее от европейских государств, где прочные территориальные разграничения тяготели к рубежам, разделяющим европейские нации. С эпохи выдвижения России в степи стремление утвердить на неевропейских направлениях твердые границы европейского типа, придать России на юге облик территориального государства неизбежно вело к перенасыщению ее инородческими элементами, к имперской полиэтничности. Если считать чертой национального государства прочную очерченность границ, а атрибутами империи одновременно полиэтничность и мирообъемлющую «открытость», потенциальную готовность к охвату ойкумены, то применительно к России эти типологические приметы входили в явное противоречие между собою; она могла утвердиться как прочная территориальная держава, только дойдя до рубежей, при которых охваченная ею масса народов исключила бы возможность осмыслить Россию в качестве национального государства (но тогда не могло быть никакой гарантии, что эти рубежи станут окончательными; возникала опасность распада России в поликультурных и полицивилизационных протяженностях континента). Или стоило бы, в конце концов, вспомнить слова Венюкова о том, что в своей истории более органичной границы, чем на начало XVIII в., границы, идущей за районом евроазиатских сибирских лесов, Россия никогда не имела. Венюков очертил, с одной стороны, границу «России-Евразии», вобравшей в себя все земли, лежащие за пределами арабо-иранского Среднего Востока – географической цитадели мусульманской цивилизации. С другой стороны, контревразийскую границу «ядровой России» – границу, имеющую характер фронтира, мотивированного экологически и окаймляющего гидрологически ядро российской цивилизации – и тем самым отличающегося по сути от произвольных, конъюнктурных фронтиров, которые, прочерчиваясь в XVIII – первой половине XIX в. в степях и пустынях Средней Азии, приближались к типу зыбких размежеваний между кочевническими империями (в ряде моих работ я трактую эти две границы, выделенные Венюковым, как границу России, вобравшей в себя межцивилизационную Евразию, и, соответственно, границу противопоставленного этой Евразии коренного «острова России», притом, что сам доимперский «остров Россия» XVI-XVII вв. трактуется в соответствии с моделями Достоевского и Аксакова как восставший из окраинных, тюрко-монгольских, азиатских пространств, взорвавший их и поставивший на них новую цивилизацию).
Ясно, что в таких именно условиях с конца 1850-х по 1870-е гг. закладываются основы евразийского видения русской истории, причем в этом отношении не приходится недооценивать значение отечественной реакции на построения Ф. Духинского в духе «борьбы цивилизаций». В частности, Погодин в этом споре предельно внятно сформулировал вывод Духинского о том, что «великороссияне, или москвитяне, есть вновь образовавшееся племя из смеси разных уральских племен – финнов, татар, турок, под влиянием немногих русских колонистов, уже после нашествия татар» [Погодин 1876, 415]. Педалируемая Духинским идея автономного пространства специфической «московитской» цивилизации, противостоящей цивилизации европейской (включающей и славянскую окраину), отвечала духу нашей евразийской интермедии. Двинско-днепровский барьер этой «московитской» цивилизации, по Духинскому, был принят и Горчаковым, и Р. Фадеевым за границу «ядровой России» (от сих и до Тихого океана). Причем, если Герцен принял эту делимитацию безоговорочно вместе с оценкой русских как «плохих славян», которых именно тюрко-финская примесь спасает от европейского «загнивания», то Фадеев в страхе перед «туранизацией» России сделал в судьбах ее упор на балто-черноморскую полосу между ядровой Россией и ядровым Западом, объявив о судьбоносности для России этого цивилизационного «междумирия» (на деле функционально аналогичного «интервалу Венюкова» между зоной северных евроазиатских лесов – исконной нишей России – и окаймленным горными хребтами иранским Средним Востоком). Впрочем, либералы 1870–1880-х гг. колеблются между страхом перед «погрязанием в Азию» и призывами учитывать в политике настроения российских мусульман как «меньших братьев» в имперской семье. Достоевский, с отчужденной настороженностью относясь к славянам, поставил решение «константинопольского вопроса» в связь с православным господством над тюрко-исламским миром вообще, а П.А. Вяземский еще в 1850-х додумался до «восточного» цивилизационного сродства славян (включая русских) и турок.
Так выстраиваются в эти десятилетия образы> России с различением глубинного ядра (на западе очерченного Герценом и Фадеевым, на юге – Венюковым) через различные расширения и укрепления «русского дома» вплоть до различных версий «российской доктрины Монро», исключающей романо-германский Запад, от которого эта доктрина требовала «не лезть в сферу нашей деятельности и оставить нас в покое» (И. Аксаков), вплоть до российского покровительства, по Данилевскому, всей континентальной Азии против Западного натиска с допусканием отвлекающих дестабилизирующих ударов по Британской Индии, каковую, кажется, ни один из идеологов этой поры не включал в пределы русского мира даже в крайне расширенном его понимании. Очевидно, во всех этих смыслах потенциальное «пространство России» конструируется как обособленное от «пространства Запада», противопоставленное ему и каким-то образом его уравновешивающее, хотя физико-географические основания такого разделения прочерчиваются достаточно условно. Именно упор на геокультурном контрасте миров делает возможным, как у Достоевского, недоверие к славянам (даже к украинцам), трактуемым, прежде всего, в качестве «параевропейцев», и увлечение Азией как миром, который Россия должна переустроить, на его покорении и преображении основав конечную свою судьбу: так результируются драматичнейшие колебания Достоевского между пафосом подавления и уничтожения Азии («ни метра земли татарской», «халаты и мыло») и пафосом сродства с ней («я столько же русский, сколько и татарин») – результируются мотивом перерождения Азии в русское «всечеловечество», тогда как отличением русских от славян, которые долго еще будут не способны понять смысл Восточного вопроса, намечается на западе различие между цивилизационным ядром и интервалами-лимитрофами.
Если горчаковская политика пытается следовать старому принципу российской заинтересованности в европейском балансе, то в трудах протоевразийских геоидеологов этот принцип претерпевает решительный пересмотр. Данилевский связывает строительство «славянского пространства» в континентальной Евро-Азии как Анти-Европы, противовеса Европе в рамках бинарной системы цивилизаций. При этом он формулирует причины заинтересованности России в поддержании Запада в состоянии неустойчивого контролируемого дисбаланса – и вместе с тем отмечает неизбежную зависимость устойчивости славянского пространства от политики прифронтовых государств, соседствующих по российскую сторону с ядровой Европой. Достоевский идет еще дальше, допуская прямую кооперацию России с восходящим Вторым Рейхом, вплоть до русского согласия на полную политическую германизацию Европы при условии уступки русским контроля над «Востоком» (причем, славянство оказывается независимым буфером). В конце концов, он доходит до идеи возрожденного союза России с восходящим германским центром Европы против западного центра, присоединяющего к себе Англию: вариант, в общем, несколько раз намечавшийся в 1870-х и 1880-x, но сорвавшийся отчасти из-за горчаковского страха перед германской гегемонией, главным же образом, из-за резкого расхождения трактовки положения Балкан и Восточной Европы в рамках российской и германской картин мира. Лучше всего оценил это расхождение Р. Фадеев, предсказав устремление германского блока к Черному морю и его ставку на полную «туранизацию» России (впрочем, и Достоевский в черновиках допускал такое развитие). Таким образом, Восточный вопрос становится вопросом преимущественно «берлинским» или «английским» в зависимости от того, рассматривается ли он по преимуществу в рамках балто-германского (resp. балто-балканского) пространства или в рамках евроазиатского англо-русского противостояния, – собственно, в зависимости от того, рассматривается ли Юго-Восточная и Центрально-Восточная Европа как часть русского пространства.
Наиболее всесторонние итоги первого периода нашей первой евразийской фазы попытался подвести Венюков в своем эмигрантском памфлете «Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора». Он констатировал l) резкое умаление русского влияния в Европе («стоит ныне ниже, чем пятьдесят лет назад»); 2) содействуя выращиванию единой Германии, Россия, оказывается, охвачена германским давлением на Западе и английским на Востоке (Тихий океан); 3) германское сообщество всё полнее берет под контроль и Черноморские проливы, и Балтику; 4) Россия достигает на азиатском материке своих вероятных окончательных пределов, получая возможность устроить на совершенно дружеских началах свои отношения ко всем азиатским силам, кроме Турции и Англии; 5) однако, по Венюкову, у России якобы всё еще нет настоящей азиатской политики из-за «неведения правительством его азиатских интересов и… предпочтения им европейских, часто притом ложно разумеемых»; 6) один из таких ляпсусов – попытки ублаготворить Англию: между тем, «войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится подготовлять … ее успех» заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании (Соединенные Штаты, передачу коим Аляски Венюков одобряет), изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием сильного наступательного флота и т. д. [Венюков 1878а, 382–387]. Итак, предлагается сосредоточение на евроазиатской борьбе с Англией при уступке балто-черноморского преобладания германскому блоку, несмотря на всю угрозу с его стороны.
Поразительно заключение Венюкова о том, что Россия после Крымской войны не может считаться мировой державой, поскольку ее деятельность не сказалась в Африке, Австралии и большей части Америки. Как если бы в пору нашего европейского максимума Россия оказывала влияние на эти части света (за исключением стратегически совершенно непонятной и неиспользованной Русской Америки). По сути, именно после Крымской войны роль России впервые начинает поверяться ее отношением к материковой и приморской Азии, что и побуждает ее геоидеологов всерьез задуматься о внешнем поясе территорий, колонизируемых европейцами, в особенности Англией (это уже подступ к моделям окруженного водами Срединного Мира или Мирового Острова, по Ламанскому и Маккиндеру, переходящим в парадигмальную геополитику XX в.). Тем самым конституируется мировая роль России вне Европы, не только определяющая российское присутствие в Европе через отсутствие в ней (по Вяземскому), но и привлекающая к России интерес представителей неевропейских цивилизационных сообществ.
Если наш европейский максимум отзывался на Западе то пугающими, то соблазнительными видениями российско-европейской универсальной монархии, то теперь английские авторы, намного опережая и как бы провоцируя русских, муссируют идею российского вторжения в Индию. Одновременно отец пантюркизма Исмаил-бей Гаспринский намечает контуры проекта, который он позднее назовет «русско-мусульманским соглашением». По Гаспринскому, «разрозненные ветви тюрко-татарского племени, в свое время единого и могущественного, постепенно переходят под власть России и делаются ее нераздельной составной частью. … Рано или поздно границы Руси заключат в себе все тюрко-татарские племена и в силу вещей … должны дойти туда, где кончается населенность тюрко-татар в Азии» [Гаспринский 1993, 17]. В свое время татарское господство «охранило Русь от более сильных чужеземных влияний и своеобразным характером своим способствовало выработке идеи единства Руси» [там же, 25]. При этом, отмечает Гаспринский, русские как государственные строители минимально способны к ассимиляторству; скорее, они ассимилируются сами, «поддаваясь влиянию окружающих инородцев, перенимая их язык, без оставления, конечно, своего, также как и некоторые обычаи, поверья и одежду» [там же, 38]. «России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы…. Рано или поздно русское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного развития и цивилизации остального мусульманства» [там же, 18, 45]. Наша евразийская фаза оборачивается в воображении российского пантюркиста идеей России – «великой мусульманской державы», общей отчизны тюрок, когда-то у них почерпнувшей свою государственную идею и поднимающей их до роли авангарда мирового мусульманства.
Со стороны русских попытки религиозно осмыслить такое строительство, как у Достоевского, намечаются с определенным запозданием. Лурье склоняется к мысли о том, что в эту пору «константинопольский комплекс», вырывающийся на поверхность геоидеологии, и всё более усваиваемые «английские видения» Восточного вопроса в принципе дискредитируют принцип нашей Империи как универсального православного государства, стремящегося к умножению и политическому самоутверждению православного народа, к освобождению древних православных областей и внедрению православия в области, ранее им не охваченные. По Лурье, эта программа терпит крушение из-за попыток приспособить ее к строительству российского государства. Константинополь внушает страх превращением России в периферию воскресшего Второго Рима; в старых христианских областях (Грузии, Армении) к власти приходят национальные элиты, энергично противящиеся их русификации. Принцип утверждения русского центра берет, по Лурье, верх над служением православной идее, универсализм Империи подрывается отстаиванием самоидентичности (постоянное напряжение между «русскостью» и «всемирностью» у Достоевского, ведущее к отождествлению «всемирности» с «русскостью» в потенции, с предвидением Пан-Идеи, которая смогла бы сплотить православный мир, став «больше» православия, и определила бы российский «суд» над Европой). Еще курьезнее, что, распространяя свою власть на казахские степи и Среднюю Азию, Россия фактически отказывается от насаждения здесь православия, всё более сохраняя за ним статус узконациональной религии, применительно же к владениям подменяя его, с одной стороны, расплывчатым принципом «христианской цивилизации» (отождествляемой западниками с расплывчатым «европеизмом для Азии»), а с другой стороны, попечительством о традиционных религиях всех подданных Империи. Как отмечает Лурье, такая стратегия объективно ведет к исламизации народов, до тех пор не охваченных влиянием этой религии, широкому использованию ислама как средства дистанцирования от России наряду с подчеркиваемым в «России и Европе» Данилевского пафосом вхождения в Европу помимо России и в обход ее. Страху туранизации контревразийская реакция, собственно, не могла ничего противопоставить, кроме попыток, «преследуя цели веселости», вернуться в «Европу до Урала» (Е. Марков) или стремления переопределить российскую идентичность через упор на славянские пространства между Германией и Днепро-Двинским барьером, сродство которых с Россией выглядит всё более сомнительным. Позднее евразийцы, принимая за идеал России империю в тех границах[44]44
Текст главы обрывается на этом предложении, конец которого мы попытались реконструировать, принимая во внимание содержащиеся в 10-й главе суждения автора о геополитической концепции евразийства. По всей видимости, в ходе написания данной главы, своим объемом уже явно превзошедшей другие исторические части диссертации, В.Л. Цымбурский решил изменить структуру работы и вынести материал о геополитических исканиях второй половины евразийской интермедии, связанные в первую очередь с активностью Империи на Дальнем Востоке (т. е. период от Берлинского конгресса до падения Порт-Артура), в две последующие главы – ориентировочно 6-ю и 7-ю, которые так и остались не написанными. Можно предположить, что по первому замыслу единая 5-я глава, посвященная первой евразийской интермедии, в окончательной структуре диссертации делилась на три отдельные главы: рассказ о второй половине рассматриваемой эпохи автор первоначально хотел вынести в отдельный параграф. – Примеч. ред.
[Закрыть] <,какие образовались с отпадением Польши, Финляндии и Прибалтики, прямо сделают ставку на «туранизацию» России как неизбежное следствие выхода Империи за пределы своей ниши на юге и ее отрыва от славянских пространств на западе.>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































