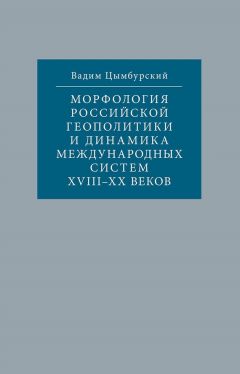
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Потому в СВЦ II военная политика и сама война отличаются от военной политики и войны предыдущего цикла по всем показателям: начиная с Наполеона, господствует образ победы, лишающей противника способности сопротивляться [Клаузевиц 1937, т. 2, 110. Фош 1919, 37. Фош 1924, 289. Людендорф 1923, 7]. Основой войны и главным ее воплощением является бой: военные писатели стремятся представить стратегический успех как сумму успехов боевых, тактических [Клаузевиц 1937, т. 1, 71, 75. Фош 1924, 279. Фош 1919, 34]: любые преимущества в позициях, маневрировании и т.д. осмысляются как «векселя», по коим рано или поздно должна будет произвестись «уплата кровью». Интенсивность борьбы в войнах XIX в. выражается цифрой от 3 до и битв в месяц, а применительно к войнам мировым, по замечанию военного статистика Б. Урланиса [Урланис 1994, 526, 528], вообще становится «трудно говорить о каком-либо интервале между битвами… Вся война представляет как бы непрерывную цепь битв». В отношении численности армий господствует принцип «чем больше, тем лучше»: популярны уже упоминавшиеся идеи «вооруженного народа», «армии граждан», «народной войны». Ни о какой снабженческой автономии армий в годы войны говорить не приходится: нации трудятся «во имя победы», а, значит, закономерно возрождается практика контрценностных действий против мирного населения, подрывающих экономический базис противника.
Очевидны политические следствия, проистекающие из такого эталона войны и победы. Почти все войны в СВЦ II идеологически аранжированы: битвы Французской революции и Наполеона I с Европой Старого порядка, походы Наполеона III за «права наций», Крымская война либеральных наций против России – «европейского жандарма», борьба России с Турцией за освобождение славян, национально-воссоединительные войны, утверждающие «железом и кровью» германскую и итальянскую государственность. В первой половине XX в. установка борющихся держав на «абсолютную победу» толкает к головокружительной эскалации политических и идеологических мотивировок войны, вплоть до планов Третьего Рейха или образов мировой классовой битвы в трудах советских военачальников 1920-х гг. (М. Тухачевского, И. Вацетиса и др.). Ставкой в войнах этого цикла легко становится само существование борющихся режимов: режимы, скомпрометированные в глазах народов неумелым ведением войны, нередко бывают сметаемы революциями – если сами победители не ликвидируют эти режимы в залог своей гегемонии. К таким результатам ведет торжество мобилизации над уничтожением.
Создание к концу Второй мировой войны ядерного оружия открывает новую эпоху, отмеченную, как и СВЦ I, перевесом возможностей уничтожения над потенциалом мобилизации, но потенциалом уже не абсолютистских режимов Европы, распоряжавшихся ограниченной долей национального достояния, а крупнейших наций мира как таковых. Уже в 1950–1960-х гг. военная и политическая элита США – государства – лидера западной цивилизации, первым создавшего и применившего ядерное оружие, сталкивается с необходимостью осмыслить ситуацию ядерного тупика, которая оказалась способна – в случае войны на слом противника, сравнимого по мощи, – обернуться ситуацией глубоко неприемлемой для любой стороны, будь то «побежденной» или «победившей». За несколько лет в трудах Г. Киссинджера [Kissinger 1957], М. Тейлора [Тейлор 1961], Р. Осгуда [Осгуд 1960], В. Кауфманна [Kaufmann 1956], англичанина Б. Лиддел-Гарта [Liddell Hart 1954] и других авторов был разработан тип «ограниченной войны», причем за основу оказалось принято стремление ограничить цели такой войны, свести ее к борьбе за четко определенные политические уступки со стороны противника. Из этой предпосылки были выведены следствия для всех уровней стратегии национальной обороны. Кое-какие из этих выкладок остались сугубо интеллектуальными конструкциями, но в целом на Западе обозначилось новое понимание войны и победы, исходя из которого только и можно понять военную политику и стратегию западного мира с тех пор, как администрация Дж. Кеннеди приняла новую доктрину «гибкого реагирования»[16]16
Примеч. ред. Здесь рукопись данной части работы обрывается.
[Закрыть].
* * *
Только разработка концепции СВЦ Запада дала возможность разрешить в общем виде поставленные выше вопросы, относившиеся к изменчивой скорости протекания циклов системы «Европа-Россия», они же стратегические циклы Российской Империи. Как отмечалось, со второй четверти XVIII в. Россия пережила, следуя этому имперскому циклу, 14 фазовых переходов, считая за такой переход и само включение ее в 1720-х гг. в силовой расклад Запада.
Легко видеть, что из 280 лет, протекших с тех пор, немного более 150 приходится на экспансивный СВЦ II, отмеченный преобладанием мобилизации над уничтожением – и эталоном победы как «лишения противника возможности сопротивляться». И около 120 охватываются исходом СВЦ I и начальной фазой СВЦ III, то есть депрессивными волнами. Очевидно, что из 14 фазовых переходов в цикле системы «Европа-Россия» всего два – вступление России в европейский расклад в XVIII в. и крушение восточноевропейской гегемонии СССР с последующим роспуском Союза и сжатием России – приходятся на депрессивные волны, именно вписываясь в их модель, когда налицо попытки сил Запада ставить крупномасштабные политические цели в рамках зауженного эталона всякой победы. Напротив, 12 фазовых переходов приходятся на СВЦ II с его экспансивной тенденцией.
Более того, из этих 12 переходов – четыре (агрессия Наполеона, строительство Священного Союза, переход к Крымской войне и начало первой евразийской интермедии) приходятся на инициаль (1792–1871), когда складывался новый тип войны и военной политики. Семь переходов «ложатся» на «тридцатилетнюю войну» XX в. (1914–1945): кризис участия России в Антанте, западная экспансия на земли Империи, попытка экспорта революции в Европу, крах этой попытки, евразийское «строительство социализма в одной стране» с продвижением в соседние азиатские области, пакт Молотова-Риббентропа, гитлеровская агрессия и создание Ялтинской системы. Лишь один переход – вступление России в Антанту – приходится на интермедию этого цикла, но и он принадлежит к кануну этой «тридцатилетней войны».
Итак, на депрессивных волнах Запада циклы «Европа-Россия» разворачивались со скоростью – максимум один фазовый переход за 60 лет. На экспансивной волне средняя динамика подстроенного цикла – один переход за 12, 5 лет, причем в инициали – в среднем, на такой переход требуются 20 лет, а в пору финальной «тридцатилетней войны» – 4, 5 года.
Выводы напрашиваются сами собой. Как я писал три года назад: «Со времени подключения России к европейской системе ее военно-политическая история определяется взаимоналожением двух одновременно развивающихся сюжетов. Один из них основан на ритме СВЦ, и Россия подчинена этому ритму как элемент притянувшей ее системы в числе иных элементов – евро-атлантических государств. Ее роль в данном сюжете определяется … преобразованиями восточного центра в биполярной структуре Запада. Другой сюжет задается развертыванием "европохитительских" циклов, и в его рамках Россия и Запад играют друг с другом как два самостоятельных, отдельных сообщества-контрагента. … Но еще важнее то, что именно первый из этих ритмов создает разрешающие и запрещающие контекстные условия для тех или иных форм и темпов реализации второго. Энергию своего "европохитительского" цикла Россия черпает в динамике западного милитаризма» [Цымбурский 1997а, 63, 66].
В той же работе и в последующей [Цымбурский 1998а] я попытался показать, как эта концепция двоеритмия России XVIII-XX вв. позволяет интерпретировать отмеченные выше казусы, связанные с «екатерининским веком», с первым Союзом трех императоров» и с особенностями Ялтинской системы.
Так, годы правления Екатерины II (1762–1796) приходятся на финаль СВЦ I, наступающую после окончившейся по нулям для континентальных держав Семилетней войны. В это время угасает противостояние двух основных западноевропейских центров – Франции и Австрии; более того, Австрия, осознавая свою слабость, во многом становится в фарватер Франции Людовиков XV и XVI. Бескровная «война за Баварское наследство» лишний раз обнаружила страх европейских правительств при наличных у них возможностях мобилизации и уничтожения перед возникновением войны на землях Западной и Центральной Европы. В это время конфликтные проблемы смещаются за пределы европейского ядра. С одной стороны, борьба американских колоний за освобождение дает предлог к развертыванию англо-французской войны на северо-американской почве в 1770–1780-х гг. С другой же стороны, напряжение между Австрией и Пруссией, традиционным восточным центром Западной Европы и центром-претендентом, проецируется на восток в балтийско-черноморскую полосу, где эти державы вступают в сложные конфигурации с Россией и Турцией, и инициируют поглощение Польши. Именно в таких условиях, когда основные европейские игры протекали за пределами Западной Европы, и при замирении двух ее основных извечно боровшихся центров, Россия Екатерины II, успешно играя на исторически знакомом русским балтийско-черноморском пространстве с новыми для этого пространства агентами – пруссаками и австрийцами, увеличивала свой европейский авторитет и, более того, проецировала его на внутригерманские австро-прусские отношения. Опять-таки ритм европейского империализма определяет контекстные условия реализации имперского цикла России, создавая для последней в «екатерининский век» особо благоприятные, льготные условия, позволяющие ей крепнуть как европейской империи, не проливая крови на европейских землях.
Оценка неудавшейся попытки России в 1870-х вернуться в расклад Европы через «Союз трех императоров» – в качестве тыла и оплота нового европейского центра, созданного Вторым Рейхом, должна быть сформулирована с учетом того временного отрезка СВЦ II, на который эта попытка пришлась. Начало 1870-х – переход от инициали данной экспансивной волны; от полосы больших войн, в которых утвердился новый тип войны и военной политики, а сама Европа реорганизовалась (явный надлом Австро-Венгрии, кризис Франции) – к медиали, которой предстояло быть заполненной колониальным дележом ойкумены, уходом европейских стран в собственные дела и медленным вызреванием больших проектов Европы и мира. Эпизод с первым «Союзом трех императоров» можно рассматривать как неудавшуюся попытку России открыть в своем цикле новую фазу А, «проскочить» «эту фазу» на гребне того же милитаристского прилива, который отбросил Империю на восток в 1850-х. «Россия пробует вписаться вновь в Европу тогда, когда европейский экспансивный СВЦ входит в передышку-интермедию, большая игра угасает, и в неочевидности перспектив, открываемых создавшимся порядком, в русских как союзниках никто особенно не заинтересован. Франции хочется лишь того, чтобы немцы на нее не напали еще раз, Германии – чтобы французы не добивались реванша (на что те и так пока не способны) с помощью австрийцев или русских и чтобы Россия не ущемляла уже прибираемую под германское крыло Австро-Венгрию; последней бы желалось, чтобы русским духом не очень пахло на Балканах, а Англии – чтобы русские не маячили ни в Средиземноморье, ни в Азии…. До новых планов перекройки Европы и мира дело дойдет через 20–30 лет. Тогда будет востребована и Россия» [Цымбурский 1997а, 66 и сл.]. Итак, опыт с первым «Союзом трех императоров» должен рассматриваться не как кода нашего «европейского максимума», оборвавшегося с Крымской войной, а как предвестие будущего участия в Антанте. Это подтверждается и тем, что в начале 1870-х Империя пытается выступить партнером и союзником нового европейского центра, и в этом качестве пробует себе выкроить сферу влияния на Балканах, а вовсе не притязает, как при Николае I, на самостоятельную инициативу в деле обустройства европейского мира.
Наконец, парадоксальное обнаружение Россией-СССР в мировой политике «евразийских» черт в эпоху Ялтинской системы, которые могут рассматриваться как последний «европейский максимум» нашей Империи, объясняется именно ритмом Запада, его вхождением в СВЦ III, когда внутренняя биполярность западного сообщества трансформируется в расклад «West and the Rest». Отношения России-СССР с Евро-Атлантикой в эпоху Ялтинской системы были первым воплощением этого расклада. Все наши предыдущие «европейские максимумы» (и в эпоху «Священного Союза», и при намерении экспортировать Октябрьскую революцию в Европу) объективно были нацелены на перехват Империей роли восточного центра внутри западного сообщества, средством к чему были попытки установить российский контроль над Германией, создать из России и Германии одно целое в раскладе Запада при инициативе России. Ялтинская же система была «европейским максимумом» в рамках складывающейся конфигурации «West and the Rest», смещающей Россию за пределы Запада, превращающей ее в противовес западному миру как таковому (и в этом <плане> ничего не мог осуществить «прихват» СССР окраинных восточных территорий Германии). Пробуждение Китая в XX в., возникновение советско-китайского блока в 1950-х, заставляющее СССР считаться с китайскими инициативами и им подыгрывать (например, в годы Корейской войны); противостояние СССР с США в Азии и Африке, уже не как с центром «трансатлантической Европы», а как с мировой морской державой, воспроизводящее отношения России и Англии во времена прежних европейских интермедий; переориентация Китая с 1970-х на США и возникновение между Пекином и Вашингтоном антироссийского взаимопонимания, рассматриваемого Г. Киссинджером как род американо-китайской «Антанты», – все эти факты объясняются именно положением нашего последнего европейского максимума на становящийся расклад «West and the Rest», взаимоотрицающим столкновением двух стратегических ритмов, в которых одновременно жила Россия со времени ее притяжения к системе Запада.
Итак, на протяжении двух с половиной веков «политическая» жизнь Западной Евразии в огромной мере определялась функционированием двух международных систем: системы Запада и подстроенной подсистемы «Европа-Россия». Если биполярная система Запада (с противостоянием двух центров, опирающихся на прибрежье Атлантики и на Центральную Европу) представляла геополитическую аранжировку Западной цивилизации, то образование «Европа-Россия» может рассматриваться как биполярная геополитическая система цивилизаций, сцепленных воедино силовым балансом в северо-западной части материка, а вместе с тем и культурно-стилевым притяжением становящейся Империи к западному миру. Думается, каждого из этих двух факторов по отдельности было бы недостаточно. Само по себе притяжение двух цивилизационных сообществ не предполагает их сцепления в геополитическую целостность (скажем, Япония усвоила множество культурных достижений, выработанных Китаем, но до конца XIX в. не занимала сколько-нибудь заметного места в политических судьбах Китая). Напротив, само по себе включение иноцивилизационной державы в силовой баланс некоего цивилизационного сообщества, может и не привести к оформлению долгосрочной и ритмически функционирующей метасистемы (напомню окказиональное влияние Турции в европейском раскладе XVI-XVII вв. как силы, отвлекавшей на себя силы Австрии и тем самым подыгрывавшей французскому центру Европы).
В случае с Россией два фактора совпали. После крушения Византии у христианской России на евро-азиатском пространстве не было другого сообщества, столь близкого по культурно-религиозному языку и вместе с тем привлекающего зрелостью цивилизационных форм. С другой стороны, в течение переходной второй юги Запад как биполярная система оказывается приоткрыт для России – сперва как силы, наращивающей слабеющий восточный центр (Австрию), а потом как союзницы атлантического центра, бросающей вызов центру центрально-европейскому, уступившему место Австрии (Второму и Третьему рейхам). При этом, в отличие от Турции, втянутой сразу в несколько конфликтных систем, значимых для ее выживания (в средневосточно-каспийскую, где она противостояла Ирану), Россия XVIII в. чем далее, тем более соединяется силовым балансом исключительно с сообществом Запада, сперва опосредованно (через влияние Австрии и Пруссии на балтийско-черноморское пространство), а потом впрямую.
Таким образом, отличительная особенность системы «Европа-Россия» состоит в том, что стратегическая динамика этой системы становится не просто частью отношения между цивилизационными сообществами: каждая фаза в циклах этой системы представляла эти отношения в целом в совершенно новом ракурсе, оказывая тем самым воздействие на иные аспекты духовной жизни России. Вместе с тем, геополитическое «двоеритмие» России, выступающей в одном аспекте как часть западного мира, а в другом как противостоящий ему контрагент, может иметь ценность и для исследования иных планов функционирования двух цивилизаций. Здесь я напомнил бы замечательную разработку Б. Гройса [Гройс 1992], показавшего, как, начиная с первой половины XIX в., российские мыслители настойчиво проецируют на Россию представление об «ином» Западе, превращая Империю в своего рода теневую ипостась западной цивилизации. Очень интересны недавние разработки В.И. Пантина, показавшего, как «кондратьевские волны» западной экономики перекодируются в условиях России в социально-политические фазы реформ и контрреформ.
Российская геополитика эпохи Империи, в том числе в большевистской ипостаси последней, есть часть самоопределения Империи в качестве цивилизации-спутника Запада. Взаимодействие между волнами западного милитаризма и скоростью протекания стратегических циклов Империи есть лишь одна из форм, в которых совершалось перекодирование динамики Запада в динамику цивилизации-спутника.
Именно потому, что геополитическая составляющая играла столь важную роль в оформлении системы «Европа-Россия», что эта составляющая, в свою очередь, опиралась на внутреннюю биполярность Европы, тяготение Запада к униполярности во второй половине XX в. оборачивается кризисом этой системы цивилизаций. С точки зрения ряда экспертов, этот кризис сегодня толкает Россию к выбору между униполярным Западом и противостоящим ему иным. С этой точки зрения, крушение России как «своего иного» Запада, ставит ее перед выбором – быть ли просто частью Запада или частью противостоящего ему «иного», грубо говоря – младшим партнером США в системе евро-атлантического униполя или партнером стоящего вне этого униполя Китая? Другие авторы, исходящие из прецедента со Вторым и Третьим Рейхами, допускают становление объединенной Европы с центрально-европейским германским ядром как противовеса США – фокусу АТР и в этом смысле предполагают, что прорастание системы Запада в мировую систему может произойти не в форме «West and the Rest», но через тяготение разных частей незападного мира к разным полюсам разделившейся в себе Евро-Атлантики. Как может справиться Россия с выбором, который перед ней поставит то или иное развитие? Послужит ли ей при этом на благо опыт геополитического моделирования, наработанный в имперскую эпоху, притом, что мы отнюдь не можем быть уверены даже в том, что волнообразная динамика Запада сохранит свою силу с трансформацией его системы в систему всемирную, открытую возмущающим спонтанным влияниям со стороны незападных сообществ?
Всеми этими обстоятельствами определяется важность исследования опыта русской геополитической мысли имперского времени с учетом также и ее доимперских истоков в XVI-XVII вв., которые могут приобретать особую значимость, если допустить, что эпоха существования в системе «Европа-Россия» закончилась и что именно этот конец знаменуется возвращением России конца XX в. примерно к контурам Московского царства ранних Романовых (с поправкой на обретенные доступы к Балтийскому и Черному морям). Кроме того, предметом особенно пристального исследования должны стать геополитические наработки русских с XVIII по начало XX в. – в Петербургскую эпоху. Это время важно по трем причинам. Во-первых, в эту пору российская геополитическая мысль не вступила во взаимодействие с парадигмальной геополитикой Запада, воздействие которой испытали как эмигранты-евразийцы, так, по выводам A.A. Улуняна, и геостратеги Коминтерна. Изучая геополитические искания дооктябрьских лет, мы открываем репертуар наработок, существенно связанных с мировым местом России, с ее традицией – и в этом смысле существенно дополняющих и корректирующих, даже блокирующих в некоторых случаях те подсказки, которые некоторые авторы пытаются извлечь из парадигмальной западной геополитики, во многом отражающей совершенно иной опыт пространственно-политического самоопределения, идущий от истории евро-атлантических обществ. Во-вторых, шесть фаз имперского цикла демонстрируют им как полный спектр ракурсов, в которых русским представал мир, сообразно с изменениями отношений внутри системы Европа-Россия. Вместе с тем, возвращение Империи в начале XX в. к фазе А, когда-то в совершенно иных условиях пережитой ею в XVIII в., позволяет детально вдуматься в различные возможности идейного воплощения однотипных фаз в те различающееся в зависимости от возраста России преломления, которые могут обретать «возвращающиеся» стратегические ситуации. В-третьих, шесть фаз, прожитых за 180 лет, дают нам достаточно подробную и откровенную артикуляцию геополитических парадигм, разворачивающуюся, по крайней мере, с XIX в. в условиях достаточно широкой и плюралистической дискуссии. В отличие от этого изучение геополитики большевистской эпохи для первых двух ее десятилетий осложнено почти лихорадочной сменой фаз на гребне достигшей своего максимума волны евро-атлантического милитаризма («30-летней войны XX века»). Для эпохи же холодной войны, если не раньше, с пакта Молотова-Риббентропа, характерно вытеснение геополитических мотиваций, их удаление за рамки открытого обсуждения, концентрация геополитики в стенах правящих органов и почтовых ящиков.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























