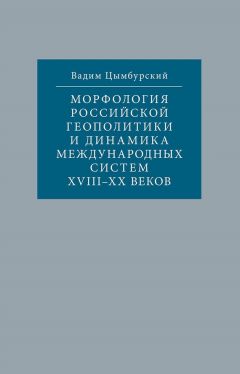
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
Данилевский пытается «выстроить» для России пространство, отдельное от Европы, но видит его в таких рубежах, с которыми она угрожала бы выживанию самой Европы не менее, чем тютчевский замысел «России будущего».
Как и у Тютчева, у Данилевского Турция не актуализирована в качестве противника России. В развиваемом им мировом сюжете оттоманский эпизод – что-то вроде ретардации в истории Восточного вопроса, ретардации в условиях заката Греции-Византии и слабости славянских государств. Мусульманство осложняет большую игру православия с Европой. Последняя то использует мусульманский фактор для рикошетных ударов по православию (четвертый крестовый поход), для шантажа православия и попыток его поглотить (Флорентийская уния), то, отвлекаясь на борьбу с мусульманской угрозой, позволяет славянству самосохраниться, а России выжить и вырасти в Империю. Мусульманство не дало Европе решить Восточный вопрос в свою пользу (ср. у Тютчева о турках – «хранителях» Константинополя). С возвышением России синхронизируются закат Турции как отвлекающего Запад фактора и упадок Австрии, лишающейся всех своих функций – барьера коренной Европы против Турции (эта функция просто отмирает), восточного германского центра Европы (функция уходит к Пруссии), формы самосохранения южного славянства (эту функцию готова непосредственно принять Россия). В этих рассуждениях прорезается провиденциальный компонент, как бы надстроенный над секулярной по своей сути доктриной Данилевского. Данью тому же провиденциализму звучат суждения о трансцендентных причинах, которые скрываются за разнородными факторами, дающими единый исторический эффект. Трансцендентные, или идеальные, причины – единственный и, в общем, не очень конструктивный <религиозный> элемент доктрины Данилевского, фокусирующейся на политическом служении своему культурно-историческому типу ради полного раскрытия многообразия человеческого рода.
Глубокая психологическая секуляризованность[40]40
Секуляризм геополитики Данилевского – в его учении о государствах и культурно-исторических типах как чисто земных, посюсторонних организмах, не имеющих оснований надеяться на бессмертие и потому вынужденных всецело сосредоточиваться лишь на своем земном процветании и мощи.
[Закрыть] позволила Данилевскому по-новому поставить вопрос о черноморских проливах, отделив его от вопроса о Константинополе, и рассмотреть первый во всем его чисто геостратегическом спектре. Закрыть Россию с юга; обречь любого противника с запада либо пятиться перед замерзающей Балтикой, либо растягиваться по огромной западной границе, дробить и рассредоточивать силы по лесам и болотам; предотвратить возможность «второй Крымской войны», чего, в общем, не добился Горчаков; сжать морскую пограничную линию России на юге в точку; заложить основы реальной морской мощи, когда флот мог бы из «русской бухты» выходить в Средиземноморье, грозить английским базам и французскому побережью и даже выходить в Индийский океан (имея позади прочное убежище), – обо всех этих задачах Данилевский пишет с наступательным восторгом. Но лишь на последнем месте стоит моральный и религиозный момент – момент уже сугубо константинопольский, внушающий геополитику сугубую, обостренную осторожность, несмотря на всю захватывающую архаику воскресающей под его пером картины Царьграда как точки, с которой «нет места на земном шаре, могущего сравниться центральностью своего местоположения».
Именно в 1860-x у русских авторов прорезается тревога перед включением в геополитическое поле России в качестве цивилизационного и политического центра – нерусского города, лежащего вне исторического пространства России, хотя и бывшего в веках объектом экстраверсии. Еще в 1867 г. Погодин, ссылаясь на некоего генерала, заговорил насчет скверных последствий для России от Константинополя, который способен оттянуть ее силы, и выдвинул тему проливов как внешнего доступа к России [Погодин 1876, 178]. О том же следом твердит и Данилевский: «Столица, лежащая не только не в центре, но даже вне территории государства, не может не произвести замешательства в отправлениях государственной и народной жизни, не произвести уродства неправильным отклонением жизненных, физических и духовных соков в политическом организме». Константинополь грозит произвести тот же эффект, что и Петербург, но в размерах неизмеримо больших: превратить страну в придаток выдвинутого за ее пределы города, отсасывающего из России «нравственные, умственные и материальные силы». Отсюда вывод, что «Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредоточивать в себе ее народной и государственной жизни – и, следовательно, не должен и входить в непосредственный состав Русского государства». Как центр Всеславянского союза он останется вне России, но войдет в обслуживающее мировые позиции славян политическое пространство. Данилевский осознал опасность управления Россией из центра, вынесенного на крайнюю периферию и грозящего разрушить российскую идентичность (хотя этот взрыв идентичности не смущал ни Тютчева, ни Герцена 1848–1854 гг., приветствовавших поход на Константинополь как шаг, за которым кончается обособленное существование России и Европы, и обе они сливаются в общем новом состоянии на едином пространстве). Однако, не очевидно, что решение, намеченное Данилевским, принесет тот результат, которого бы ему хотелось, поскольку смыслом существования России оказывается строительство Всеславянского союза с Константинополем, и ядро этого союза всё равно будет из российского географического и человеческого материала; избежать «оттягивания» русских сил в Константинополь всё равно едва ли бы удалось, так что на панславистском пространстве возникла бы борьба двух центров – борьба без явных правил в отличие, скажем, от комплементарного, гармонизированного в XIX в. «соперничества» Москвы с Петербургом.
Сравнивая проект Данилевского с проектом Тютчева, можно прийти к интересным заключениям. У обоих отсутствует чувство российского ядра от Днепра до Тихого океана, отличающее Р. Фадеева; за точку отсчета принимаются наличные границы Империи, для которой намечаются две ступени расширения. У обоих второй ступенью расширения оказывается интеграция в Россию народов Европы, не принадлежащих к ее романо-германскому ядру. Рядом со славянами тут оказываются народы (греки, румыны, венгры), «которых неразрывно, на горе и радость, связала с нами историческая судьба, втиснув их в славянское тело» [Данилевский 1991, 363]. Надо ли это читать – «превратив в этнографический материал славянской цивилизации»? Едва ли. Данилевский, похоже, сознаёт особый статус этих народов, как бы зависших между двумя цивилизациями, и даже готов к ним присоединить цивилизационно мутировавших, вестернизировавшихся славян – поляков. Вместе с венграми поляки для него – враждебный элемент, обреченный присутствовать в Союзе (на его переднем крае, впритык к Европе!) Греков и румын он готов расценивать как племена, искупающие отсутствие кровного (= лингвистического) родства с Россией – родством религиозным. Однако сам же испытывает жестокую вражду к любым попыткам возродить «греческий проект»: «новая Византия» для него – это потенциально новая Австрия с греко-румынским дуализмом, работающая на «нравственное порабощение славянства» [там же, 324]. Итак, во Всеславянский союз попадают народы переходного статуса со специфическими претензиями и, главное, способные при отстаивании этих претензий отталкиваться от России и опереться на «коренной» Запад (правда, в отличие от Погодина, Достоевского и Леонтьева он не видит возможности оборотничества самого славянства, его способности выступить враждебным России элементом, по Духинскому).
И наконец, что особенно показательно, у Тютчева третий пояс расширения России в основном предполагал поглощение Европы и Средиземноморья, т. е. интеграция славян оказывалась подготовительной, переходной ступенью к этому финальному акту. У Данилевского таким последним расширением становится контроль «всеславянства» над всем азиатским материком, кроме его великих полуостровов. Иначе говоря, в этом пределе славяне должны войти в один гроссраум с массой азиатов (хотя Данилевский и не допускал присоединения Турции к России, перегрузки страны «магометанским инородным населением»). Панславизм Тютчева и панславизм Данилевского – феномены принципиально различные, ибо, соответствуя разным фазам нашего стратегического цикла, они выступают опорными компонентами радикально различающихся мировых проектов.
Уточнение и развитие взглядов Данилевского в 1870-х после «России и Европы» достойно пристального комментария. В 1871 г. в своем отклике на предвиденную им франко-прусскую войну он неожиданно быстро отошел от некоторых прежних оценок: вырастая в крупнейший центр Европы, Берлин объективно перестает быть потенциальным союзником, но, как главный представитель романо-германской цивилизации, предстает главным противником России – особенно из-за своей резкой выдвинутости к востоку. Австрия неизбежно окажется в германском фарватере и, заключенная в систему Второго рейха, обретет вознаграждение на Балканах (это значило бы, что восходящий центр Европы отведет Австрии ту роль, которую ей когда-то готовила ныне слабеющая Франция устами Людовика XV и Талейрана, Полиньяка и Наполеона, – роль прикрытия против России, отвлекающего ее силы). Отсюда пересмотр отношения к Франции. Данилевский уверен, что, организуя барьеры против России, как гегемон своей цивилизации, Франция не имела во вражде к России интереса жизненно-национального в отличие от глядящей на славянский восток Германии (как сказать, если учесть, что до середины XIX в. Россия усиленно поддерживала дряхлевший австрийский центр и стремилась минимизировать французское превосходство). Теперь, в новом раскладе Англия должна поддержать Германию против России, а ослабленная Франция станет российским союзником, что позволит Петербургу использовать в своих видах «французскую партию» славянских и балканских либералов.
Данилевский замолкает в следующие годы, когда российское правительство пытается подключиться к обустройству обновленной Европы через «Союз трех императоров» – иначе говоря, через поддержку Россией обновленного и грозно окрепшего восточного центра европейской системы. Он возвращается в политическую публицистику во время русско-турецкой войны, чтобы повторить прежнюю программу «русской доктрины Монро» с добавлением нового пункта – о желательности обращения Турции в вассальное владение России. Помня уроки Ункяр-Искелесийского договора, он считает, что речь должна идти не об аморфном дипломатическом «влиянии», но о совокупности жестких военных и финансовых обязательств, которые, будучи наложены на Турцию, связали бы ее безоговорочно: «политическое влияние только тогда прочно, когда нет сил ему противиться». Отвергая как «нейтрализацию» проливов (запирающую России выход в мир), так и их «свободу» (подпускающую любого желающего противника к российским южным берегам), он разрабатывает уникальную геостратегическую типологию проливов, беря за критерий возможности обойти их или преградить.
Его взгляд на Константинополь уже не только полностью свободен от религиозно-исторических мотиваций, но сами эти мотивации им отвергаются даже с какой-то ожесточенностью. «В настоящем виде своем Константинополь не имеет даже значения великого памятника христианской святыни, подобно Иерусалиму, или даже подобно Афону, нашему Киеву, Троицкой Лавре. Он не привлекает к себе толпы поклонников». Отрицая в нынешнем Стамбуле «даже присутствие элемента религиозного», Данилевский допускает его возрождение лишь в рамках панславистского проекта. Он не мыслим ни как военный город (опора международных интриг против России), ни как город греческий (что сделало бы Грецию враждебным России проевропейским сторожем проливов). Но еще настойчивее выступает Данилевский против включения Царьграда в «государственное тело» России, где он фатально «перевернет центр тяжести». Россия должна быть «ограждена от обаятельной и притягательной силы, присущей этому величию», несущему с собою возмущение российской цивилизации и всей жизни. В идеале Константинополь – вольный город под исключительным протекторатом России. Пока же следует «оставить Константинополь и проливы под властью» Турции, притом что сама «Турция будет поставлена в … полную зависимость от России». Речь идет о притяжении Турции к панславянскому проекту в числе иных неславянских конструктивных элементов. В отличие от Австрии к Турции он не питает никакой вражды, и это вопреки несчетным в те годы газетным сообщениям о турецких зверствах, чинимых над славянами. «Мы под личиной войны с Турцией вели войну с Европой». Поэтому, когда после войны «от Турции останется одна тень», турок можно использовать для прикрытия российского хозяйничания в проливах: «тень эта должна еще до поры до времени оттенять берега Босфора и Дарданелл» [Данилевский 1890, 84].
В месяцы Берлинского конгресса намечается крупнейший перелом в дискурсе Данилевского, панславизм куда-то отходит вдаль. Оказывается [там же, 136, 137], что «истинный и непримиримый, всегда и во всем, и в мире и в войне стремящийся вредить России враг есть – Англия» (не Австрия и не Германия, теснящие славянство). Теперь Данилевский – не с Фадеевым, а с Терентьевым; отвернувшись от Балто-Черноморья, он видит Восточный вопрос в системе отношений двух сверхдержав, выстроенной по евроазиатскому югу. Черноморские проливы как фактор российской уязвимости уравновешиваются ведущими в Индию горными проходами. Данилевский еще пытается осмыслить «англо-азиатскую» тему как развитие темы борьбы России и Европы, как противодействие державе, главным образом утверждающей европейское владычество в мире. Но эта, новая тема всё более развивается в автономный компонент, и Данилевский смыкается с И.В. Вернадским, твердя о миссии России – сокрушить «то исполинское хищение, ту громадную неправду, то угнетение, распространяющееся на все народы Земли (значит, и на европейцев? – В.Ц.), которые именуются английским всемирным морским владычеством» [там же, 205]. Или когда он умиленно пишет о наполеоновской «континентальной системе – мере, неоцененной современниками, но которая, тем не менее, могущественнейшим образом содействовала развитию промышленности на материке» [там же, 164]. Восточный вопрос выступает теперь для него, как и для массы его современников, «английским вопросом». Под маской «духа пространств», «духа непримиримого противостояния континента и моря» действует дух времени – именно той фазы стратегического цикла, когда Россия, по пророчеству Талейрана, будучи отброшена из Европы «в азиатские степи», составила новую конфликтную систему с Англией. Два географических маргинала континентальной Европы, в XVIII в. служившие европейскими балансирами, с уходом России из европейской игры были обречены на эту борьбу за европейскими пределами. Панславизм с попыткой создать особое пространство России от Балтики до Балкан – «неевропейское» пространство на Европейском полуострове – лишь затушевывал и осложнял логику нового расклада. Берлинский конгресс стал для Данилевского моментом той истины, которую наш автор выразил с четкостью, достойной Терентьева или Скобелева: «России ничего другого не остается, как постараться, чтобы проливы потеряли для нее (Англии. – В.Ц.) всякую ценность, чтобы свободное сообщение с Индией утратило для нее всякое значение. Князю Паскевичу приписывают слова, что путь в Константинополь идет через Вену. Видимо, и путь к Босфору и Дарданеллам идет через Дели и Калькутту» [там же, 138]. Столкновение этих двух афоризмов раскрывает логику двух контрастных фаз стратегического цикла, изменчивую функцию т. н. Восточного вопроса, мотивировавшего в одном случае – превращение России в протектора Германии, а в другом – крепнущую южно-азиатскую фокусировку.
Сообразно с логикой новой фазы Данилевский провозглашает неизбежность окольного азиатского пути не только к проливам, но и к объединению славянства [там же, 178, 219], решительно поменяв местами намеченные в «России и Европе» фазы расширения Империи, чтобы затем, очистив совесть панслависта, обратиться к характеристикам России как державы азиатской, «державшей в своих руках судьбы Востока, обаяние которой… должно было утвердиться не только на берегах Босфора, но и на берегах Инда, Ганга и Ирравади» [там же, 149], которая одна «имеет возможность угрожать Индии, в случае нужды подать помощь Китаю, защитить Персию» и в случае «ослабления Турции, с одной стороны овладеть проливами», «с другой же, по соседству, сделаться наследницей богатейших стран Азиатской Турции» [там же, 177]. В свою очередь, «владение Эрзрумом позволило бы нейтрализовать английские дороги от Босфора к Персидскому заливу» [там же, 146].
Написанная по следам Берлинского конгресса статья «Горе победителям!» выразила новое мировидение Данилевского с предельной чеканностью. Статья констатирует полное крушение попыток России решать Восточный вопрос в свою пользу, опираясь на европейский баланс. Круто разведя вопросы о культурно-цивилизационной и политической принадлежности России к Европе, он заявляет, что его интересует только последний аспект. «Я готов даже согласиться (конечно, не иначе, как в виде риторической фигуры уступления), на эту нашу культурную принадлежность к Европе. … Но именно сопредельность России с Европой причиной тому, что интересы России не только иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что в политическом плане Россия не только не Европа, но Анти-Европа. … Всякий организм – будь то индивидуальный, как человек, или сложный как государство, или коллективный, как система государств, получает сознание о своем отдельном бытии только при пробуждении сознания своей противоположности чему-либо. … Анти-Европа» и есть Россия и представляемый ею Славянский союз [там же, 172, 173–174, 180]. Отвлекаясь от каких-либо позитивных характеристик России как цивилизации («культурно-исторического типа»), Данилевский ограничивается сугубо функциональным международно-политическим отношением России к системе Европы и в этом ракурсе определяет Россию как «Анти-Европу», как член бинарной системы, другим членом которой выступает западное сообщество в целом с его внутренним балансом. Россия для позднего Данилевского – не просто самобытная цивилизация, но функциональное «иное» западного сообщества. Тем самым он вплотную подошел к выводу не просто о некой миссии России быть противовесом европейскому сообществу как целому, но о реальном существовании такого международного образования как метасистема «Европа-Россия». Я полагаю, что именно эта модель находит свой культурологический эквивалент в предложенной Б. Гройсом трактовке ряда явлений русской мысли как представления Запада о «своем ином, своем «анти-». Тем самым понятие «Анти-Европы», введенное Данилевским применительно к функционированию международных политических структур, может получить и культурологическое измерение.
Однако, после этого вывода следует курьезное утверждение, что для России перестать отождествлять свои интересы с европейскими, начать руководствоваться сугубо собственным эгоизмом – это и значит начать жить по-европейски, как живут между собою отдельные страны. Как будто осознать себя «Анти-Европой» значит перестать соотносить себя с Европой как целым. Как будто дистанцирование от европейского концерта и переориентация интереса в Азию, взгляд на Восточный вопрос в азиатском контексте мог привести к иным результатам, кроме возникновения сверхсистемы «Европа-Россия», а также второй биполярной системы «Англия-Россия». Апелляции Данилевского к Екатерининскому веку как эпохе истинно национальной политики имели характер столь же мифотворческий, как и попытки Чаадаева увидеть в той эпохе пример бескорыстного служения России Западу. Факты – говорящие о том, что идеология фазы А, участия России в игре разъединенной Европы в качестве балансира, единственной фазы, когда Россия вправе видеть перед собой не Европу в целом, а отдельные государства, оставалась совершенно непрозрачной для мыслителей, погруженных в ситуацию как наших «европейских максимумов», так и «евразийских интермедий».
Как реалист-геостратег Данилевский кончил жизнь типичным «протоевразийским мыслителем», рвущимся на Босфор через Колхиду и Калькутту и склоняющимся к мысли, что собирание славянства как-то проистечет из парализующего Англию контроля нашей Империи над платформами Азии.
VI
А между тем, 1870-е вносят сугубое осложнение в график российского стратегического цикла. Объективная ситуация в Средней Азии (конфликт с Хивой, восстание 1875–1876 гг. в Коканде, столкновения с туркменами), как и говорил Венюков, не давали России остановиться на каком-либо азиатском рубеже. А вместе с тем, в Европе обозначилась конъюнктура, которая, казалось бы, позволяла Империи возвратиться в европейский расклад и уже с опорою на него сфокусироваться на балканском направлении, на проливах, сохранявших первое место в национальном перечне стратегических приоритетов. В главке I я уже очертил геостратегическую механику этого времени. «Уход» России из Европы во второй половине 1850-х стал возмездием Австрии: изгнанная из Италии Кавуром и Наполеоном III, а из Германского союза – Бисмарком, к концу 60-х реформированная на началах австро-венгерского дуализма, она перестает быть восточным силовым центром Европы, самое большее цепляясь за роль балансира в новой франко-прусской игре. Разгром Франции определил восхождение бисмарковской Германии в роли потенциального европейского гегемона, но гегемона, сохраняющего уязвимость с востока.
С начала 1870-х проявляется двойственное отношение новой Германии к России: формальное сотрудничество при попытке подстраховаться против русских, втянув Австрию в германскую сферу влияния, соединив балтийский и карпатский узлы Балто-Черноморья. Будет ли Россия опорным глубоким тылом нового германского восточного центра, или она представит вызов этому центру, нейтрализуемый австрийским авангардом? – такой вопрос вставал перед Германией. С устранением Австрии из биполярного расклада Европы, в глазах Бисмарка и его преемников, она обретала роль, которая ранее ей отводилась в планах стремившихся к европейской гегемонии французских руководств – в планах Людовика XV, Талейрана, Полиньяка, Наполеона III. Сама же Россия оказывалась в положении, когда, соотнося себя с европейским раскладом, она должна была выбирать между ролью германского тыла и попыткой бросить Германии вызов в качестве ее соперницы, потенциального восточного центра Европы, претендентки на австрийское наследство. Кто будет основным тылом Германии, обеспечивающим ей перевес над Францией, – Австрия или Россия? Ответ на этот вопрос во многом определял выживание Австрии и Франции. Все эти выборы оказывались связаны зависимостью. Россия, не позволяющая немцам подмять и подавить Францию, становилась тылом ненадежным, на роль главного тыла выдвигалась Австрия, а Петербург становился центром, конкурирующим с Берлином. Последний оказывался прямо заинтересован в развороте России лицом к Азии, и Россия, которая позволила бы подавить до конца Францию, становилась бы привилегированным германским тылом: но при этом перед Берлином вставал призрак грозной восточной силы, контролирующей балто-черноморский «вход» Европы и ликвидирующей суверенную Австрию. Все эти связи можно представить в таблице:

В мемуарах Бисмарка сквозит постоянный страх, что Австрия в целом окажется притянута к России как таковой или в рамках новой франко-русско-австрийской «коалиции Семилетней войны» [Бисмарк II, 212 и сл., 227 и сл.]. Точно так же страшился он грез русских панславистов о дезинтеграции Австрии и включении ее немецких земель в Великую Германию: его пугала как дестабилизация пространств от Тироля до Буковины, так и появление внутри Германии нового ядра – Вены, которой в силу ее традиций «нельзя было бы управлять из Берлина как <его> придатком» [там же, 42] и которая, утратив роль объединителя негерманской Центральной Европы, вновь стала бы «контрцентром», разрывающим Германию. Тяготея к «органическому» германо-австрийскому союзу, гарантирующему поддержку Австрии против России, Бисмарк опасался сделать Германию жертвой антирусского авантюризма: не воевать с Россией он хотел, а удержать ее вне Европы и для этого постоянно связывать ее Австрией [там же, 225]. Россия как германский тыл могла означать подавление Франции, но за это потребовать или осуществить де-факто ликвидацию Австрии, что превратило бы европейскую биполярность в противостояние Европы и России (аналог Ялтинской системы). Россия, поддерживающая выживание Франции, толкала Германию к союзу с Австрией и рано или поздно должна была определиться в качестве конкурирующего с Берлином и союзного Франции претендента на австрийское наследство в Европе.
Вся эта логика нового расклада выявлялась в 1870–1880-х постепенно в результате неудачных попыток России вернуться в Европу – опираясь на этот расклад, открыть новую фазу А в новом стратегическом цикле. Я говорил уже о реальном основании этой неудачи: вхождение повышательной сверхдлинной волны европейского милитаризма в срединную интермедию, когда уже определились стиль и тип «народных войн» на полное уничтожение противника, но не созрел проект, который бы оправдывал подобную войну в общеевропейском масштабе, да и конфигурация сил оставалась неопределенной, и поводы к войне – сомнительны. Русские политические мыслители сумели констатировать это положение. Данилевский отмечал, что после объединения Германии и Италии в Европе консолидированных национальных государств наступит затишье – ибо будет очевидно, что надлом любого из них в новой войне повлечет ощетинивание остальной Европы против победителя: наступает эра баланса и колониальных переделов внешнего мира. Достоевский отмечал трудность создания в эту пору в Европе коалиций из-за разнородности потенциальных интересов, из которых не собирались конфигурации, способные консолидировать державы.
В этих условиях опора Германии на Россию как тыл ради большого германского наступления в Европе оказывалась вариантом более рискованным, чем поддержка Австрии как стража против России при сохраняющемся перевесе германского центра над Францией. Еще оптимальнее Бисмарку казался вариант, который позволил бы сочетать «органический союз» Германии с Австрией и удержание России в качестве лояльного тыла. Этот вариант, на который Бисмарк пошел бы особенно охотно, предполагал передачу проливов, а может, и Константинополя России с разделом Балкан на русскую (Румыния, Болгария) и австрийскую (Босния, Сербия) зоны. Россия, владеющая Константинополем и находящаяся в открытом антагонизме с Англией, попадала бы в полную зависимость от Австрии и Германии и была бы отстранена от какого-либо серьезного вмешательства в дела Европы [Бисмарк II, 239 и сл.]. Россия получала бы южный участок старой балтийско-черноморской системы (без ее расширения на запад), после чего всецело сосредоточивалась бы на борьбе с Англией вдоль евроазиатской дуги от Балкан до Тихого океана. Австрия нависла бы над юго-западным флангом России как германский аванпост, Германия главенствовала бы на Балтике и выходила в европейские лидеры. В общем, Бисмарк был существенно щедрее Вильгельма II и Гитлера, а блестяще предвиденная им логика германского движения к Черному морю и на Ближний Восток была достаточно чужда «железному канцлеру».
Помимо других моментов, осложнявших реализацию этого плана (распространяющееся в России панславистское видение в стиле Фадеева-Данилевского и т. п.), следует назвать и позицию Горчакова. Едва ли можно согласиться с акад. С.Д. Сказкиным, писавшем о Горчакове, что «дипломатические победы его были весьма сомнительны, и вся его деятельность едва ли может быть названа успешной» [Сказкин 1964, 414]. Успехи были – вроде отражения европейских демаршей по польскому вопросу, улаживания среднеазиатских осложнений с Англией, – но если исключить «возмездие» Австрии руками Наполеона III, эти успехи были в основном оборонительного характера. Исповедуя принцип сосредоточения на внутренних делах и «свободы рук», Горчаков не имел ясной стратегии возвращения России в Европу, но не стремился и к балканской ангажированности, а расширение в Средней Азии, видимо, искренне трактовал как вынужденную политику, которую стремился ограничить созданием там буфера. При этом к германской гегемонии в Европе он испытывал сильнейшую неприязнь, стремясь предотвратить надлом Франции [ИВПР 1997а, 80]. Россия при Горчакове отказывалась определяться как германский тыл, а потому ей трудно было рассчитывать на германскую поддержку в балканском наступлении, – но Горчаков к этому наступлению, в общем, и не стремился. Придя к руководству российским МИДом в фазе D и выразив дух этой фазы в формуле «сосредоточение», или «собирание с мыслями», Горчаков был втянут в евразийскую игру и в ее рамках пытался делать то, что ему казалось наилучшим, но он не был готов к каким-либо крупным акциям на европейском направлении.
Вся политика 1870-х выглядит рядом накладок и противоречий. Уже в 1870–1873 гг. с возвышением Второго рейха военное министерство (Милютин) разрабатывает план создания по Висле и Неману системы укреплений для обороны против Австрии и Германии и перехода против них в наступление [там же, 38]. В то же время конвенция Александра II и Вильгельма I от 1873 г. утверждала включение России в расклад Европы в качестве союзницы Берлина. Но Бисмарк фактически блокировал конвенцию, сделав ее условием присоединение к ней Австрии, а тем самым исключив возможность использовать конвенцию в панславистских раскладах. Созданный взамен «Союз трех императоров» страховал Германию с Востока, а России развязывал руки в Центральной Азии, любые же балканские акции Петербурга ставил под берлинский и венский контроль. Итак, активность России направлялась против Англии и распределялась вдоль «евроазиатской дуги», так что действия на Балканах – околоевропейском участке дуги – оказывались затруднительны. Настаивая на радикальной локализации русско-турецкой войны, Горчаков, по словам современников, сознательно создавал условия для «полувойны», которая «могла привести только к полумиру» [Бисмарк II, 193 и сл. Сказкин 1964, 415]. Принимая такую ситуацию как должную, Горчаков ее усугубил демаршами середины 1870-х в пользу Франции, убеждая лишний раз Бисмарка в значении Австрии как аванпоста против России. Чем прочнее становилось германо-австрийское пространство, тем более сужался выбор России, сводясь к двум вариантам: либо игра вдоль евразийской дуги в отдалении вне Европы, либо возвращение в Европу в качестве противницы Германии и союзницы западного центра (но для этого и самому западному центру предстояло быть существенно укрепленным и реорганизованным, и должны были быть полностью пересмотрены отношения России к Англии).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































