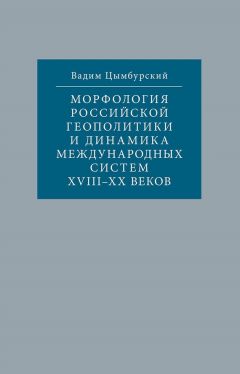
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Значение работ Венюкова в том, что он очертил две мыслимые «естественные границы» России на юге: это может быть либо экологическая граница, опирающаяся на переход лесостепи собственно в ковыльную степь так, чтобы Россия в основном контролировала долины рек Ледовитого океана, либо граница по южному горному поясу. Эти варианты соответствуют либо России, противостоящей тюркской Евразии, либо «России-Евразии» в собственном смысле. Он показал, что выход России в центрально-азиатскую степь – феномен имперский, тогда как Московское царство прочно противостояло степной Евразии, и границы его были едва ли не более мотивированы, чем любые промежуточные решения в диапазоне между двумя очерченными «естественными» рубежами. Наконец, в качестве паллиативной и нестойкой разделительной линии в этом интервале он выделил северный край полосы полынных степей – черту, сегодня условно отделяющую русифицированный Северный Казахстан от Южного.
Еще одну геокультурную границу в центрально-азиатском поясе провел В.В. Григорьев [Григорьев 1867], отмечая, что, перевалив через хребет Каратау (юг Казахстана), перейдя от страны кочевников к стране оседлых земледельцев, «вместо шаманистов, считающихся мусульманами лишь по недоразумению около полутораста лет уже, впрочем, продолжающемуся, мы будем иметь подданными настоящих магометан». Собственно в физико-географическом смысле этот переход можно описать как переход от казахских полынных полупустынь к узбекско-туркменским полынно-солянковым пустыням с областями поливного земледелия.
С другой стороны, Венюков предложил интересную, хотя и несколько мистифицирующую трактовку русского наползания на Среднюю Азию до встречи с ираноязычными народами Персии и Афганистана как возрождение в Азии единого «арийского пространства», некогда разорванного тюркским напором [Венюков 1878, 2 и сл.]. Поскольку надежными границами России могут быть лишь «северные подошвы Альбурса и Гиндукуша», постольку она «должна подчинить себе всех туркмен, узбеков и таджиков, живущих в арало-каспийской низменности». Соседями ее станут «персияне и афганы», арийцы, которые «всегда могут и должны быть сделаны "младшими братьями" России. … афгане, персияне и белуджии останутся надолго промежуточными между русскими владениями в Туране и английскими в Индии» [там же, 21]. Особенно интересным, хотя не до конца раскрытым, остается утверждение Венюкова о том, что, взяв под контроль Туран и начав вытеснять «чистых туранцев» смешанным населением [там же, 5 и сл.], Россия должна воздержаться от дальнейшего наступления на Средний Восток, ибо «всякие завоевания в том направлении внесли бы новую этнографическую рознь в населении, подвластном русскому скипетру» [там же, 22]. Наряду с геокультурным рубежом Григорьева, отделяющим казахов-«шаманистов» от оседлых тюрок-мусульман, Венюков приводит еще одну геокультурную черту, совпадающую со второй «естественной границей России» и отделяющую покоряемый Россией среднеазиатский Туран от иранского «ядрового» Среднего Востока.
Можно сказать, что русская геополитическая мысль 1860-x и 1870-х выстраивает сетку физико-географических и геокультурных характеристик, дифференцирующих Туран, описывающих его как последовательность признаковых переходов от коренной России к мусульманскому Среднему Востоку с его ираноязычным ядром.
Надо сказать определенно: если версия, связывающая экспансию Империи в Средней Азии с «порывом к Индии», не объясняет, почему оказался выбран столь трудный и проблематичный путь вместо иранского, хорошо просматриваемого пути, то версия, связывающая эти завоевания только с особенностями азиатской границы, не объясняет темпов и интенсивности наступления. На протяжении 90 лет существования двойной границы и потом почти 100-летних попыток провести твердую границу, связав ею степняков, имперское правительство, по словам Терентьева, на бухарскую, кокандскую и хивинскую торговлю русскими рабами отвечало «презрением». И вот за считанные 10 лет уничтожено три государства: одно из них поглощено Россией, два превращены в ее вассалов. Позднее А. Е. Снесарев всерьез замечал, что причиной этого похода было движение по линии наименьшего сопротивления – «просто туда, где прежде всего было легче пройти» [Снесарев 1906, 16]. Он по праву отмечал совершенно исключительную роль местных военачальников, генерал-губернаторов и т. д., действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже при малоактивном неодобрении) правительства, совершенно наподобие атаманов XVI-XVII вв. [там же, 20]. Но разве в южном направлении стало в 1860–1870-е годы вдруг почему-то «легче пройти», чем в прошлые десятилетия? И если новоявленные «атаманы» могли увлечь за собой правительство, не говорит ли это о переменах геополитической идеологии эпохи? Связать ли это с Крымской войной и с «выталкиванием» России на восток? Но почему одновременно клокочет деятельность Славянских комитетов, и на славянском поприще встают такие же активисты-«атаманы», а некоторые, как знаменитый генерал-майор М.Г. Черняев, свободно перемещаются с одного поприща на другое, со среднеазиатского на славянское?
Мы объясним это, лишь усмотрев за всеми этими тенденциями единый геоидеологический импульс к конструированию «своего», особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами «коренной» Европы, не входя в ее расклад, – или могли бы быть изъяты из этого расклада. При этом множатся критерии и обоснования для разных вариантов конструирования такого пространства, обоснования физико– и культур-географические. Причем последние могут предполагать как собирание вокруг России народов и пространств, близких к некоему признаку (панславизм или «панправославизм» Достоевского), либо, наоборот, собирание и замирение «чужого» пространства, источник многовековых беспокойств (мир тюрок, «шаманистов» и мусульман). Слова Терентьева о путеводном указании Петра I здесь знаменательны, заставляя вспомнить последний, «евразийский» период активности императора, предшествовавший вовлечению России в европейский расклад при его наследниках и вдохновлявший «птенца Петрова» И. Кирилова увидеть в приуральских и приаральских степях «Новую Россию».
IV
На этом фоне надо подойти и к вопросу об Индии. Очевидно, что Индия в это время – предмет раздумий авторов, уверенных, что борьба России с Англией уже развернулась, и для России речь может идти лишь об оптимальном варианте ее развертывания. Идея «угрозы» Индии со стороны Средней Азии для принуждения Англии к «хорошим отношениям» с Империей на Ближнем Востоке проскальзывала в записке Игнатьева Горчакову от начала 1860-x гг., предусматривавшей также союз с Ираном и усиление российской морской активности на Тихом океане. В литературе отмечается, что отправка в 1863 г. российской эскадры в США и принятие решения о соединении Оренбургской и Сибирской линий мыслились под влиянием Игнатьева Александром II и военным министром Д.А. Милютиным как ответ на английский демарш по поводу польского восстания [ИВПР 1997а, 97]. Однако для многих начинавшаяся «холодная война» не была очевидна. В 1864 г. и Горчаков, и Милютин верили, что среднеазиатское наступление ограничится примерно югом Казахстана, где следует «установить … прочную, неподвижную границу и придать оной значение настоящего государственного рубежа» [там же, 100].
Даже после первых столкновений русской армии с Кокандом и занятия русскими Ташкента некоторые петербургские эксперты оставались убеждены, что «о занятии Кокандского ханства … едва ли может возникнуть предположение не только теперь, но даже и в отдаленном будущем»; что «неприступные для военных экспедиций высоты … делают невозможным столкновение в средней Азии русских и английских войск»; что говорить здесь можно только о «состязании торговых интересов» [Долинский 1865, 52–53]. Но в 1867 гг. В.В. Григорьев твердо предрекает близкое столкновение России с Кокандом и Бухарой, снаряженных английским оружием (что и состоялось в следующем же году), и намекает на возможность применить к ней такие же меры. В 1870 г. Военный Совет уже прямо склоняется к тому, чтобы «умерить гордыню» Англии «с приближением русских войск к ее владениям в Индии» и занятием Бухары придать России «больше веса в решении Восточного вопроса» [ИВПР 1997а, 109]. «Сдерживание» Англии на Балканах и на Ближнем Востоке посредством «давления» на нее через Среднюю Азию становится, по сути, открыто проводимой политикой, во многом вопреки намерениям Горчакова.
Ясно, в таких условиях особое значение обретала тема «промежуточных пространств» между владениями России и Англии в Азии [Мартенс 1880]. С конца 1860-x между державами идут переговоры насчет нейтрального пояса, о чем особенно хлопочет Горчаков. Было очевидно, что буфер снизит действенность предполагаемого сдерживания, – и активность в этом плане Горчакова, сторонника «сосредоточения» России, стояла в прямой связи с его неприязнью к балканской ангажированности Империи. С занятием Россией Хивы и Коканда буферами были признаны подступы к Индии – Афганистан и Туркмения, причем каждая сторона была близка к аннексии своей части буфера. Если Горчаков стоял за нерушимость буфера, то Венюков, предрекая наступление Англии в Афганистане и занятие Россией Туркмении [Венюков 1875, 159], отстаивал не столько буферность Афганистана, сколько его сравнительную независимость от России, которая была бы ему гарантирована даже в случае разрушения Британской империи в Индии [Венюков 1878, 21–22].
Противники идеи буфера нападали на нее с разных сторон. Генерал-майор Терентьев настаивал на том, что именно непосредственная уязвимость Англии в Азии заставит ее «два раза подумать», прежде чем начинать войну с Россией, если последняя не будет прямо угрожать английским интересам [Терентьев 1875, 233]. Но оставалось откровенно неясным, где тот рубеж, за которым уязвимость Англии перейдет в прямую угрозу – провокацию войны. Подчеркивая, что с российских позиций на 1875 г. границы Индии крайне трудно достижимы, хотя Россия и будоражит враждебных к Англии индусов своим соседством [там же, 259], Терентьев колеблется между боязнью увязнуть в афганской войне в случае перехода русскими границ этого государства и признанием: нейтральный пояс мешает «привязать» Англию к России в европейских делах [там же, 241, 264].
С иных позиций существование буфера подверг критике прославленный правовед Ф.Ф. Мартенс. Юрист-миротворец отстаивал уничтожение буфера как провоцирующего державы фактора дестабилизации. По его мнению, прямое соприкосновение на твердых рубежах усилило бы их взаимозависимость и в конце концов склонило бы к сотрудничеству [Мартенс 1880]. Впрочем, эту аргументацию могли бы принять и сторонники давления на Англию, вложив свой смысл в понятие «сотрудничества».
Оригинальность рассуждениям Мартенса придает мотив «азиатского страха» как фактора, обрекающего империи на сотрудничество. По его словам, если Англия одолеет Россию в Азии индийским (азиатским) войском, – это будет начало конца английской власти над Индией. Но, с другой стороны, если Россия перенесет войну на ниву Индостана и вызванное ею восстание сметет британское владычество, – что делать России в покоренной 200-миллионной Индии? А дестабилизировав Индию, удержит ли она сама свою Центральную Азию? [там же, 86 и сл.] Апелляция к «азиатскому страху» была в какой-то мере понятна, например, Венюкову, предостерегавшему против усиления этнической розни в Империи по мере экспансии: избыток центрально-азиатских варваров по возможности следовало бы спихнуть на кого-нибудь другого – скажем, на Китай. В случае же разрушения британского господства в Индии взрывную волну должны сдержать «младшие братья» России – афганцы и персияне.
Итак, Индия была воспринята как слабое звено в структуре Британской империи, как объект давления, который мог бы парализовать Англию в классическом Восточном вопросе. Итак, для политиков, представлявших себе Восточный вопрос в качестве вопроса «английского», он неизбежно должен был трансформироваться в вопрос «индийский» и в таком качестве рационализировать строительство «русского пространства» в Центральной Азии – причем, пространства, не обязательно охватывающего Индию как таковую.
То же самое и в текстах, где авторы от «сдерживания» Англии, ведущего в тупики взаимозависимости, прямо переходят к планам войны с нею, в том числе с прямым переносом действий на индийскую почву. Венюков выпускает брошюру, где заявляет, что «материковые земли английской Азии могут и должны быть рассматриваемы как театр войны, в которой шансы успеха во многом будут зависеть от того, как противники Англии … сумеют воспользоваться физическими свойствами территории, приспособиться к ним и поставить англичан в невозможность оборонять обширную страну, ими захваченную, но чуждую и даже враждебную им по составу населения, а по отдаленности от самой Англии не могущую ожидать от нее больших подкреплений» [Венюков 1875, 2 и сл.]. Тут же он пишет «о путях из Индии на запад и север, которые по ходу политических событий приобретают теперь такое существенное значение … для Средней Азии, а следовательно и для нашего отечества» [там же, 169]. Через несколько лет, уже отставник и эмигрант, в памфлете против правительства Александра II он напишет о том, что это «правительство поступило нелепо, пытаясь в 1870-х годах сблизиться с Англией ценою азиатских своих интересов … Войну с Англией можно отсрочить, но избежать ее нельзя, и обязанностью русского правительства отныне становится подготовлять… ее успех заключением прочных союзов с естественными врагами Великобритании, изучением ее положения в Индии и в колониях, созданием большого наступательного флота». Но при этом он уверяет, что Россия уже утвердилась в «пределах, которые, вероятно, останутся на большей части протяжения ее всегдашними пределами» [Венюков 1878а, 385, 386]. Неизбежная война за разрушение Британской империи не должна быть войною за Индию, немыслимую для него в качестве российского владения.
Той же установкой отмечен, вероятно, самый известный из русских проектов прямого удара по Индии, выработанный в 1877 г. генералом М.Д. Скобелевым [Скобелев 1883]. Скобелев уверял, что с теми силами в Средней Азии, которые «наше правительство случайно скопило на здешней окраине … можно нанести Англии не только решительный удар в Индии, но и сокрушить ее в Европе» [там же, 544]. Ранее, еще в 1871 г. он полагал в духе общего имперского курса, угрожая Индии, обеспечить «решение в нашу пользу трудного восточного вопроса – другими словами, завоевать Царьград своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею» [Скобелев 1882, 122]. Но через шесть лет[38]38
Это («решение в нашу пользу трудного восточного вопроса, другими словами, завоевать Царьград, своевременною, политически и стратегически верно направленною, демонстрациею») – цитата не из текста Скобелева 1871 г., а из письма Скобелева от 9 августа 1876 г. Т. е. разница во времени между 2 текстами Скобелева составляет не 6 лет, а всего 5, 5 месяцев. Понятно, откуда возникла эта ошибка: автор взял дату (1871 г.) из последнего скобелевского документа в этой публикации «Исторического вестника» («Записка о занятии Хивы»). – Примеч. ред.
[Закрыть] он говорит уже об ударе по Индии, чтобы или уничтожить враждебную империю, или, по крайней мере, «парализовать сухопутные силы Англии для войны в Европе или же для создания нового театра войны от Персидского залива на Таврис к Тифлису, в связи с турецкими и персидскими силами, о чем уже с Крымской войны мечтают английские военные люди» [Скобелев 1883, 547]. Он призывает в случае быстро назревавшей русско-турецкой войны, ограничившись обороной на Дунае и в Азиатской Турции, предложить афганскому эмиру антианглийский союз и в случае отказа эмира разжечь в Афганистане гражданскую войну с вовлечением Персии. Предполагалось перебросить 30-тысячный российский конный корпус из Самарканда к Кабулу и оттуда «организовать массы азиатской кавалерии, которую во имя крови и грабежа направить в пределы Индии, возобновив времена Тимура!» [там же, 548.] Похоже, Скобелев вообще не планировал движение русской конницы далее Кабула, видя смысл операции в том, чтобы, провоцируя в Индии антианглийское «восстание», одновременно «всю Азию… поднять на Индию», повергнув «сокровище британской империи» в сплошной ад. Скобелев был убежден, что Восточный вопрос (о проливах) неразрешим прямыми действиями на Балканах и Кавказе. В XX в. сказали бы, что наступление на Индию, притом не русскими, но спровоцированными Россией азиатскими силами, рационализировалось в формах «стратегии непрямых действий».
Реальный подступ к подобному сценарию наметился в 1878 г., в первой половине, на протяжении которой в имперских кругах муссировалась неизбежность войны с Англией (в перспективе подготовки к этой войне Александр II давал согласие на Берлинский конгресс) [Милютин 1950, 27, 32, 42, 68]. В это время туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман, один из самых активных «атаманов» центрально-азиатского наступления, планирует русский протекторат над Афганистаном. Посланный в Кабул эмиссар Кауфмана полковник Столетов заключил с эмиром Шир-Али договор, обязывавший Россию помочь Афганистану в войне против Англии [Терентьев 1906, 451–452].
Но к осени того же года, когда двора, наконец, достигла просьба Шир-Али о русском покровительстве, Берлинский договор был уже заключен. Реакцией на эту просьбу стал страх Горчакова и Милютина – как бы такая сделка не дала повода англичанам к занятию Кабула. Петербург предал новоиспеченного союзника, бежавшего к Кауфману и вскоре умершего, а Кабул был-таки занят англичанами, что дало России моральное право окончательно демонтировать буфер, вторгнувшись в Туркмению. Похоже, контроль над Афганистаном был тем максимумом, дальше которого в глазах российских военных не могло простираться тотальное поле Империи. Другое дело, что выход на этот максимум увязывался с дестабилизацией Индии, которая, однако, могла мыслиться без прямого вовлечения России.
Итак, геоидеологический импульс к формированию особого пространства России вне коренной Европы толкал русских к конфронтации с основной силой, представлявшей Западную цивилизацию за пределами ее опорного ареала. Иными словами, к формированию из России и Англии новой конфликтной системы – евроазиатской, генезис которой был рационализирован ставкой на «непрямые» решения Восточного вопроса и которая, в конце концов, протянулась по югу Евро-Азии от Балкан до Тихоокеанского приморья гигантской дугой «холодной войны» (знавшей, как всякая холодная война, периоды обострения и разрядки). Логика этой борьбы подчиняла себе, иногда парадоксальным образом, политику, проводившуюся на тех или иных частных направлениях, в том числе, как я уже говорил, и решение о продаже Аляски. Обычное объяснение этого шага трудностями удержания Русской Америки под американо-английским натиском не учитывает комплекса мотивов, диктуемых логикой складывающейся евразийской конфликтной системы. Замечательная работа H.H. Болховитинова [1990] позволяет восстановить эту логику.
Еще весной 1853 г., когда оставались надежды привлечь Англию к разделу Турции, Муравьев-Амурский писал Николаю I: «Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого: что весьма натурально и России, если не владеть всей восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана. По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам … Но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с Северо-Американскими Штатами» [там же, 92]. За САСШ признавалась роль гегемона Америки и Карибского бассейна: на этом пути им предназначалось – выбить из Нового Света Англию. В 1850–1860-х гг. Соединенные Штаты, казалось, шли навстречу этим российским расчетам. В январе 1854 г., когда противоборство России с Англией стало очевидным, Вашингтон через акт фиктивной покупки взял под защиту Русскую Америку. Президент Ф. Пирс прямо склонялся к мысли о вступлении Штатов в войну на стороне России [там же, 96]. В 1859 г., когда началось обсуждение плана реальной продажи колоний, посол России в США Э.А. Стекль утверждал: «Если Соединенные Штаты станут обладателями наших владений, британский Орегон окажется стиснутым американцами с севера и юга и едва ли ускользнет от их нападений» [там же, 114]. 1860-e и 1870-е становятся пиком русско-американского сближения. Столь разные авторы, как Герцен, Фадеев, Венюков, Терентьев, твердят о союзе этих держав: американский визит российской эскадры в 1863 г. одновременно защищал воюющий Север от вмешательства Англии на стороне южан и грозил Англии возмездием за демарш в пользу мятежных поляков. Роль Англии в развитии двух мятежей сближала Петербург с Вашингтоном. В глазах американской общественности убийство Линкольна и покушение на Александра II объединялись общей схемой «террор против лидеров-освободителей». Визит морского замминистра Фокса к Александру с приветствиями по поводу «спасения от каракозовского выстрела» становится звеном в формировании союза; следующим оказывается продажа Аляски. Как предполагал в те годы К. Маркс [Маркс, Энгельс XXXII, 542], «янки благодаря этому отрежут с одной стороны Англию от моря и ускорят присоединение всей британской Северной Америки к Соединенным Штатам. Вот где собака зарыта!»
Отказ России в 1810-x гг. от присоединения Гавай сделал беспочвенными попытки конституировать север Тихого океана в качестве закрытого «русского моря». После этого отказ от Форта Росс был неизбежен и ограничил русское присутствие на Тихоокеанском западе. С присоединением междуречья Амура и Уссури Империя обретала на этом океане другую, значительно более южную базу, прямо связанную в отличие от Русской Америки с массивом евроазиатских южных земель. Через полвека Г.В. Вернадский будет скорбеть о том, что выход русских в Тихий океан через устье Амура не был использован для подпитки Русской Америки притоком переселенцев [Вернадский Г. 1914]. Напротив, для политиков 1860-x он снизил ее стратегическую ценность. Возможность превратить часть Тихого океана в закольцованное морскими базами «русское море» была утрачена поколением раньше; оставалось попытаться превратить запад океана в союзное России пространство, тем самым предотвратить эксцессы вроде английского нападения в 1854 г. на Петропавловск-Камчатский и обеспечить себе на этом направлении прикрытие для активных действий Империи по дуге русско-английского евразиатского противостояния. Права СВ. Лурье в том, что Россия выращивала Соединенные Штаты, как и Иран, на роль региональных агрессоров, подрывающих британские позиции и тем самым призванных облегчить русским нажим на Индию и оттягивание английского внимания от черноморских проливов. Аляска продавалась неформальному союзнику в видах упрочения союза. Другое дело – при этом не были учтены масштабы собственно американской активности на Тихом океане, обозначившейся уже с 1850-х плаванием эскадры адмирала М. Перри в Японию и принуждением последней к Ансэйским договорам. Россия поддерживала САСШ как панамериканскую и карибскую, но не как пантихоокеанскую и не восточноазиатскую силу. В общем, это был просчет, очень сходный с тем, какой позднее потерпели германские геополитики, отводя Соединенным Штатам роль строителей Панамерики, не вмешивающейся в судьбы восточно-азиатской «Великой зоны процветания», создаваемой Японией. Тихоокеанский консенсус дал трещину уже в 1877–1878 гг., когда САСШ в перспективе русско-английской войны резервировали нейтралитет, воздержавшись от предоставления базы российской эскадре, направляемой для угрозы Британской Канаде. Впрочем, на начало 1890-х Штаты в российских верхах трактовались на правах союзника. В 1893 г.в публикации Министерства финансов, обосновывавшей строительство Транссиба, в числе прочих причин для этого шага указывалось установление контакта со Штатами как державой, которую сближает с Империей «солидарность… политических интересов», несмотря на их конкуренцию на хлебных рынках [Сибирь 1893, 308]. Через всю нашу первую евразийскую фазу от Герцена до Витте прошло представление о Вашингтоне как силе, содействующей созиданию «русского дома» на пространствах внеевропейского Старого Света, – представление, подорванное по-настоящему лишь американской ролью в русско-японской войне.
В рамках евразийской бинарной системы классический Восточный вопрос оказался сцеплен с судьбами таких стран и территорий, к которым прежде он не мог иметь никакого касательства. Движение в Среднюю Азию заставило Россию в конце концов под лозунгом защиты Китая вмешаться в его отношения с мятежными мусульманами Восточного Туркестана. В 1869 г. она отказывается признать Кашгар нейтральной зоной и фактически заполоняет его северную часть своими товарами. Английская реакция не замедлила. Терентьев отмечает: «Англичане теперь зачастили в Кашгар; и мы не без удовольствия видим, что есть и еще один путь (к Индии. – В.Ц.): чрез перерыв Каракорумского хребта от истоков р. Каракама к Ладаку» [Терентьев 1876, 182 и сл.]. Любые территории, ведущие к «ахиллесовой пяте» Англии, становятся предметом внимания русских. Если Венюков радуется возможности часть тюрок и монголов спихнуть на Китай как империю слабую и якобы не опасную для России, то для Терентьева мусульманские восстания по западной кайме Китая – хороший повод для России выдвинуться прямо на стык Китая, Индии и Среднего Востока. По случаю мусульманских волнений в Урумчинском округе он находит «весьма вероятным, что нам придется и здесь выступить навстречу китайской власти и покорить для нее Урумци, как это сделано уже <с> Кульджею» [там же, 79]. Он готов даже говорить, что в Китайском Туркестане «готов разыграться самый интересный эпизод нашего, исторически необходимого, исторически неуклонного движения на Восток» [там же, 62]. В 1870-х Потанин предпринимает свои экспедиции в Монголию и Тибет. В 1881 г. после кризиса в отношениях с Китаем по поводу участи «умиротворенной» русскими Кульджи Мартенс публикует осуждение европейских и особенно английских бесчинств в Китае, якобы по недоразумению навлекающих китайский гнев и на русских. Миссией России объявлено – быть защитницей Китая.
Прочитывается внутренняя континентальная кайма всех приморских цивилизационных платформ Евро-Азии: миру предстает Россия, вобравшая почти все земли между нею и коренным Китаем, Индией, иранским Средним Востоком.
В лучшей работе Терентьева «Россия и Англия в борьбе за рынки» [Терентьев 1876] намечается политическая программа, которая по-настоящему станет на повестку дня после Берлинского конгресса. Терентьев формулирует задачи большой игры двух неазиатских сил в Азии: перекрыть ввоз товаров из Индии; в дополнение к этому отменить закавказский облегченный транзит, открывающий Англии путь в Среднюю Азию через Кавказ; ввиду того, что Бухара и Хива «сделались передовыми складными пунктами для произведений соперничающей с нами нации», – либо перейти к силовому, «непосредственному подчинению среднеазиатских рынков», либо, в крайнем случае, насадить здесь собственную промышленность, способную подавить индийский привоз. Терентьев, кажется, с наибольшей отчетливостью обозначил положение Средней Азии как «прекрасного этапа, станции, где мы можем отдыхать и собираться с силами», готовясь к войне с Англией [там же, 183]. Намного отчетливее, чем И.В. Вернадский, он понял, что борьба России с «владычицей морей» может вестись под лозунгами «защиты континента», но также, что эта война не обязана вестись только в близкой англичанам стихии, что Россия в ней может опереться на континент как источник своей силы. «Все игроки, опиравшиеся на море, на флот, побеждены «владычицей морей». Мы опираемся на сушу, на пехоту – нам трудно пробиваться вперед, но зато трудно и возвращаться, а потому резоннее всего оставаться там, куда привела нас судьба, и постараться стать там твердою ногою. Игра наша далеко еще не началась».
Для Терентьева, Англия – постоянный враг, «относительно Англии мы, по крайней мере, гарантированы от неожиданностей, ибо всегда должны ожидать противодействия своим интересам» [там же, 210]. Задачи развития русского флота на Черном море, помимо всего прочего, определяются и близостью выходов из этого моря к Суэцкому каналу: натиск пехоты с севера на евроазиатское приморье (опять Индия!) надо поддержать морским присутствием на торговых линиях, ведущих в Индийский океан, особенно мимо Суэца. «Истинные устья Днепра и Дона не в Херсоне и Таганроге, а в Дарданеллах. … С прорытием Суэцкого канала Черное море приобрело еще и то значение, что Россия стала ближе к Индии, чем Англия – мы, значит, выиграли больше. Рано или поздно нам, вероятно, придется перенести центр тяжести на юг. Киев как столица во многих отношениях лучше Петербурга и Москвы» [там же, 246].
Этот дрейф на юг мыслится всецело вне «коренной» Европы. Более того, трактуя объединенную Пруссией Германию только как балтийскую силу, Терентьев ей готов полностью уступить гегемонию на Балтике. «Конечно, за кусок земли, прилегающий к Мраморному морю, нам, может быть, придется отдать часть балтийского побережья, но тут и колебаться в выборе не следует» [там же]. Терентьев сознает, что при новых условиях Европы, с возвышением ее нового восточного центра в Германии Восточного вопроса не решить без участия Берлина, – и в то же время он полагает, что это участие сведется к балтийской сделке, как если бы речь шла о доимперской Пруссии. Австрия вообще выпадает из его поля зрения. В основном же этот вопрос для него стоит «в прямой зависимости от расстояния между русскими и английскими передовыми постами» [там же]. Натиск на Индию с севера – инструмент овладения проливами, но овладение проливами выведет российский военный и торговый флот к Суэцу, всё в тот же Великий океан, так что Южная Азия будет зажата между топотом пехоты с севера и торговыми русскими флагами по морской окраине: «вслед за штыком в Азию торжественно вступает и наш шестнадцативершковый аршин» [там же, 254]. Терентьев остро ощущает внутреннюю системность отношений на всех участках огромной евразийской полосы, где идет русско-английская борьба. Но он совершенно не чувствует такой же системности и напряженности в балтийско-черноморской, восточноевропейской полосе, на которой сосредоточен взгляд P.A. Фадеева. Он считает, что Германии можно спокойно отдать Балтику, и это никак не скажется на ситуации балканской и черноморской. В его глазах, проливы входят в одну линию с Ираном, Суэцем, Индией, даже с Восточным Туркестаном, – но вовсе не с Балтикой, не с Польшей, не с Богемией, не с Галицией. В свою очередь Фадеев, страшащийся расточения России в Туране, практически не воспринимает «английской», т. е. евразийской, проблематики. Эти два видения дополняют друг друга: где у одного автора – фокус российских задач, у другого – глухой хинтерланд. Так обозначаются два лика российской геополитики на начальной стадии первой евразийской фазы – именно на той стадии, что пролегла между Парижским конгрессом и Берлинским миром.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































