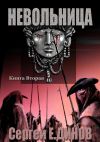Текст книги "Тутытита"

Автор книги: Вадим Сургучев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вадим Сургучев
Тутытита (сборник)
© Сургучев В., текст, 2021.
© «Геликон Плюс», макет, 2021.
Надысь
Записки менеджера России
Есть книги, которые учат, как правильно продавать. Выбросьте их в лужу.
Всё на самом деле бывает у нас так, как я написал ниже. Или не я. Или не писал. Или не бывает. Я не знаю точно. Ведь известно, что хороший менеджер должен уметь приукрасить. Я бы добавил, что отличный – должен уметь соврать. Непревзойдённый – уметь соврать так, что окружающие этого не поймут. А гениальный и сам точно не знает, что из сказанного им правда, а что нет.
Про себя скажу, что не знаю, какой я менеджер. И менеджер ли.
1. Записки медицинского менеджера
Лирическое:
Выход из отношений равносилен выходу из запоя. И чем дольше ты «бухал» человека, тем труднее будет выход. Главное – не начать опохмеляться воспоминаниями и не забыть, что в магазине «Азбука вкуса» ещё полно красивых бутылок.
После армии хорошо.
Хочешь, дыши полной грудью, насвистывая тяжёлый рок прокуренными лёгкими, а хочешь – пинай собачьи кучи. Уже никто не пошутит про маму, и некому теперь дышать в затылок перегаром в строю.
Потому что нет никакого строя, нет начальников и нет солдат, нет ничего, что позволяло бы кому-то считать себя умнее только лишь потому, что у него больше выслуга, – так мне казалось, когда первый месяц по приезде в Питер я ходил и пинал собачьи кучи у себя в Озерках.
Прописался я быстро, месяца за три. Без прописки ж никуда. Все три месяца изучал газетные предложения о работе. Вариантов тьма, один краше другого, от этого меня раза три посещала эйфория, которую я тщательно унимал водкой. Последний раз, когда уже наконец прописался, унимал с особой тщательностью – дня четыре. С трудом решил, что хватит, уже унял, и натолкнулся на заманчивое, как мне показалось, объявление в газете. В нём предлагалось за очень неплохие деньги что-то рекламировать, проводить семинары, встречи и продавать. Что продавать – мне было всё равно, я побрился и поехал по указанному адресу.
Там, куда приехал, где-то среди промышленной зоны на юге Питера, стоял ангар. Я туда бодро вошёл, и мне сразу сказали, что такой хороший человек, ещё совсем тёплый офицер, организованный и дисциплинированный, им очень нужен. Мне показали старшего – мужика чуть повыше меня и сказали, чтобы я завтра к восьми был у них в ангаре, который они назвали офисом. Ушёл я довольный, а когда обернулся – мне доверительно улыбались в дверной проём ангара несколько человек.
По моим подсчётам выходило, что за неделю работы в этой фирме я мог бы получить денег столько, сколько на своей службе за несколько месяцев. И это ещё не предел – так объяснили. Ну, предел – я же себя знаю – я сразу вычеркнул. Уж что-что, а лекции и семинары – это вот прям моё. Прям по мне. По всем подсчётам у меня выходило ого-го сколько денег. И где-то в углу мыслей уже замаячил состоятельный человек. Я. Такое большое количество денег я, будучи человеком рачительным, решил попусту не тратить, а откладывать на машину, ну или на чёрный день. Что, в принципе, одно и то же.
Чем именно занимаются сотрудники этой конторы, я узнал на следующий день. У ворот ангара, куда я приехал без опозданий, постороннего запаха и в костюме, старший, с ним ещё двое и я погрузились в машину и поехали. По пути все шутили, но ни слова не говорили о работе. Приехали в Гатчину, пригород Питера, остановились, вылезли. Старший сказал:
– Сегодня окучиваем вон тот квартал, этот не трогаем, тут мы работали вчера.
Слово «окучиваем» мне показалось по-армейски родным, но от него веяло чем-то недобрым. Это предчувствие недоброго я решительно от себя прогнал. Так как ну уж слишком много денег мысленно отложил на чёрный день.
Меня прикрепили к одному из сотрудников, самому молодому и болтливому, и сказали, чтобы ходил с ним, слушал, запоминал, потому что скоро буду работать – так сказали – самостоятельно.
Из багажника машины взяли каждый по несколько небольших коробок и разошлись в разные стороны.
Первый подъезд, в который мы вошли, пах кислой капустой и мочой. Молодой звонил сразу во все квартиры этажа, представлялся работником собеса, узнавал, есть ли пенсионеры в квартире, так как собес проводит благотворительную акцию и предлагает всем старикам очень хорошие медицинские товары. Если старики слушали одобрительно, он приглашал их через пять минут во двор дома на презентацию этих замечательных препаратов, которые только сейчас, только у него и никогда больше, потому что желающих много, а выделено мало. Так прошли все пять этажей. Стремительность, с которой действовал мой напарник, меня слегка тревожила. Справлюсь ли я так же умело, как он? Иных тревог пока не было.
Через пять минут, старики и старушки, примерно человек пятнадцать, у подъезда уже внимательно слушали моего молодого коллегу. Я же стоял в сторонке и, как было указано, слушал, стараясь всё запомнить.
Выяснилось, что продавали мы специальные накладные бинты, которые жёстко крепились на теле человека, и после того как их наденешь, обязательно увидишь солнце – они распрямляли спину и гнули позвоночный столб куда положено. Сотни довольных приобретением пожилых людей – по словам молодого – уже остались в его прошлом, обретя наконец своё будущее, радость и желание жить весело. Эта новейшая финская разработка стоила всего каких-то полторы тысячи рублей, в то время как в аптеках – целых пять, а разницу, мол, собес мужественно покрыл своим телом – программа такая, наша страна проявляет безусловную заботу о пожилых людях.
Три старушки заинтересовались финской продукцией и сказали, что купят. Молодой записал номера их квартир и пошёл в первую. Был тёплый май третьего года нового тысячелетия, хороший, уютный май, и я почувствовал, что мне очень нужно подышать плотным от запахов травы воздухом, а потому в квартиру с напарником не пошёл.
Тот вышел из подъезда через пятнадцать минут, отдышался и сказал, что устал им всё объяснять, но спасибо им – продал три комплекта этой хрени, цена которой на самом деле рублей двести и делается которая гастарбайтерами в Колпине. Ещё сказал, что норму свою – тысячу рублей – на сегодня уже выполнил, но денег много не бывает и он постарается продать ещё штук пять-десять.
Я ответил, что уже чувствую, что готов работать самостоятельно, тогда мне показали на соседний дом – там, мол, работай.
Я медленно пошёл в сторону указанного дома, завернул за него и чуть не бегом побежал к остановке маршрутного такси. Через час уже был в Озерках, ходил во дворе и задумчиво ворошил носком туфли собачьи кучи. Они не пахли.
В тот вечер я долго спорил с водкой, кто сильней. Я проиграл. Причём так уверенно, что два дня не имел связной речи и пах той самой собачьей кучей.
2. Офицеры
Ещё лирическое:
Я уверен в том, что любимых людей надо принимать дозировано, словно сильнодействующий наркотик. У меня, например, в плеере никогда нет самых любимых песен. Я переживаю о том, что заслушаю их до нотных дыр.
Офицеры девяностых – особая каста. До революции офицеры были «не извольте беспокоиться», «барон, я вызываю вас на дуэль» и «я вам не позволю». В революцию они били белых в одних на всю дивизию кожаных красных штанах и пели «Интернационал». В тридцатые они поменяли будёновки на фуражки с параллельным земле козырьком, а прямой в горизонт взгляд их часто выдавал ожидание скорого ареста непонятно за что. Офицеры войны – герои, хлебнули лиха полную лохань. После войны, лет сорок, офицеры лишь вяло меняли форму, иногда выстреливая в космос Карибским кризисом или бунтующим Саблиным. Офицеры девяностых – это вам не здесь, скажу я вам. Это нет денег, нет квартир, нет сигарет, горячей воды, отопления, нечего есть и нет завтра. Офицеры девяностых – это из пятнадцати лодок дивизии только полторы могут выйти в море. То есть полноценно – лишь одна, а другую вытолкнут из бухты грязным буксиром, она там делает круг почёта и возвращается. Много ль наездишь, если часть винта кто-то отпилил. Офицер девяностых – это его полудохлые молодые матросы, которых лейтенанту нечем кормить, да и сам он такая же дохлятина. Офицер девяностых – это часто стакан спирта вместо обеда. Потому что обеда нет, а спирт есть. Дёрнул – и будто поел.
Я был офицером девяностых, и генералом в этой армии я не стал. Впрочем, и не старался. Да и не смог бы, так как известно, что у генералов есть свои дети. Папка мой был бульдозеристом в Рязанской глухомани, посему я уволился со службы капитаном третьего ранга, или, по-сухопутному, в звании майора.
Из всех заслуг имелись лишь пара медалей да маленькая пенсия, которой едва хватало на неделю совсем не барской жизни. Вот и все заслуги. Впрочем, уныния не было от рождения, а новая гражданская жизнь с едва зародившимся буржуазным прищуром хитрых её глаз ещё и давала надежды. Не ясно, впрочем, какие именно, у меня на этот счёт в голове имелся непроходящий туман. Но то, что было раньше, на флоте, никаких надежд на хорошее не давало вовсе. Поэтому я смело, с задором уволился по окончании очередного контракта.
Я многое умел – так казалось. Например, организовать что-то, у чего раньше не имелось организации. Или написать какой-то план. Или наорать в мороз песню. Ну или убедить нерадивого разгильдяя в том, что он такой и есть и спорить тут не о чем. Всё это на флоте я делал много раз, по кругу, по квадрату, взад-вперёд и обратно. А больше ничего. Но думал, что если этого всего умения и не сверх меры, то уж точно – достаточно. Подписал все бумаги и дал дёру в Питер. В другую, заманчивую, так казалось, жизнь.
3. Папка
Абсолютно лирическое:
В этой генной инженерии
Верховодит странный кто-то:
Бывают бабы – незабвенные,
Но с попами от бегемотов.
Кстати, об отце. Который бульдозерист.
Папка красавчик был, блюл себя, подолгу брил своё красное лицо, разглядывал морщинки часами.
Это когда трезвый.
Когда не очень, то свой имидж отличного папы и прекрасного мужа он ограничивал тем, что никогда не ходил в магазин за пойлом. Посылал друзей, с которыми зависал, а если их не было, то маму. Потом храпел, а после вставал, и мама подчинялась единственному в таком состоянии для папы слову с этим лингвистическим чудом – мягким брежневским «г»: «Сбегай!»
Мне было пять, и он научил меня, когда можно женщину так, чтобы она не забеременела. Все эти новые слова мне были интересны, и я источал задумчивый вид.
Такой вид соблюдать было необходимо, потому что папа сердился, если не замечал понимания в глазах слушающего, и повторял до тех пор, пока этим самым пониманием не начинало пахнуть.
Папка любил свои воспоминания об армии, и потому мы с братом часто ходили строем из одной комнаты в другую и пели песню «Нежность» – иные папа не видел хорошими для строевого исполнения.
Однажды несколько дней кряду с перерывами на отцов сон строились по росту. Вдвоём. Проницательный взгляд полководца всё время выискивал и находил в строе из двух человек огрехи, и папка затевал перестроения. Он кричал: «Разойдись!» – и мы расходились бегом. Брат в туалет, а я под кровать, наивно полагая, что там про меня забудут.
Но никто не забывал, и уже через минуту папин голос трубил построиться по росту для исполнения песни «Нежность», обозначая шаг на месте.
Папка часто рассказывал о своих многочисленных армейских подвигах. В течение пяти лет я слушал его потрясающие истории, не зная тогда, что папа весь свой армейский срок пробыл в степи где-то под Челябинском, что-то охраняя. Из рассказов выходило, что отец – герой. Только об этом никому нельзя было рассказывать, потому что папа служил в очень секретной части и давал подписку о неразглашении. Я шёпотом поклялся, что никому.
Однажды отец рассказывал, что пришлось ему служить на корабле, на котором только он один мог переносить хоть какую качку, даже в девятибалльный шторм. Стоял он за штурвалом один, потому что всех, кроме него, сморила морская болезнь.
– Стою, – говорит, – сынок, за штурвалом, а ветер такой, что рвёт из рук руль, но я из последних сил держусь. И вот волна с левого борта, такая сука страшная, огромная, будто дом на меня падает. Смывает меня через леера правого борта, и я оказываюсь в море. Ну всё, думаю, трындец мне пришёл, прощаюсь с жизнью. Но тут с правого борта такая же волна, подняла меня и – в корабль. Очухался я, смотрю – опять за штурвалом стою, крепко держу его, мокрый весь до трусов. И тут ветер в лицо. Вот. А ты спрашиваешь, отчего у меня лицо красное. Конечно, на том задании секретном и продубился лицом я.
Я хоть про лицо у него ничего и не спрашивал, но всё равно было интересно. И гордо. За это папке дали орден Красной Звезды, но при переезде на другую квартиру он затерялся.
Потом отца послали на танке в Чехословакию, а то там произошёл переворот и с ним могло справиться только одно подразделение – отцово, конечно. Всех, кого надо, разогнали, особо буйных арестовали, а одного генерала из бунтарей отец арестовал лично. Потом конвоировал его на танке в Кремль самому министру обороны. За это отца наградили звездой Героя Советского Союза, но награду можно будет забрать в Кремле только по окончании срока подписки. Через пятьдесят лет.
– Вот, сынок, – плакал папа, – я уж не доживу, а ты съездишь и возьмёшь лично у Леонида Ильича мою геройскую звезду, он тебя будет благодарить, а ты хорошо запомни его слова и то, что папка твой – герой.
Папа много раз водил самолёты, особенно бомбардировщики, и однажды почти получил приказ сбросить атомную бомбу. Но на какую страну собирались бросать, папка не сказал. Секретная информация, мол. Летал он и на истребителях, наводя ужас на немецкие «мессеры», которые через двадцать лет после окончания войны всё ещё летали над Румынией и Болгарией. Но тут прилетал папка, и «мессеры» в страхе разлетались кто куда, какая бомбами. За это его наградили вот такенным, в полгруди, орденом Дружбы народов. Орден этот тоже в Кремле.
Однажды перебросили его на Дальний Восток, поближе к Японии. А то что-то их подводные диверсанты разгулялись. Кого посылать? Понятно, папку. Как он их там всех отметелил под водой! Лет пять после этого самураи там не появлялись. За это отцу дали денежную премию в десять тысяч рублей, но их украли, когда он ехал на поезде домой.
На улице я ходил гордый и загадочный – ещё бы, какой у меня батя герой. Сейчас только немного расслабился. Ну так конечно – нагрузки такие, и всё тело изранено, и шрамы даже на голове, под кудрями. Как тут не расслабиться.
А ещё папа учил всегда говорить правду.
– Потому что, – говорил он, – враньём ты оскорбляешь в первую очередь себя.
– А других? – я чадил любознательностью.
– А других – хрен с ними, – сказал отец, слегка подумав.
А сейчас папка бульдозерист в своём селе, хоть и на пенсии. Работать-то некому, одна пьянь кругом. Папка тоже не промах в этом деле. Но зато он много где служил и много чего видел. С его слов. Его слушали. Всем было весело. Наливали и пили сами. Так там и жили.
4. Продавец конструкторских разработок
Лингвистическое:
Слово вонь непременно должно быть мужского рода.
Во всяком случае, по понедельникам до обеда в Питере на красной ветке метро.
До того как я каким-то чудом попал в конструкторы, я, конечно, где-то шлялся. Я имею в виду – охранял какую-то дурно пахнущую фекаль. Не то чтобы за ней шла охота, но охранять её было необходимо. Шлагбаум, самосвалы и цистерны. И запах говнища, к которому я за три месяца так привык, что мне казалось, будто в метро мне бабушки уступают место исключительно потому, что у меня усталый вид. Цветы выгибаются в сторону солнца. От меня же они отгибались, даже когда солнце скалилось у меня за спиной во всю свою огненную морду. Зато носки можно было не стирать месяц, пока не истлеют там, в ботинке, или не влипнут в подошву. По сравнению со мной носки всегда имели запах росы со стебля молодого рододендрона.
Потом мне кто-то из знакомых предложил съездить в одно бюро, конструировавшее и продававшее арматуру. Я сутки пролежал в нашампуненной ванне и поехал. Мухи «Новочеркасской», куда я приехал, всё равно улыбались мне, как знакомому. Меня почему-то взяли в это бюро. До сих пор удивляюсь. Вот что я им мог наконструировать, если про кульман я думал, что это чья-то фамилия? Впрочем, кульманов там давно уже не было, всюду стояли компьютеры, удобные кресла, которые уютно, по-домашнему, скрипели под задами людей с научными лицами. Научное лицо – это непременно старорежимные очки в круглой оправе, взгляд, затуманенный ускользающей мыслью, и что-то неухоженное на голове, этакое гнездо вороны-алкоголички. И непременно вытянутые пользованным презервативом свитеры с заплатами на локтях. Наука, мать их в ухо. И я им подошёл. Из-за запаха что ли?
4.1
Свою вахту конструктора я начал с того, что умер. Отработал пять дней, потом у меня потёк нос. Да обильно так потёк, что я думал – через него вытеку весь я. Картина карикатур Бидструпа: у человека начался насморк, потекло из носа, потом всё больше и гуще, человек всё меньше и меньше, а лужа на полу больше – и нет человека. Только кучка соплей и осталась. Вот это про меня. После было четыре месяца больницы. Четыре операции, от которых остались лишь дрожь и почти полная анемия правой стороны лица. Надеюсь, не мозга. Хотя не знаю. Многие спрашивали про туннель. Не видел.
После всего вшили в бровь трубку, она шла под кожей и выходила через нос. Трубка раздражала больше всего – невозможно было уснуть, а когда пытался смотреть вбок, то задевал трубку глазом. Это холодное бревно в глазу меня раздражало.
Только значительно позже, уже после Нового года, я к чему-то приступил в этом КБ. В зеркала, коих там было множество, смотреть пугался. А когда перестал бояться смотреть хотя бы прямо перед собой, почти тотчас же мне дали в руки увесистый дирижабль страниц – на, мол, изучай, мол, это наша конструкторская азбука.
Конструкторы – те самые, умные, с карандашом за ухом – в КБ, конечно, были. Но в других отделах. А три слова названия моего отдела, куда я попал после смерти, насторожили: отдел качества, безопасности и надёжности. Как будто в пределах границ жизни не нашлось места ни надёжности, ни всему остальному с ним вкупе и для этого создан целый отдел.
В тех дирижаблях мне всегда очень нравился титульный лист. Он мне виделся глубокомысленным и красивым, как Роден или его скульптуры – я никогда не мог разобрать, потому что успевал заснуть раньше. Там со второго листа начиналась нечто, от чего становилось уныло.
Как они – а в отделе кроме начальницы Ларисы Ипатьевны ещё было пять человек – разбирались в этих программах качества, я не знаю. Формулировки, находящиеся в теле документов, были настолько общими и длинными, что порой мне казалось, будто вполне между строк можно втиснуть биографию Геббельса и этого никто не должен заметить. Я читал эти километры фраз и не сразу понимал, что уже давно, почти с самого начала вчитывания, мысленно нахожусь далеко, там, где мама и сестра, и что – вот же блин – в Японии опять землетрясение, а в Африке снова голодают.
Мне объяснили, что если что-то непонятно, – а такое поначалу может быть, – то я могу спрашивать совета у более опытных товарищей или читать руководящие документы, которыми были забиты все стеллажи по всему периметру кабинета. Я читал руководящие документы, у товарищей спрашивать стеснялся. Или даже не так, я просто не мог сформулировать вопрос. Ну в самом деле, не мог же я подойти и спросить:
– Товарищ, помогите мне, объясните, а то мне тут из этих двухсот страниц понятны лишь запятые.
Я читал толстые книжки, до того умные, что в них я понимал ещё меньше, чем в программах обеспечения качества. Но – хвала руководству – меня никто не подгонял, и я продолжал пыхтеть и методично вчитываться. Почти бесполезно. Спасали курилка, обед и конец рабочего дня.
Друзья, или, вернее сказать, приятели у меня там образовались не скоро. Сказывался разный уровень или даже ареал обитания до. Я не понимал их шуток, основанных на простецком каламбуре, где слово «писька» считалось неприличным, а Анатолий Иванович делал вид, что обижается на Ларису, когда та говорила «только что»: он отвечал, что он не Толька, а Анатолий Иванович, и им было смешно. На свою же переделку «Сирано» «Мой хрен приходит раньше твоего часа на полтора…» я в курительной от тамошних мужиков получил такие удивлённые лица, что тут же забыл, что там было дальше в моём «Сирано». Парни странные, все откосившие от армии, и это было сразу заметно по какому-то наивному выражению лиц и неуверенному произношению звонких согласных, слова их тонули в желудке. Мужики – почти сплошь ветхие, в мятых штанах и потёртых свитерах, улыбались лишь тогда, когда выпивали рюмку водки.
Кстати, о питье. Тут у Ларисы была заведена своя культура. Она проповедовала пару-тройку рюмок во время обеда в отделе. По праздникам, которых много, или просто так – вот захотелось, и давайте сядем. У нас всегда в шкафу стоял строй красивых бутылок разного пойла. Эта культура питья обрекала меня на уныние. После застолья ещё часа четыре изображать из себя умного конструктора, понимающего, что он читает. Там и на трезвую то голову была проблема с пониманием.
Знания о нашей работе открывались мне постепенно, со скрипом. Через месяц Лариса сказала мне, что теперь я отвечаю за Смоленскую атомную станцию, меня с этим фактом все поздравили. На эту станцию я так ни разу и не съездил, моя ответственность ограничилась тем, что Юрий Вячеславович передал мне гору разных документов, которые я аккуратно сложил в свой шкаф и так до увольнения ни разу и не заглядывал в них.
Ещё вскоре я узнал, что наш отдел на основании проведённого в командировке обследования пишет заключения, в которых нашему оборудованию мы продлеваем ресурс, иными словами – даём возможность эксплуатировать его ещё какой-то срок. Или не даём. Но такого я не припомню. Всем выгодно, чтобы дали, за эти-то заключения наш отдел и получал деньги. Речь об этом чуть позже, а пока меня засобирали в командировку на Курскую атомную станцию. За неё отвечал старший из наших двух Андрюх в отделе, меня пристегнули к нему с основной целью помочь, поддержать и поучиться, как там всё делается.
Я был рад, словно ребёнок, потому что от этих программ у меня уже всё опухло.
4.2
Первая моя командировка вышла поучительной – никогда после я не ходил в кабаки в чужих городах.
На самой станции я был лишь в первый день, остальные просидел в номере гостиницы. А всё потому, что вечером первого дня нам с Андреем стало очень скучно и мы решили посетить ресторан.
Там в тот вечер, кроме нас, никого не было, но мы ни в ком и не нуждались. Первая бутылка водки пролетела со свистом, попросили вторую. Официантка несла её долго, ну очень долго. И у меня начались провалы буквально со второй рюмки новой водки. Помню, закончились сигареты, я попросил, но в кабаке их не оказалось. Зато – как мне сказала официантка – сигарет полно в ларьке, что рядом с гостиницей. Возле ларька меня уже ждали. К сожалению, это я понял слишком поздно, когда уже лежал разбитой мордой в небо. Не знаю, сколько лежал.
Наутро выяснилось, что у Андрюхи совсем нет денег. Пока я лежал на снегу, изучая редкое созвездие «Пьяной медведицы», он провожал какую-то даму. Что за дама, Андрей сказать не мог, единственное, что он помнил отчётливо, – что в гостиницу его привезла милиция. У меня оставалось из денег лишь то, что не взял с собой в ресторан, на это и жили.
У курян особый говор – с таким мягким смешным выделением первых частей слов. В следующие мои приезды туда я уже прилично копировал этот акцент, и в магазинах на меня не оборачивались люди, и никто ко мне интереса больше не имел, признавая своим.
Хотя и пить в чужих городах я зарекся.
А по приезде в Питер меня почти сразу бросили в помощь другому Андрею, младшему. Его зона ответственности – военно-морские объекты. Вот зачем им нужен был офицер: у Андрюхи не всё ладилось, нужна была помощь человека, владеющего основами знаний того особого информационного поля, что присутствует в военных городках, иными словами, хорошо знающего, чем хрен отличается от лопаты. Андрей этого отличия не знал, да и не мог. Там, в этих базах, если ты матом не умеешь крепко, на выверт, тебя признают иностранцем и откажутся понимать.
Вот стоило мне бежать с флота, чтобы через полгода опять там оказаться. Хотя уже и в ином качестве, но там же.
4.3
В общей сложности за эти три года моей работы в КБ мы с Андреем намотали командировок пятнадцать. Побывали в таких клоаках, куда нормальный человек плюнуть испугается.
Мы приезжали и составляли акты, что мы всё осмотрели, провернули, разобрали и собрали, испытали и у них всё, как надо. Ещё составляли такую огромную простыню, в которой указывался каждый наш клапан – сколько он наработал в часах, сколько раз его открывали-закрывали.
Всё это очень важные для науки сведения – в Питере по ним составлялись те самые заключения о продлении.
И сейчас самое время о науке. Теперь я точно знаю, что наука наша делается в нужниках, но обязательно с умным видом.
Вот приезжаем мы на базу на десять лодок сразу, а три из них, положим, в море, на работе, и когда вернутся – никто не знает. Что делать? Ну, понятно, писать и на них липовые акты, что мы там тоже провернули, закрутили, осмотрели. Флоту что надо? Ресурс продлить, чтобы было добро на выходы в море, посему они что хочешь подпишут. А на тех семи оставшихся кто нам даст разобрать что-то? Когда лодка стоит под боевым дежурством, разобрать клапан – на то особое разрешение нужно, это вывод из дежурства, это бригада вечно пьяных ремонтников, это долго. Это никому не надо. Вот и приезжали мы с уже готовыми шаблонами актов на все лодки, оставалось только добраться до морского начальника и подписать у него всю эту не скажу что.
Но особую, почти блевотную радость у меня вызывала простыня с наработкой. Всё потому, что ещё год назад ко мне на лодку так же приезжали наукообразные люди, или, как мы их ласково называли, очкарики. Приезжали и тоже просили дать им на каждый клапан, каждую гайку сведения, сколько часов она была в работе, сколько раз её откручивали-закручивали.
Хотя и хотелось, но их не пошлёшь – приказ дать им всё, что надо. А как я им дам наработку каждого клапана, если у меня их несколько тысяч, паспортов на них я в глаза не видел, только обрывки в какальной на корне пирса, и журналов с учётом нет и не было никаких. Как дам?
Вот сидят они в центральном посту, бедные, распластали на пульте свою простыню и спрашивают у меня:
– А сколько часов наработал С-17023 в системе погружения-всплытия на левом борту?
– А восемнадцать, – говорю им смело, тут главное – смело чтобы.
Как, говорят, восемнадцать? Да не может такого. Да чтобы если и так, то нет же ж! Возмущаются, в общем.
– Ну тысяч же, тысяч, – говорю им, и они успокаиваются, такое число им уже нравится, а я внимательно рассматриваю подволок с целью отцарапать оттуда следующее число, чтобы им понравилось.
А теперь же я сам в виде задрота-очкарика стоял и парил уставшего, зачумлённого строевыми и матросами офицера, а тот стоял и тужился придумать мне число, да такое, чтобы мне угодить им.
А потом все эти бумаги с вензелями и печатями отвозились в Питер, и наука, потея до смрада, делала на основании этих цифр заключения о продлении.
А как же. Всё ж по науке, дорогая редакция.
4.4
Была интересная командировка на Северный флот, самый боевой и дисциплинированный из всех наших самых боевых и дисциплинированных.
Заказал у нас флот привод для одного клапана, и мы, понятно, с Андрюхой повезли его на северную базу «Западная Лица». Нет, я неправильно сказал: не заказал флот, а очень, ну просто очень попросил, обрывая телефоны и забрасывая нас факсами. И мы тогда всё поняли – без этого привода северному флоту наступит что-то страшное, отчего он перестанет быть и боевым, и дисциплинированным. Упаковали мы эту железяку килограммов в двадцать в железный ящик и отправили самолётом в Мурманск, а сами полетели следом.
Питерский самолёт прибывает в Мурманск около десяти вечера. Мы прилетели, и нас уже ждал военный «КамАЗ», который на местном жаргоне назывался «кунг». За рулём матрос-контрактник, старший на машине – так у военных положено – мичман. Он встретил нас тепло, сказал, что они нас ждут уже три часа и были сомнения, что мы вообще прилетим, а теперь он нас дождался и очень этому рад.
Забрали из грузового терминала наш ящик, который, когда мы его забросили в кузов «КамАЗа», просто-таки там пропал, как в жерле вулкана. Залезли в крытый кузов сами и поехали, затряслись по местным ухабам. Ехали долго, часа два с половиной, я успел обкуриться. И вот наконец какая-то остановка, нам же не видно какая. Мы вылезли из кузова размять затёкшее и погладить отбитое.
Вот тут и начался флот.
Военный КПП, контрольно-пропускной пункт. У нас проверили документы на груз – в порядке. Груз, «КамАЗ», мичман и контрактник могут ехать дальше. А вот у нас с Андрюхой проблемы. Та пачка разрешительных бумажек, что у нас была с собой, оказалась ни к чему, поскольку старлей, дежурный, уже восемь раз перечитал одну специальную книгу и нас там в ней не было.
– Никак не могу вас пустить, – был нам ответ уже в который раз.
Андрей не возмущался – не умеет. И я не возмущался: знал – бесполезно.
Старлей, конечно же, стал звонить по нашей странной связи, когда в трубку надо непременно орать. Его там слушали, говорили: «Ага, принято, сейчас», клали трубку на место и тут же засыпали, я знал это.
Через час бесполезного ожидания наш мичман перестал быть весёлым. Через пару часов – а было уже около трёх ночи – водитель уснул прямо за баранкой. Мы с Андрюхой не спали, ждали. Да и где нам спать-то? Я гонял ночных тушканов или кто там у них водится. Мичман уже обильно матерился, старлей зевал и читал книгу.
Наконец через какое-то время главному их оперативному дежурному удалось дозвониться домой – в четыре утра – до того серьёзного местного начальника, которому, собственно, мы этот привод и везли. Тот ответил в трубку что-то убедительное, и нас пропустили.
От КПП до городка с гостиницей совсем не далеко, и через пять минут машина затормозила.
– Вот, приехали, – сказал опять повеселевший мичман. – Забирайте в гостиницу ваш привод.
– Как это в гостиницу? – мы удивились.
– А мне его куда, по-вашему? Да я вообще дежурным по камбузу сейчас стою. Меня вызвали и сказали, чтоб я съездил старшим на этой машине. И всё.
Пришлось тут вступить мне. Понимая, что мичман по сути прав и ему это железо нужно даже меньше, чем дождю земля, я быстро загрузил того званиями и фамилиями начальников и возможными наказаниями. Мичман сдался, хотя и сказал при этом, что оставит он наш привод у себя на камбузе, а завтра мы должны будем забрать его. Мы согласились и ушли спать в гостиницу.