Текст книги "Мне посчастливилось родиться на Песках"
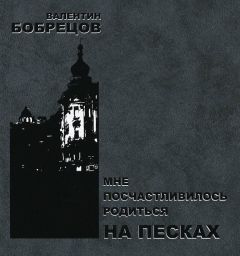
Автор книги: Валентин Бобрецов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Валентин Бобрецов
«Мне посчастливилось родиться на Песках»: О некоторых памятных историко-литературных местах Центрального района
Памяти
Ивана Степановича Шереметевского,
Нимфы Иосифовны Невижки,
Ивана Яковлевича Бакулина,
Екатерины Григорьевны Бакулиной,
Евдокии Ивановны Бакулиной,
Александра Федоровича Бобрецова,
Анастасии Ивановны Бобрецовой,
Киры Федоровны Куликовой,
Юрия Александровича Бобрецова,
Нины Викторовны Шереметевской,
Владимира Михайловича Матиевского,
Ирины Алексеевны Макаровой,
Виктора Леонидовича Топорова,
Светланы Яковлевны Сомовой,
Анатолия Сергеевича Шишкова

На авантитуле: Деревянная «Суворовская» церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского (Таврическая 2а). Перенесена в Петербург из имения А.В. Суворова в Новгородской губернии в 1900 году. После закрытия (1920) использовалась в зимнее время как раздевалка при катке. Уничтожена в 1925 г.
Предисловие
Первый вариант этих заметок, гораздо более короткий и несвободный от фактических неточностей, печатался в 1993 году в нескольких номерах газеты «Привет, Петербург».
И – вниманию господ литераторов! Убедительно прошу не забывать, что ряд фактов, приводимых далее, равно как выводы из них, оглашаются здесь впервые, тем самым как бы подразумевая при себе пренебрегаемый многими значок ©!
Для удобства сразу приведу перечень городских объектов, упоминаемых в книге и переименовывавшихся – главным образом после 1917 года. И чтобы то и дело не перебегать в тексте с Надеждинской улицы на улицу Маяковского и обратно, жертвую «красотой слога» и сознательно допускаю выражения типа «Маяковский жил на улице Маяковского», используя по преимуществу нынешние (на весну 2019 года) названия проспектов, улиц и т. д. Исключение составит только название самого города, ибо говорить что-нибудь вроде «Иосиф Бродский родился в Санкт-Петербурге» язык не поворачивается.

СОВРЕМЕННОЕ НАЗВАНИЕ – КАК НАЗЫВАЛОСЬ ПРЕЖДЕ
Бакунина_________________________ Калашниковский (до 1918)
Белинского________________________Симеоновская (до 1923)
Виленский________________________Красной Связи (1922–1998)
Восстания________________________Знаменская (до 1923)
Жуковского______________________Малая Итальянская (до 1902)
Захарьевская___________________Каляева (1923–1991)
Кирочная_______________________Салтыкова-Щедрина (1923–1998)
Литейный_______________________Володарского (1918–1944)
Мариинская больница_________Памяти Жертв Революции (1918–1935), им. В.В. Куйбышева (1935–1992)
Маяковского_____________________Надеждинская (до 1936)
Некрасова______________________Бассейная (до 1918)
Пестеля________________________Пантелеймоновская (до 1925)
Радищева________________________Преображенская (до 1923)
Рылеева ________________________________Спасская (до 1923)
1-1 °Cоветские________________1-10 Рождественские (до 1923)
Суворовский_______________Слоновая (до 1900), Советский (1923–1944)
Таврическая___________________________Слуцкого (1918–1944)
Фурштатская_____________________Петра Лаврова (1923–1991)
Чайковского__________________________Сергиевская (до 1923)
Чехова________________Эртелевская (Эртелев пер.) (до 1923)
Шпалерная____________________________Воинова (1918–1991)
В связи с выборочным характером либерально-демократических переименований 1990-х годов невольно возникает вопрос: почему в отношении Кирочной «историческая справедливость» как бы восстановлена, тогда как, положим, Панте-леймоновская по-прежнему носит имя Пестеля. Ведь следуя толерантной логике название Кирочная (та же «Церковная», но только по-немецки) травмирует психику горожан нехристианских конфессий ничуть не меньше, нежели Спасская или Сергиевская.
Мне посчастливилось родиться на Песках
Ты только детством был причастен
К чудесным пушкинским местам.
Владимир Матиевский
Автору этих заметок посчастливилось (прежде он бы ограничился нейтральным «довелось»), увидя белый свет в Снегиревке (Маяковского 7), значительную часть своих «детства-отрочества-юности» провести в той части Центрального района, что некогда звалась Пески.
А если быть совсем уже точным, своей территорией я числю превосходящий размерами исторические Пески участок Центрального района, границы которого – изгиб Невы, Литейный и Невский. Конечно, границы эти условны, так что во время своего мысленного путешествия по мере надобности и вполне безнаказанно мы будем их нарушать.

Маяковского 7. Родильный дом им. проф. В.Ф. Снегирева
Стоит сразу заметить, что старинная форма «на Песках» все чаще заменяется унифицированным «в Песках», чем грешен был в свое время и автор этих заметок. Хотя район вроде бы и не имеет тенденции, подобно былой Малороссии, отделяться от города, превращаясь в некий лимитроф.

Сегодня, 8 ноября 2018 года, почему-то вспомнился мне эпизод из времен юности, который, как теперь понимаю, уже тогда я подсознательно воспринял как своеобразную акколаду, инициацию, посвящение, акт получения гражданства Песков как «малой родины». То ли осенью 1967, то ли весной следующего года – поскольку хорошо помню на голове своей демисезонную «финскую шапочку», суконную бабушку нынешних бейсболок – поздним вечером я возвращался домой по Баскову переулку после помывки в бывших Целибеевских банях (Некрасова 14). Шел я по обыкновению быстро, но задумавшись о чем-то и по сторонам не глядя, а потому поначалу ничего не понял, внезапно обнаружив себя стоящим в парадняке, в кольце молодых людей примерно моего возраста и комплекции. Очевидно, кто-то из них заблаговременно отворил входную дверь, а другие, выскочив из соседствующей подворотни, без труда втолкнули меня, на приличной скорости проносящегося мимо, в подъезд. Диалог был коротким: – Давай деньги! – Таковые, однако, полностью были истрачены на полагающуюся после помывки кружку жигулевского. – Тогда перчатки давай! – Тем временем позади себя я услыхал какое-то приглушенное ворчание. Оказалось, это выказывал недовольство один из молодых людей, пьянее остальных, пытавшийся, очевидно, наказать меня за безденежье посредством ножа. А другой, потрезвей, препятствовал ему в этом справедливом в общем-то желании. Тем же временем, пока я снимал перчатки, предводитель молодых людей уж не знаю с какой такой стати, наверное, просто чтобы занять себя беседой, поинтересовался, где я живу. Далее последовало чудо, – на более низкую тарификацию произошедшего не соглашусь. Услышав, что живу я на улице Красной Связи, предводитель в сердцах воскликнул: – Так что ж ты, земеля, сразу-то не сказал! Мы ведь с Ковенского! – Далее кожаные почти не ношенные перчатки были возвращены, и я, даже не успевший испугаться ножа, после обмена рукопожатиями отправился домой. А то, что моя улица Красной Связи прежде звалась Виленским переулком, а от Вильно до Ковно и вовсе рукой подать – этого я тогда не знал…
Но это не все. Вспомнив про «чудесное избавление», я решил установить точный номер дома по Баскову переулку, в подъезде которого оно совершилось. Его я запомнил хорошо. Оказалось, что это дом 21, известный тем, что там некоторое время жила одна из первых русских активисток женского движения Анна Павловна Философова. Однако мемориальная доска в ее честь украшает дом 16 как раз по Ковенскому, последний ее адрес в Петербурге.

Басков 21
Однако странноватые чувства вызывала у меня «малая родина» в то время. Интерес к отечественной культуре проснулся уже, но как-то «овеществить» его и тем накрепко привязать к себе Пески были вроде бы и не в состоянии. Район этот, достаточно старый и немалый площадью, в «культурно-мемориальном» смысле прямо-таки удручал. Взрослые поколения дедушек-бабушек с удовольствием говорили, положим, об эпохе Петра Великого (Кикины палаты, Шпалерная 68) или даже Александра Благословенного (связывая здание музея Некрасова, Литейный 36/2, почему-то с этой эпохой), но о своей собственной юности, пришедшейся на период правления Николая II (иначе говоря, Серебряный век) на всякий случай помалкивали. И ладно дед с материнской стороны с нехорошей фамилией Шереметевский. О том, что он вскоре после 1917 года из-за неправильного социального происхождения оставил обучение в Петроградском университете и уехал в Вологодскую губернию, чтобы принять там должность вольнонаемного бухгалтера в леспромхозе, я узнал окольными путями уже в XXI веке. Кстати, его дед, а соответственно мой прапрадед, статский советник Иван Степанович Шереметевский умер в Мариинской больнице (Литейный 56) 29 марта 1871 года, и это первая документально зафиксированная моя родственная связь с этим районом Петербурга.

Из аттестата ст. советника И.С. Шереметевского
Но второй-то дед, вроде бы и классово близкий – выходец из государственных крестьян-поморов, – и коммунист, открыто боровшийся с начальником-троцкистом в «Красной газете»… То, что он, лейтенант Красной армии, был ранен на Ленинградском фронте и умер в окружном госпитале (Тульская 3) в марте 1942 года, я узнал немногим раньше.

Литейный 56. Мариинская больница для бедных
Более того, когда я в первом классе, не старше, рисуя воздушный бой, изобразил подбитый «мессер», бабушка, увидев свастику на крыле фашиста, погрозила мне пальцем: «Это нельзя рисовать!..». Мой довод, что в противном случае наш будет вынужден стрелять по нашему же, принят ко вниманию не был. Одно дело «пушкинский Петербург» (тем паче один из друзей моих жил как раз на Мойке 12), или менее блистательный, но не менее значительный «Петербург Достоевского» (словно в издевку другой приятель квартировал в районе Владимирской площади). И совсем иное дело – мои злосчастные Пески с уродливыми доходными домами без истории…

Из списка офицеров умерших весной 1942 в госпитале на Тульской
Пухлый (большой тираж, но плохая бумага) лениздатовский бедекер «Литературные памятные места Ленинграда» (1968) в юности поверг меня в уныние.

Если верить ему, русские писатели словно предчувствуя, что именно по этим местам (кстати, мимо моей школы, Шпалерная 50) проляжет в ночь с 24 на 25 октября 1917 года путь автора соцреалистического катехизиса «Партийная организация и партийная литература», как будто из инстинкта самосохранения избегали селиться здесь. За чуть ли не двухвековую историю лишь Некрасов (Некрасова 2), Маяковский (Маяковского 52) да Горький (Восстания 20 и Маяковского 11), очевидно, не видя опасности лично для себя, отважились на это. Да еще довольно «безбашенный» при всей своей исключительной учености Вячеслав Иванов, чью «Башню» (Таврическая 35) если и показывали в ту пору, то показывали украдкой, как бы из-под полы, словно нечто к показу не дозволенное – почти так же, как демонстрировали и другую достопримечательность моего района – достопамятное «административное здание на Литейном». Про которое новичку непременно сообщалось (понижая голос, почти шепотом), что перед ним самое высокое здание Ленинграда. И на недоуменное «почему» пояснялось, что, мол, «уже из окон первого этажа Магадан видно».

Таврическая 35

Захарьевская с отделом пропусков Большого дома на горизонте
Что же касается сугубо архитектурных достопримечательностей моей «малой родины», то самым красивым зданием был, пожалуй, игривого вторичного барокко особняк Мясникова (Восстания 45), дореволюционная недвижимость модного адвоката Николая Платоновича Карабчевского, снискавшего богатство и славу в успешной защите состоятельных мерзавцев и революционерствующих террористов, и где по иронии судеб располагался районный Кожно-венерологический диспансер, в виде аббревиатуры (КВД) каламбурно созвучный сравнительно недавно переименованному Народному комиссариату внутренних дел…

Восстания 45
Но все это стало известно мне гораздо позже, а тогда, осенью 1970 года, я переезжал из одиннадцатиметровой (на двоих с матушкой) комнаты в коммуналке в отдельную квартиру на откровенно спальной и ни на что не претендующей Гражданке без особой ностальгии к оставляемым Пескам.

Ирина Одоевцева
Все изменилось в один прекрасный день двумя десятилетиями позже. Где-то около 1990 года мне позвонила знакомая-литературовед, читавшая как раз в это время книгу воспоминаний Ирины Одоевцевой «На берегах Невы».

На берегах Невы. 1-е издание. Нью-Йорк. 1967
Она поинтересовалась моим первым адресом на Песках. Услышав «Радищева, дом 5, квартира 1», она спросила: «А ты знаешь, что в квартире 2 жил Николай Гумилев?» Разумеется, я этого не знал. Но не знала этого и моя матушка, всегда, сколько ее помню, утверждавшая, что Гумилев – ее любимый поэт.
Добавим к этому еще и то обстоятельство, что звонившая барышня жила на улице Некрасова в доме 58–60, где в свое время проживала и сама гумилевская ученица Одоевцева.

Радищева 5–7
Забегая еще на пятнадцать лет вперед, скажу, что уже нисколько не удивился, когда в 2005 году мне предложили в издательстве «Азбука-классика» написать предисловие к тому стихов Гумилева, а некоторое время спустя и к его Малому собранию сочинений.

Некрасова 58–60
Этот телефонный звонок как будто послужил сигналом, по которому ворота информационного шлюза открылись.

Затем довольно долго, но бессистемно и как бы попутно, не превращая это в «дело жизни», я фиксировал адреса людей, внесших определенный вклад в развитие русской культуры и живших в «моей» части Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Адреса эти зачастую и до сих пор не помечены какими-либо мемориальными знаками. Надеюсь – пока не помечены (эта фраза, к сожалению, перекочевала сюда из варианта статьи, напечатанного в 1993 году; для большинства «моих» персонажей почти ничего с тех пор не изменилось).

Что касается этих заметок, то опять-таки надеюсь (чуть-чуть!), что они не только утолят праздное читательское любопытство, но и помогут кому-то немного иначе взглянуть на этот район, не входящий в «обязательную программу достопримечательностей культурной столицы». Взглянуть если не с любовью (для которой требуется, наверное, еще что-то помимо «литературы», «архитектуры», «истории» и проч.), но хотя бы с меньшим безразличием. И тогда я почел бы задачу свою как автора выполненной.

Позволю себе привести вводящую в суть дела цитату из воспоминаний видного масона, крупного деятеля Февральской революции, в дальнейшем эмигранта князя В.А. Оболенского.
«Родился я в России, уже освободившейся от крепостного ига, в 1869 году, в Петербурге. Четырехэтажный оранжевый дом на Малой Итальянской, в котором я впервые увидел свет, был одним из самых больших домов этой улицы, застроенной тогда маленькими деревянными или каменными домами с мезонинами. Хорошо помню, как в раннем моем детстве я каждое утро, проснувшись, бежал к окну и смотрел, как по нашей улице шел пастух с огромной саженной трубой. На звуки его трубы отворялись ворота возле маленьких домиков и из них выходили разноцветные коровы. Ко времени революции Малая Итальянская, ставшая улицей Жуковского, была уже одной из центральных улиц Петербурга. Гладкий асфальт заменил булыжную, полную колдобин, мостовую, редкие и тусклые фонари с керосиновыми лампами уступили место великолепно сияющим электрическим фонарям, а дом, в котором я родился, не только не возвышался уже над другими, а казался совсем маленьким среди своих многоэтажных соседей». (Вероятнее всего это нынешний дом 39 по ул. Жуковского – В.Б.). И далее: «… захолустьем были и «Пески», так называлась вся часть Петербурга за Таврическим садом и Лиговкой. Пески мне казались в детстве какой-то загадочной, а потому интересной страной, которая начиналась как раз после столь знакомой мне Греческой церкви. На Пески меня гулять не пускали, считая, что я там могу заразиться разными болезнями, а няня находила прямо неприличным водить туда гулять господского сына. Живя совсем близко от этой части города, я туда первый раз забрел уже будучи гимназистом».
Стоит отметить, что в нынешнее время «официальные» границы Песков определяются чуть иначе, и «левая» граница, указанная Оболенским, смещается на запад и проходит по улице Радищева, далее делая поворот в Виленский переулок.

Жуковского 39
Эта часть города стала интенсивно застраиваться начиная со второй половины царствования «реакционного» Александра III и – без перерыва на Отечественную войну (да, именно так она называлась до 1917 года!) – на протяжении всего царствования Николая «Кровавого», монархов особо нелюбимых официальной коммунистической историографией. Ненависть эта проецировалась буквально на все, так или иначе сопряженное с их именами. К примеру, после школы непродолжительное время я учился в известном на всю страну ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина. И лишь года три назад узнал, что это вообще-то Императорский электротехнический институт имени Александра III.

И настолько прежнее название было вытравлено из памяти, что ни один из моих однокурсников, в отличие от меня благополучно отучившихся в ЛЭТИ до получения диплома, об этом и не слыхивал. А ведь именно по распоряжению императора Александра III институт и был создан. Тогда как вклад Ленина в историю института был куда скромней: несколько часов кряду он прятался от полиции в одной из аудиторий 1-го корпуса, о чем торжественно сообщала висящая в коридоре мраморная мемориальная доска.
Разумеется, забвение (пополам с презрением) в полной мере распространялось как на «александровский» «русский стиль» (особняк А.С. Суворина, Чехова 6), так и на столь типичный для Песков «николаевский» северный модерн. Вдобавок, согласно классовой теории, мещански-чиновному по преимуществу населению Песков ой как далеко было до пролетарского стандарта Выборгской стороны или Невской заставы. Следует учесть и то, что волею судеб Пески стали чуть ли не своеобразным Латинским кварталом русского Серебряного века. Здесь жили – как правило переезжая с одной съемной квартиры на другую (собственной жилплощадью владели редкие единицы) – многие, да чуть ли не все известные, забытые, полузабытые и сознательно вычеркнутые из нашей памяти писатели, журналисты, политики, революционеры и контрреволюционеры, светлые личности и мракобесы этого периода.
Если же прибавить к ним имена тех, чья жизнь так или иначе оказалась сопряжена с бесчисленными учреждениями, находившимися на этой территории – от депутатов всех четырех Государственных дум в Таврическом дворце (Шпалерная 47) до различных по степени добровольности визитеров «административного здания» на углу Шпалерной и Литейного, а также членов Союза писателей СССР, регулярно посещавших ресторан Дома писателя (Шпалерная 18), – то список этот будет практически бесконечен.
Для меня самым логичным будет начать путешествие по Пескам с уже упоминавшегося отчего дома (Радищева 5–7), где семейство прадеда по отцовской линии поселилось не ранее 1909 года, и где в 1919 году соседом их стал не нуждающийся сейчас в особом представлении поэт Николай Гумилев.

Дед Александр Федорович Бобрецов и бабушка Анастаcия Ивановна Бобрецова (Бакулина). Радищева 5–7. Середина 1920-х
Неподалеку, в доме 19 по той же улице Радищева, в 1923 году ненадолго поселился Сергей Нельдихен, гумилевский ученик, первый, да возможно и последний талантливый отечественный верлибрист, «интереснейший Уолт Уитмен в русском издании» по словам Николая Оцупа, «поэт-дурак» по мнению симпатизировавшего ему Гумилева, писавший как бы вполне серьезные стихи от лица любознательного идиота, и погибший в лагере в 1942 году.

Радищева 19
Позднее (1926) Сергей Нельдихен квартировал в этом же районе, на проспекте Володарского в доме под номером 15. Но напрасно мы будем искать в нынешнем Центральном районе не только проспект с таким названием, но и дом на нем под таким номером. С домом все просто: около 1980 года за ветхостью он был снесен. Что же до названия проспекта, одной из крупнейших транспортных артерий города, то самым непостижимым, фантастическим образом в начале января 1944 года, то есть еще до снятия блокады, ему было возвращено старое дореволюционное название Литейный. И не одному ему. Одновременно с проспектом Володарского с карты города исчезли не только проспект Нахимсона, улица Слуцкого, набережная Рошаля или площадь Урицкого, но и, страшно сказать, Советский проспект и проспект 25 Октября. Один мой знакомый достаточно левых взглядов заметил по этому поводу, что немцы, захвати они Ленинград, поступили бы совершенно так же. Любопытно, что расстрелянной по Ленинградскому делу в 1950 году городской верхушке инкриминировалось и это злосчастное «антисоветское» переименование. Однако отыгрывать назад, очередной раз переименовывать переименованное почему-то не стали.

Сергей Нельдихен. Он пошел дальше. Москва. 1930. Силуэт работы Зои Кругликовой
Кстати, почти напротив сквера, разбитого на месте дома 15, на углу Литейного и улицы Некрасова, стоит дом, опосредованно тоже связанный с именем Гумилева. Здесь (Некрасова 2) находилось фотоателье Александра Оцупа, носившего громкое звание Поставщик Двора Его Императорского Величества. Он был двоюродным братом еще одного ученика Гумилева, уже упоминавшегося поэта Николая Оцупа, после Второй мировой войны в Париже защитившего первую диссертацию по творчеству Гумилева.

Николай Авдеевич Оцуп
Любопытно, что во всех справочных изданиях поэт именуется «сыном известного фотографа А. Оцупа», тогда как отец его звался Авдеем (тоже на «А»), но был отнюдь не придворным фотографом, а банальным земельным арендатором. Трудно сказать, приложил ли сам Николай Оцуп руку к подобной корректировке своей биографии. Во всяком случае, опровержение этого факта с его стороны отсутствовало.
Впрочем, с попыткой повышения своего социального статуса в соответствии с собственными представлениями о таковом мы сталкиваемся постоянно, особенно у людей публичных. Так приятель Есенина, поэт-имажинист Александр Кусиков представал в стихах своих отчаянно храбрым мусульманином-черке-сом, хотя в действительности был мирным армянином с фамилией Кусикян. Поэт-символист Владимир Пестовский сделал себя прямым потомком полулегендарного польского короля-крестьянина Пяста. Ну а уж Анна Андреевна Горенко, по мужу Гумилева, для литературного псевдонима выдумала себе татарскую бабушку Ахматову; малороссийская фамилия Горенко ее почему-то не устраивала.
Впрочем, живи она сейчас, с этой «переменой фамилии» все было бы, наверное, иначе. Выбракованная в свое время серьезной наукой гипотеза, а верней сказать, пропагандистское утверждение польского ксендза-эмигранта Франциска Духиньского, будто русские – это не славяне, а бастарды, ублюдки, смесь расово-неполноценных финнов и татар, обрела в странах-лимитрофах, особенно на Украине, небывалую популярность. Это неудивительно, ведь чтобы вернуть хлопов-малороссов в великопольскую орбиту, для них антрополог-любитель делал исключение, признавая их почти равными полякам[1]1
Впрочем, у польского антрополога в сутане были мощные предшественники. Так «безносый» (по слову Пушкина) итальянец Джамбаттиста Касти с ловкостью истинного дамского угодника писал исполненные обожания оды Екатерине II, а своей австрийской хозяйке Марии-Терезии одновременно (1790 год) рекомендовал поступать с «Тартарией» следующим образом: «Полезно было бы для всей Европы нарушить границы и как можно далее оттеснить эту сильную державу, хищную, коварную, лживую, лицемерную, беспокойную, наглую, опасную, ненасытную, чтобы вынудить ее снова свернуться вокруг Москвы, заставить отказаться от всякого влияния и притязаний на европейские территории и снова стать, как и в прошлые времена, азиатской державой». (Перевод С.Я. Сомовой). А десятью годами позже друг Гете, драматург, автор пьесы «Буря и натиск», директор Первого кадетского корпуса в СПб (Университетская наб. 15) Фридрих Клингер говаривал «Die Russen und die Menschen», выводя русских и вовсе за пределы рода человеческого.
[Закрыть]. Кстати, давно подозреваю, что «Анну Андреевну Ахматову» любительница Достоевского и большая придумщица, одесситка Аня Горенко составила как комбинацию из имени-отчества одной (Анны Андреевны Версиловой) и фамилии другой (Катерины Николаевны Ахмаковой) героинь романа «Подросток». К слову сказать, Ахматова четырежды жила в этом районе: в 1920-21 годах в доме 7 по улице Чайковского, в 1922 году на набережной Фонтанки 18, затем – в известном Фонтанном доме (Литейный 53), и почти десять лет (1952–1961) на Кавалергардской 4. И опять-таки целых четыре памятника Анне Ахматовой украшают наш город, причем три из них находятся как раз в этом районе. Но если расположение двух (во дворе Фонтанного дома и неподалёку от места впадения Потемкинской в Шпалерную, как бы напротив Крестов), никаких возражений не вызывает, то к адресу третьего ахматовского изваяния (Восстания 8) вопросы имеются.

Восстания 8
Дело в том, что к этому месту Ахматова не имеет ровно никакого отношения. Да, в конце 1918 года здесь начал работу Институт живого слова, в числе лекторов которого был Н.С. Гумилев. Но они с Ахматовой к тому времени не только были в разводе, но и старались лишний раз не попадаться на глаза друг другу. И в таком случае уместней было бы в сквере напротив нынешней «элитарной» Павловской гимназии № 209 увидеть памятник если не самому Николаю Гумилеву, то, положим, Ирине Одоевцевой, регулярно посещавшей в 1918–1919 годах его занятия в Институте живого слова.
Между прочим, на той же улице Чайковского (дом 16 квартира 7) в начале 1930-х жила Анна Дмитриевна Радлова, десятью годами ранее по мнению Михаила Кузмина составлявшая конкуренцию Анне Ахматовой на поэтическом Олимпе, в тридцатые же годы – соперничавшая с Пастернаком и Лозинским как переводчик Шекспира, а еще позже – заключенная, умершая в лагере под Воронежем в 1949 году.

Анна Дмитриевна Радло
В пяти минутах неспешной ходьбы от последнего гумилевского жилища высится громада уже упоминавшегося нами одного из первых кооперативных домов в Петрограде, так называемого Дома Бассейного товарищества (Некрасова 58–60), органично сочетающего формы северного модерна и ассирийские рельефы фронтонов.
Здесь помимо семейства Правды Гейнике, известной нам как Ирина Одоевцева, проживал Павел Николаевич Милюков, историк, лидер кадетской партии, активнейший деятель думского Прогрессивного блока, во многом благодаря стараниям которого произошла Февральская революция.

Николай Калабановский. Карикатура на Милюкова и издателя «Речи» И. Гессена. 1910-е гг.
Чтобы более не возвращаться к гумилевской теме, назову еще один адрес поблизости и еще одно не слишком известное имя. На 8-й Советской в доме 21 с 1925 по 1930 год жил поэт и журналист, «черносотенец» и «алкоголик» Александр Иванович Тиняков (главные псевдонимы Одинокий и Герасим Чудаков).

Декларация Прогрессивного блока. «Биржевые ведомости» от 26 августа 1915 г
С середины двадцатых годов он обычно сидел «на якоре» на углу Литейного и Невского (Володарского и 25 Октября по-тогдашнему), на противоположной стороне от будущего «Сайгона», с табличкой «Подайте бывшему поэту» на шее и просил милостыню, хотя большевистскую революцию он поначалу вроде бы принял и издал несколько вполне лояльных режиму книг.

Александр Иванович Тиняков

8-я Советская 21
О таком же промысле, кстати, подумывал и Андрей Белый в 1923 году, вернувшись из Берлина в Москву и не имея там ни своего угла, ни заработка: «Мелькнула страшная картина меня, стоящего на Арбате с протянутой рукою: – Подайте бывшему писателю». Близкий младосимволистам (стихи его ценили как Александр Блок, так и – неожиданно – Даниил Хармс), Тиняков как бы уже по определению находился в оппозиции акмеистам, а соответственно и мэтру их Гумилеву.


В 1921 году за месяц до расстрела, и еще даже до ареста последнего, Тиняков сочинил такое по-своему пророческое стихотворение:
Едут навстречу мне гробики полные,
В каждом – мертвец молодой.
Сердцу от этого весело, радостно,
Словно березке весной!
Вы околели, собаки несчастные,
Я же дышу и хожу.
Крышки над вами забиты тяжелые,
Я же на небо гляжу!
Может, в тех гробиках гении разные,
Может, поэт Гумилев…
Я же, презренный и всеми оплеванный,
Жив и здоров!
Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь
Падалью, полной червей,
Но, пока жив, – я ликую над трупами
Раньше умерших людей.
В 1930-м Тиняков был арестован за «нищенство и публичное чтение контрреволюционных стихов» и отправлен на Соловки. Полагаю, не стоит пренебрегать возможностью узнать, за чтение каких стихов в ленинградской пивной в 1930 году давали три года лагеря. Вот одно из них:
Размышления у Инженерного Замка
Уж головы лип полуголы,
Остатки кудрей пожелтели,
И ласточки, бабочки, пчелы
С карнизов дворца улетели.
Печальны осенние стоны,
Нахмурился, ежится замок.
И каркают хрипло вороны,
Быть может, потомки тех самых,
Которые мартовской ночью
Кричали в тревоге не зря,
Когда растерзали на клочья
Преступники тело Царя.
И мудрый, и грустный, и грозный
Закрылся безвременно взор —
И пал на Россию несносный
Мучительно жгучий позор.
Не так же ли грязные руки
Взмятежили тихий канал,
Когда на нем, корчась от муки,
Израненный Царь умирал.
Не та же ль преступная воля
В Ипатьевском доме вела
Зверье – подпоив алкоголем,
Терзать малолетних тела?
Желябов, и Зубов, и Ленин —
Все тот же упырь-осьминог…
По-своему каждый растленен,
По-своему каждый убог.
Но сущность у каждого та же
У князя и большевика:
У каждого тянется к краже,
К убийству да буйству рука.
А к делу? К работе? Смотри-ка,
Взирай к изумлению мир,
Как строят Калинин и Рыков
Из русского царства сортир.
И правильно, мудро, за дело
Утонет Русь в кале своем,
Когда не смогли, не сумели
Прожить с светодавцем-Царем.
1926–1927
Прочитав такое, остается только развести руками и подивиться мягкости приговора. Непродолжительное время после освобождения Тиняков снова жил в этом районе (Жуковского 3–7). Тесть Николая Гумилева, писатель и журналист Николай Энгельгардт вспоминал: «Я пишу эти строки в июле 1934 года <…> Каждый день, под вечер, идя из улицы Чехова по Надеждинской в булочную на Невском <…> я встречаю медленно двигающуюся посреди тротуара, опираясь на палочки выставленными вперед двумя руками, высокую фигуру в широкополой серой, мятой, старой фетровой шляпе и в светло-коричневой плисовой поношенной бекеше, с длинными седыми волосами и бородой, с воспаленным лицом – и все же сохраняющую оттенок старого интеллигента. Это – писатель Тиняков». Жить Александру Тинякову оставалось около месяца. Умер он в Мариинской больнице в августе того же 1934-го. Место захоронения неизвестно.
На примере Тинякова легко проследить, как создаются литературные биографии, особенно посмертные. Георгий Иванов в «Петербургских зимах» (изданных в Париже в 1928 году, и в которых 70 процентов фантазий по его собственному признанию) отправил Александра Ивановича Тинякова служить в Чека. Похоже, что таким способом Иванов как бы сквитался за отрицательную рецензию Тинякова на свой первый поэтический сборник. А герой его рассказа «Александр Иванович», по странной случайности тоже Александр Иванович, но только без фамилии, до революции служит шпиком в полиции и молитвенно почитает Григория Распутина. Несколько лет спустя Владислав Ходасевич («любимый поэт не любящих поэзию» по словам Дмитрия Святополка-Мирского и «злой и мстительный» по мнению Юрия Терапиано), тоже в Париже, как бы повышает в звании «кровавого чекиста» Тинякова, приписывая ему дополнительное злодейство: пристрастие к «десяти-одиннадцатилетним девочкам» (а глядящий в рот маститому Ходасевичу молодой писатель В. Сирин, еще не вполне ставший Владимиром Набоковым, добавляет материала для будущей своей «Лолиты»). Интересно, что Ходасевичу, в отличие от Иванова, не потребовалось для вдохновения на такое действие даже быть обруганным. Ему оказалось достаточным и того, что Тиняков в свое время в рецензии на его сборник «Путем зерна» недохвалил автора. Примечательно при этом, что, во-первых, оба они, и Ходасевич, и Г. Иванов, как поэты не просто «испытали влияние Тинякова», но более того – свои поздние и лучшие вещи писали совершенно в «тиняковском ключе». Ну а во-вторых, друг с другом они, мягко говоря, люто враждовали. Впрочем, такова обычная изнанка литературного процесса.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































