Читать книгу "Юношеский роман"
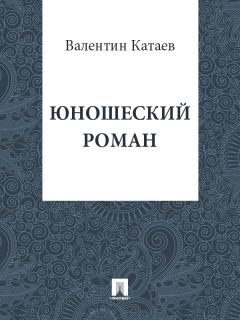
Автор книги: Валентин Катаев
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Они относились ко всем богатым с подозрением и даже откуда-то очень хорошо знали материальное положение каждого своего офицера, с особенным неодобрением относились к офицерам-помещикам, владевшим землей. Они совершенно точно знали, где у кого имение и сколько у кого десятин земли. Владение большим количеством земли они считали несправедливостью, хотя об этом помалкивали и втайне надеялись, что когда-нибудь, и, может быть, даже очень скоро, эта несправедливость кончится и всю помещичью землю крестьяне поделят между собой. Об этом говорилось редко, больше намеками, почему-то рассчитывая на близкий конец войны, что не мешало им честно служить и сражаться с внешним врагом, как предписывали им святая присяга и солдатская памятка.
«Оказалось, что войну до сих пор я воображал довольно правильно. Помните, милая Миньона, как Вы подняли меня на смех за то, что я представлял себе батарею как шесть пушек, поставленных в ряд. Оказалось, что это совершенно так и есть. Потом Вы смеялись, когда я мечтал побежать с батареи смотреть пехотную атаку. В действительности у нас это тоже вполне возможно. Например, когда в пехотной цепи, до которой от нас всего одна верста, случается что-нибудь «интересное», вроде атаки или разведки боем, то батарейцы бегут на открытое возвышенное место, ложатся и смотрят.
Наши два орудия спрятаны в обратном склоне бугра. Впереди, позади, сбоку – со всех сторон резервные окопы, приготовленные для пехоты на случай отступления, проволочные заграждения, волчьи ямы, запасные землянки в три-четыре наката.
Снег на солнце блестит, как алюминий. Я выбираюсь из землянки. После подземной тьмы солнце ослепляет. Минуты две не могу привыкнуть к яркому свету. Жмурюсь. Иду по истоптанному снегу среди маленьких кустов можжевельника с мутно-синими ягодками вверх по склону бугра.
Отсюда отлично видны простым глазом наши и немецкие окопы. Любуюсь видом. И вдруг с десяток немецких ружейных пуль проносится над головой. Вероятно, мою фигурку на гребне бугра заметили немецкие наблюдатели и дали залп. Сначала я окаменел от неожиданности, а потом кубарем скатился вниз и попал в объятия своего взводного, который, не стесняясь в выражениях, изругал меня за неосторожность.
Могли ранить. Или даже… Но не будем об этом думать. Вот мое первое боевое крещение…
Ясный день. Чуть тает. С блиндажей каплет. Далеко на западном горизонте в ясном небе над разбитым снарядами костелом виднеется немецкий привозной аэростат с наблюдателем в корзине, так называемая колбаса.
Слышен стрекочущий треск мотора – где-то летает аэроплан, – и слышны разрывы шрапнели: стреляют по аэроплану.
На наблюдательном пункте, где-то вне поля нашего зрения, находится новый командир батареи поручик Тесленко. Он готовится начать стрельбу. Он передает свои команды по телефону, а наш телефонист, высовываясь по пояс из своего окопчика, кричит:
– Второй взвод, готовься к стрельбе! Третье и четвертое орудия – к бою!
Четвертое орудие – мое орудие. И, естественно, я волнуюсь. Затыкаю уши ватой, хотя имеются специальные на этот счет наушники, которыми, кстати сказать, никто не пользуется. Привыкли к орудийным выстрелам. А мне советуют на первых порах затыкать уши ватой, чтобы не лопнула барабанная перепонка.
Заткнув уши ватой, вылезаю вместе с другими номерами из подземной норы на свет божий.
Прапорщик Красносельский – изящный мальчик с петербургским лоском, в замшевых перчатках – уже тут на линейке. Очень может быть, это тоже его первая боевая стрельба и он волнуется не менее меня.
Мне страшно, что немецкий наблюдатель может обнаружить наш взвод со своей колбасы и немецкая тяжелая артиллерия сметет нас с лица земли своими «чемоданами».
Обязанностей никаких при орудии я не несу, так как свободно управляются четыре номера из восьми, положенных по уставу.
– Четвертое, огонь!
Это первый орудийный выстрел, который я слышу вблизи. Он со страшной силой ударяет по нервам, как бы врывается в мой предусмотрительно разинутый рот и оставляет в нем какой-то железный вкус и запах пороха. Кружится голова.
Следующие выстрелы уже не производят впечатления. Я даже рта не раскрываю.
Отстрелявшись, мы замолкаем. Потом начинает отвечать немец. Это уже хуже. Сначала настороженное ухо улавливает звук далекого, очень далекого артиллерийского залпа, как бы еще не имеющего к нам никакого отношения. Но звук этот, оказывается, имеет продолжение: легкий шумок, который постепенно усиливается, становится плотным, сбитым, компактным, вырастает, приближается, переходит в зловещий свист, нависающий откуда-то сверху, с неба, фатальный, необратимый, безжалостный, от которого некуда деться.
Орудийная прислуга, толкая друг друга, кидается к блиндажу… Секунда… Прапорщик Красносельский стоит на открытом месте, мнет руку в замшевых перчатках, и я вижу его сверхъестественно спокойное, но мраморно-белое лицо с кружочками выступившего румянца.
Шум полета неприятельского снаряда, дойдя до своей высшей, невыносимой точки, вдруг на миг смолкает и сейчас же после этой ужасающей, мертвой паузы: б-б-ба-бах!
Четыре разрыва. Четыре фонтана снега, огня, дыма, земли вздымаются на гребне нашего холма.
Недолет!
– В ответ мы делаем несколько выстрелов. И наши снаряды невидимкой, но с убывающим шумом и посвистом улетают куда-то за горизонт. Через короткий промежуток времени поручик Тесленко передает с наблюдательного пункта новые прицельные установки. Орудийные фейерверкеры бегают с записными книжками между окопом телефониста и орудиями, наскоро записывая новые данные и выкрикивая цифры, понятные только наводчикам.
Пауза… И опять – немцы: далекий, еле слышный орудийный залп, переходящий в нарастающий шум, потом свист, непреложный, как геометрическая дуга, или, вернее, траектория полета, плавно поднимающаяся вверх и потом круто, почти вертикально падающая на землю. Снова мы, спотыкаясь, бежим к спасительному блиндажу.
Ух!.. Пронесло! Перелет. Разрывы снарядов где-то за нами. У Красносельского опять появляются румяные пятнышки на окаменевшем мраморном лице. Он подчеркнуто спокоен и, немного наигранно улыбаясь, цедит сквозь зубы:
– Недолет. Перелет. А теперь, братцы, держись! Попадание.
Томительные минуты. Где-то бухают наши первая, вторая и третья батареи. (Наш взвод стоит, как я уже Вам докладывал, отдельно, впереди.) Немец бьет по первой, второй и третьей батареям, то есть по всему первому дивизиону бригады тяжелыми снарядами, которые, пролетая высоко над нами, производят звук, похожий на визжание заржавленного флюгера под ровным ветром. Мы все механически поворачиваем головы, как бы следя за этим мерзким звуком, как бы провожая глазами невидимый снаряд и даже представляя себе, как за ним с журчанием течет рассеченный воздух.
Но по нас немец уже почему-то не бьет. Молчит. Видно, и недолет и перелет были случайны: шальные снаряды. А наши батарейцы при звуке их полета произносили хором как заклинание:
– Несет! Несет! Несет!
Стало быть, немецкие наблюдатели нас не обнаружили. Если бы они знали, что их залпы взяли нас в вилку, то третьим залпом они б нас стерли с лица земли и Вы не получили бы этого письма.
Через некоторое томительно долгое время из телефонного окопчика слышится голос:
– Отбой!
Какое прекрасное слово! От сердца отлегло. Все-таки я впервые испытал чувство настоящей, смертельной опасности, как говорится, понюхал пороху, хотя лишь слегка. Но я горд и чувствую себя настоящим обстрелянным солдатом.
По-моему, ошибка всех наших современных журнальных беллетристов, пишущих про войну (а про войну пишет всякий, кому не лень), это то, что они впадают в крайности. Одни злоупотребляют изображением героических подвигов, кровавых эпизодов, обыкновенно очень приблизительным и слащавым. Другие берут только военный быт, чаще всего воспроизведенный и понятый неверно. А я Вам скажу, война – это пропорция: шесть частей боевых эпизодов, четыре части фронтового быта, что ли. Во всяком случае, быт играет роль непременного и совершенно необходимого фона для боевого эпизода.
…передки наших трехдюймовок стоят позади, верстах в трех, за лесом. Иду. Выхожу на большую дорогу. Шарабан. Из-за плеча кучера-солдата видна приплюснутая генеральская фуражка. Узнаю Вашего папу. Он ведь тоже отчасти «миньон» (простите за вольность!). Щелкая сапогами, я вытягиваюсь во фронт. Но шарабан с Вашим папой проезжает мимо. Я не замечен, увы. Вероятно, генерал едет вместе с адъютантом осматривать позиции…
…Просыпаюсь ночью в землянке. Холодно. Душно. Темно. Грустно. Одеваюсь, то есть натягиваю шаровары, гимнастерку, сапоги, куртку. Выбираюсь наверх из землянки. Лунная ночь, очаровательная, глубокая, безмолвная. Трескучий мороз. Градусов двадцать. Волшебное царство необъятных русских снегов. Стою очарованный сказочным освещением и тишиной, но вдруг…
…но вдруг… что такое? Возле орудия дневальный в постовом тулупе и валенках, а рядом с ним два офицера, видимо штабные, и между ними женщина в белом дубленом полушубочке и папахе, лихо надетой набекрень. Дневальный что-то почтительно объясняет про нашу трехдюймовку: как наводится, как поворачивается, как заряжается.
Женщина с подкрашенными бровями и ресницами на голубом от лунного света лице манерно кокетничает:
– Ах, только ради бога, при мне не стреляйте!
Офицеры галантно с двух сторон подхватывают красавицу под локти. Она серебристо смеется. Слышен изысканный штабной баритон:
– А вот тут мои люди роют резервные окопы…
Шаги скрипят и стихают. Силуэты троих меркнут, как бы поглощенные светом очень маленькой и очень яркой январской луны, стоящей над головой в самом зените, в соседстве с несколькими наиболее крупными звездами и полярными льдинами полночных облаков.
…и снова неподвижная фигура дневального в громадном постовом тулупе…
Мертвая тишина. Безлюдье. Одиночество.
Откуда явилось это милое видение в белом тулупчике? Я думаю, что это какая-нибудь шальная девица, приехавшая на несколько дней к кому-нибудь из штабных или саперных офицеров, для того чтобы «испытать сильные ощущения». А может быть, сестра милосердия из корпусного госпиталя, отчаянная голова. Тип весьма банальный.
…но молодая женщина лунной ночью, среди мерцающих голубых снегов, ее серебристый смех…
Как чудно и как странно!..
Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине…
Следующий день отвратителен.
Привет Вашей милой маме, всем сестрам, как родным, так и двоюродным. Пишите. Обрадуете. А. П.».
Итак: «Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине».
Вероятно, так оно и было на самом деле. Первый раз в жизни я потянулся к женщине. Не к девушке, не к подростку, не к девочке-сверстнице, а именно – к женщине.
Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен. Вечная влюбленность составляла сущность моего бытия – ого счастье и его горе. Я слишком самозабвенно отдавался любовным мечтам, что, может быть в конечном счете и явилось причиной моего исключения из гимназии с аттестатом за шесть классов, вследствие чего я и оказался в действующей армии вольноопределяющимся первого разряда.
Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла.
…Их было много, их избыток, их больше, чем душевных сил, прелестных и полузабытых, кого я думал, что любил…
Моя влюбленность обыкновенно проходила бурно, как инфекционное заболевание: по ночам жар и многократное переворачиванье нагретой подушки на прохладную сторону, которая скоро опять нагревалась под моей воспаленной щекой, так что ее опять надо было переворачивать. Это все были как бы абстрактные, литературные романчики с лунными черноморскими ночами или танцами на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.
Романчики проходили чрезвычайно быстро, не оставляя в душе никаких следов. Словно бы, их вовсе не было. На смену минувшей влюбленности незамедлительно приходила другая, новая, и так далее.
Справедливость требует сказать, что с одной барышней я все-таки, незадолго до войны, целовался – впервые в жизни. Однако это не была влюбленность, а скорее нечто вроде спорта.
Среди барышень нашего дома имелась одна очень хорошенькая блондиночка с нежным польским лицом, всегда носившая розовое платье. Розовое ей шло. Она была дочкой архитектора, построившего дома общества квартировладельцев в несколько декадентском стиле украинского модерна с высокими западноевропейскими черепичными крышами, салатно-зелеными рамами окон со скошенными верхними углами и коваными решетчатыми воротами, украшенными большими железными подсолнечниками.
Звали ее Зоей, и она была большая любительница целоваться с мальчиками, о чем знали все окрестные гимназисты, реалисты и кадеты. Когда кому-нибудь из них приходила охота целоваться, они свистом вызывали с третьего этажа Зойку, и они бежали к морю, залезали на прибрежную скалу, быть может помнившую еще Пушкина, и там целовались.
Она действительно очень хорошо целовалась, но без всякого любовного чувства, скорее с чувством юмора.
Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался, посвистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я, мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания, и затем, не сказавши друг другу ни слова, мы скоро возвратились домой, а по дороге встретили толстого гимназиста Колю Банова, бровастого болгарина, который подмигнул мне и деловито спросил:
– Целовались?
Но Зою никак нельзя было включить в мой донжуанский список. Она была вне программы.
Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишут тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи» – дли во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью «фиалка», что значило «я вас люблю».
«Действ. арм. 20-11-16 г. Дорогая Миньона!..»
Впервые я рискнул назвать ее не милой, что, в сущности, ничего не объяснило, а дорогой. Это уже был с моей стороны рискованный шаг вперед. Вопрос: поймет ли она его намек? ответит ли она на него тоже «дорогой»?
«Сейчас я весь под впечатлением небольшого передвижения, в котором принимала участие наша батарея и особенно наш отдельно стоящий второй взвод.
В десять часов вечера по телефону из штаба бригады передали приказание: «Передки на батарею». Сейчас же началась суета. Наскоро кончаем ужинать, выпиваем кипяток из чайника, так аппетитно пускавший пар, греясь на печке. Собираем вощи в мешки. Я накануне постирал свое белье, и теперь оно как раз готово, то есть совершенно высохло, развешанное на сухом морозном ветру, и стало твердым, лубяным. Вися на веревке возле входа в землянку, оно даже издавало барабанные звуки;
У орудия – прислуга, одетая по-походному. Во мраке светятся электрические фонарики орудийных фейерверкеров. Вьюжит. В лицо бьет пурга. В чернильно-туманной дали время от времени взлетают зелеными звездочками немецкие осветительные ракеты. Выкатываем орудия. Меня награждают чайником и какой-то жестянкой, связанными вместе. В свободной руке узелок с артельным чаем. Одним словом, я напоминаю не то посудный, не то скобяной, не то чайный магазин.
Слышится грохот подъезжающих передков, конское ржанье. Из тьмы выступают тяжелые силуэты парных упряжек, фигуры ездовых в тулупах.
Легкая неразбериха.
Наконец орудийные лафеты надеты на передки. Двигаемся. Ветер бьет в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Грудь покрывается слоем липкого снега.
Наша колонна движется по знакомым местам: узнаю, вернее, угадываю в снежной темноте сожженное и разбитое снарядами село, голые печные трубы, березы с ветвями, обитыми осколками снарядов. Бугор, у подножия которого землянка штаба первого дивизиона. У дороги распятие, проходя мимо которого я снимал папаху и крестился, по-детски свято веруя в бога, в его святую волю…
Подъемы. Спуски. Мелколесье. Елочки. Сосны. Иногда под ногами скользкий лед. Шагаю возле зарядного ящика номер четыре. Мне трудно идти. Я устал. Кажется, что иду уже по снегу не час, не два, а десять лет. Медный орудийный чайник комично бренчит болтающейся на веревочке крышкой. Или, кажется, наоборот: крышка на веревочке бренчит о чайник. По этому поводу кто-то из солдат на мой счет острит, кто-то смеется.
Ветер. Вьюга. Усталость. Все батарейцы устали не меньше меня. Некоторые остаются. А я из всех сил держусь. Не отстаю.
После двухчасового безостановочного движения изнеможенные, переходя с проселка на проселок, громыхая по железнодорожным переездам, добираемся наконец до новой позиции.
Новая позиция очень близко от немцев, не больше чем за три четверти версты. Никогда не предполагал, что артиллерию так близко выдвигают вперед!
Вокруг березовый лес.
Нет, Вы только подумайте, Миньона, настоящий не нарисованный Левитаном русский березовый лес, которого мы, новороссийские степняки, никогда и в глаза не видели.
Но какая красота! Заплакать можно!
Спим, как убитые наповал. Утро. Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов (краснотал, что ли?), и можжевельник совсем как в стихах:
«И ягоды туманно-сини на можжевельнике сухом».
Какая вокруг хмурая красота!
Иду с ведром в руке по воду к колодцу, сруб которого стоит на открытом месте. Нет ничего опаснее на фронте, чем открытое место. Немцы заметили и пустили пять-шесть снарядов. Само собой промах, потому что в противном случае, Вы сами понимаете! Не было бы этого письма.
Осколки не зацепили меня, хотя один снаряд разорвался в 10–15 саженях. Я лежал, уткнувшись носом в сугроб, прикрыв голову ведром, как будто бы это могло спасти. Видно, бог меня хранит.
Получаете ли Вы мои письма?…»
У дороги недалеко от колодца виднелось распятие. Если на фронте было тихо, то мне позволялось побродить по окрестностям, не слишком отдаляясь от орудийного взвода. Я любил ходить к этому распятию.
Старый, серый от времени деревянный крест с неестественно маленькой фигуркой пригвожденного богочеловека, свесившего почти что детскую головку в терновом венце.
Кажется, по польско-католическому обычаю на одном конце перекладины креста висел молоток, на другом – клещи: орудия распятия.
Вдалеке в тумане слабо виднеется как бы рыбья косточка костела, постепенно разрушающегося от наших и немецких снарядов.
Распятый Христос и разрушающийся храм.
Было странное несоответствие между распятым Христом, разрушением храма, тем кровопролитием, которое совершалось здесь, под Сморгонью, и во всем мире, и красотой природы.
Маленький обнаженный человек с прикрытыми чреслами и повисшей головою в терниях почитался спасителем. Неужели он отдал свою жизнь за спасение человечества? И напрасно. Ничего он не спас. Люди продолжают истреблять друг друга. Как может это происходить?
Впервые в жизни я подумал вполне серьезно о войне, участником которой стал по доброй воле.
Еще совсем недавно война предстала мне в облаке горячей пыли, которую гнал в глаза июльский ветер с соломой, клочьями сухого сена, мелким сором, в то время как я пересекал привокзальную площадь, так называемое Куликово поле. В клубах пыли развевались гривы деревенских лошадей, пригнанных сюда по мобилизации из окрестных сел и немецких колоний. Деревянные бирки на конских хвостах и горы прессованного сена воспринимались как знаки начавшейся катастрофы.
Что я знал о войне? Ничего. Я пол с чужого голоса:
«Война объявлена», «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, очерченную чернью, багровой крови пролилась струя».
Как таинственно и еще совсем непонятно звучали пророческие слова:
«Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».
Я знал, кто такой Бонапарт, но по своему невежеству понятия не имел о Меттернихе, тем более что у него в руке было почему-то гусиное перо, направленное на Бонапарта. Гусиное перо виделось как дуэльный пистолет. Менялась карта Европы. Но, может быть, не только Европы, но и всего мира.
Темные предчувствия томили меня. Я ощущал, хотя и не сознавал этого еще, вину перед человечеством. Не какую-нибудь отвлеченную, чью-то чужую вину, нет! Вину свою собственную, личную. Промелькнула ужасающая догадка, что это я сам захотел войны и желание мое исполнилось.
Еще ничего ужасного не произошло. Еще мир дремал под лучами полуденного солнца. Еще:
«Под портик уходит мать сок граната выжимать. Зоя, нам никто не внемлет. Зоя, дай тебя обнять…»
Еще можно было смеяться над афоризмами Козьмы Пруткова…
А я уже шел – порочный мальчишка, гимназист-второгодник – шаркающей походкой лентяя и мечтателя по бесконечно длинной, как загробная жизнь, раскаленной улице, где отцветающие акации давали, как сказал Пушкин, «насильственную тень», в которой никто не нуждался, так как улица была безлюдна. Можно было подумать, что все население покинуло город и устремилось к морю, ища спасения в зеленой воде Ланжерона, Малого Фонтана, Золотого берега, Шестнадцатой станции, Люстдорфа. Я шел, палимый солнцем, мимо витрин, где выгорали никому не нужные произведения галантереи, с каждым мигом желтея и отставая от моды, устаревая, как книги прошлого сезона и вчерашние газеты.
Боже мой, какая скука! Какая бесцельная жизнь! Неужели этот Дантов ад будет продолжаться вечно? Неужели я так и буду вечно идти, шаркая скороходовскими сандалиями, по бесконечной улице, ведущей в никуда?
Я был в тихом, неподвижном омуте отчаяния, потому что понимал свою никому ненужность, от неразделенной любви, от постыдных переэкзаменовок, от пропотевших подмышек коломянковой гимназической куртки с вставными серебряными пуговицами, в которых мутно отражалось тошнотворное солнце.
Неужели ничего не произойдет? А ведь были же какая-то грозная и величественная история, события, в которых участвовали разные люди, такие же русские, как и я сам. Стреляли пушки. Горели города. Князь Андрей нес знамя. Петя мчался на лошади. Наташа кружилась на паркете, раздувая платье. Наполеон растирался одеколоном. Николай проигрывал сорок тысяч. Горела Москва. Звонили колокола. Император бросал с балкона бисквиты. Маршал Даву сидел в сарае за столом, сделанным из двери, положенной на два ящика…
Да мало ли!
Так неужели же жизнь моя так и пройдет без героических событий, без любви, без подвигов, без славы?
А ведь было же что-то в детстве. Я смутно помнил слова «Цусима» и «Порт-Артур». Были баррикады, опрокинутые конки, маленькие красные флаги, дружинники в драповых пальто, залпы «Потемкина». Куда же все это девалось? «Господи, – шептал я, – ты высшая сила. Ты всемогущ. Если ты действительно всемогущ, так пошли мис… дай мне…» Я не мог выразить словами свою просьбу, но я почему-то был уверен, что являюсь единственным человеком в мире, любая просьба которого исполнится высшей силой.
«…пожалуйста, уведомьте, получаете ли Вы мои письма».
«Действ, арм. 26-11-16 г. Милая Миньона! – …»
По-видимому, она не поддержала мое обращение «дорогая», и мне пришлось благоразумно отступить на позицию «милая».
Итак:
«Милая Миньона! За день до назначенного срока мы уже знали, что уходим в резерв. Нас известил об этом всезнающий солдатский телеграф.
Откровенно говоря, жаль было покидать хорошие, обжитые землянки, хотя позиция и была несравненно опаснее прежней. Раза три в день немец непременно обстреливал местность, стараясь нащупать нас. То слышались разрывы снарядов где-то впереди, со стороны наших пехотных окопов, то шальная немецкая шрапнель рассыпалась с железным грохотом по лесу справа от нас, то гранаты поднимали облака снега на шоссе, совсем рядом с нашей позицией. Даже, как я уже, кажется, Вам писал, немецкие снаряды падали прямо на нас, но всегда по счастливой случайности безрезультатно, иногда даже вовсе не разрывались, может быть, потому, что я изо всех сил молил бога о пощаде, а может быть, потому, что я вообще «везучий».
…а дни стояли славные – яркие, солнечные, снежные которым так подходило бы название «Зимняя весна».
Синеглазые дни.
Представьте себе железнодорожное полотно где-то на полдороге между Минском и Вильно, справа и слева березовые и сосновые рощи, а за ними на десятки верст до самого горизонта расстилаются синеватые дали, рощицы, деревеньки, потонувшие в сугробах. Слева – проволочные заграждения, ломаная линия ходов сообщения и зеркала замерзших болот, ярко отражающих до вульгарности синее небо. Впереди на горе фольварк.
Сбоку от меня по железнодорожной насыпи движется лиловая тень идущего человека. Этот человек – я. Тени тонких ног в сапогах с ремешками, в галифе, кожаной куртки, папахи набекрень. Это я иду из нашего отдельного взвода на батарею – одна с четвертью версты.
Снег будто посыпан борной кислотой и вспыхивает на солнце синими, голубыми, желтыми, красными искрами. Славно, Миньоночка! Вот бы Вам поглядеть на эту красоту. Но… далеко где-то постукивает пулемет, как будто рубят котлеты…»
Довольно подробно и в меру своих сил писал я письма из действующей армии, обещая Миньоне быть совершенно правдивым. Однако я кое-что утаивал. Так, например, я не описал небольшой эпизод, свидетелем которого случайно оказался еще в первые дни на передовой, как раз днем после той лунной ночи, когда увидел мимолетное видение женщины, воскликнувшей с кокетливым серебристым смехом: «Только, ради бога, при мне не стреляйте!» Потом настал день, и я снова вылез из землянки подышать морозным воздухом. Тут я вдруг увидел толстого генерала с худым красным лицом, в бекеше, с биноклем на груди. С одышкой он взобрался на гребень нашего бугра, по всей вероятности, с целью лично осмотреть, пехотные позиции и расположение неприятеля. Я узнал в нем начальника дивизии, который принимал крещенский парад. Черт дернул его взбираться на бугор, остановиться и присесть на сугроб, чтобы передохнуть. Наверное, он страдал одышкой. Сидя на твердом сугробе, он посматривал вниз, увидел наш взвод – два орудия, – и вдруг его худое лицо побагровело. Он закричал своим властным генеральским голосом: «Взводного фейерверкера ко мне!» – и сердито заворочался на сугробе, как на большой подушке, продолжая неторопливо дышать, выпуская изо рта клубы пара.
Наш взводный фейерверкер Чигринский уже бежал снизу вверх к генералу, на бегу одергиваясь. Он остановился строго по уставу за четыре шага с рукой под козырек и отрапортовал:
– Ваше превосходительство, старший фейерверкер второго взвода первой батареи Шестьдесят четвертой артиллерийской бригады по вашему приказанию явился.
– Жопа! – закричал генерал страшным голосом. – Почему у тебя, так твою мать, орудийные затворы без чехлов?
И не успел Чигринский доложить, что только что была стрельба и чехлы еще не успели надеть, как генерал с усилием оторвал свое грузное тело от сугроба, вплотную подошел к вытянувшемуся Чигринскому и три раза ударил его кулаком в перчатке – два раза по скулам и один раз ткнул в золотистые щеголеватые усы над белыми оскаленными зубами.
Чигринский, справный фейерверкер, любимец солдат, красивый молодец-фронтовик, стоял перед генералом как деревянный, и только три раза его голова откинулась, принимая генеральские удары.
– Жопа! – еще раз с одышкой повторил генерал и уже забыв, зачем он сюда пришел, кряхтя спустился с пригорка, раздраженной походкой удалился, и лишь после того как он скрылся из глаз, Чигринский вытер ладонью кровь с подбородка и, сделав вид, что не видит меня, вернулся к орудиям и приказал наводчикам надеть чехлы, после чего довольно громко, отчетливо, с ненавистью в глазах и с оттяжкой произнес матерное ругательство.
До сих пор мне как-то не верилось, что солдат бьют, и теперь это меня поразило до глубины души. Мне было страшно и стыдно встретиться глазами с Чигринским, и я молча спустился по земляной лестнице глубоко под землю в свой орудийный блиндаж, лег на душистые еловые ветки, долго лежал в полутьме с открытыми глазами, не зная, что же теперь делать. Но делать было нечего. И я заставил себя забыть этот мордобой, что оказалось хотя и очень трудно, но возможно. Я его забыл. Вернее, сделал сам перед собою и перед всеми другими вид, что забыл.
Уехать из бригады домой я уже не мог, так как принял присягу, но внутренний голос сказал мне: в этом ты тоже виноват. Я постарался заглушить этот внутренний голос, но слова «тоже виноват» дохнули на меня, дохнули в мою душу морозом и возбудили нелепое предчувствие неизбежного ужасного конца этой войны.
«…укладываемся уже с полудня. Обед привезли в обычное время. Артельщик очень опасается обстрела: двуколка походной кухни с хорошо начищенным медным котлом, блестящим на солнце, вероятно, хорошо просматривается немецкими наблюдателями. Это создает нервное настроение. Обед раздается торопливо.
После обеда поднимается холодный ветер, и небо затягивается сыроватыми облаками. Опять становится хмуро. Среди туч слышится стрекотанье нашего аэроплана-наблюдателя.
– Ишь, так и ныряет в хмарах, – говорит волжанин Власов, задрав голову.
«Хмары» вместо «тучи». Правда, красиво?
В сумерках ужинаем, как всегда, остатками обеда и увязываем свои походные ранцы на передки, где уже давно покоится мой чемодан, заметно полегчавший и похудевший.
До наступления настоящей, надежной темноты остается часа полтора. За четверть версты вправо от нас по шоссе движутся незнакомые пехотные части, сменяющие на позициях нашу пехоту. Их не видать в темноте, только слышится скрип обозных колес, мерный бой тысячи солдатских ног, идущих походным маршем, бренчанье кухонь и пулеметов, изредка морозное ржанье лошадей.
Собираясь в дорогу, наши батарейцы идут за какими-то досками в сторону шоссе. Образуется большое скопление. Немец его замечает. Начинается артиллерийский обстрел. Со всех сторон ложатся снаряды. Небо как бы сплошь исполосовано их тошнотворным свистом. Впереди на фоне ночных облаков багрово-желтыми огнями вспыхивает и рвется шрапнель, кропя лес железным дождем. Осколки бризантных снарядов срезают с берез кружевные сучья, и они падают к моим ногам. Сначала до жути страшно. Сердце холодеет. Господи, пронеси! Но скоро наступает странное безразличие (двум смертям не бывать, а одной не миновать и т. д.).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































