Читать книгу "В непогоду"
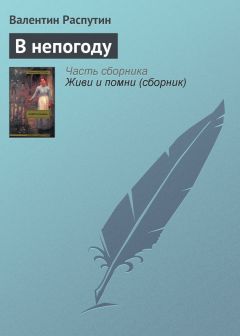
Автор книги: Валентин Распутин
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Валентин Распутин
В непогоду
Я приехал в санаторий в конце марта. Снег уже почти вытаял, оставаясь грязными и сморщенными лафтаками только в низких и затененных местах, да кругами лежал он под могучими кедрами, сквозь которые мартовскому солнцу еще не пробиться. Поселили меня в «заячий домик», названный так, должно быть, по памяти о детской сказке, в которой у лисы был ледяной домик, а у зайца лубяной, пришла весна, лисья ледяная избушка и растаяла… А заячья, самая маленькая в санатории, стоит уже более сорока лет, и ничего ей не делается. Предназначалась она, как говорит юное сорокалетнее предание, для охранников американского президента Эйзенхауэра, собиравшегося в ту пору посетить Байкал. Но посещение не состоялось: за полгода до поездки Эйзенхауэра американцы неосторожно заслали в глубины России самолет-разведчик У-2. Над Уралом он был сбит, и разразился скандал. А приготовленная для американского президента резиденция дала основание санаторию. Стоит он на солнцеприпечном взгорке как раз над истоком Ангары – картина волшебная и могучая, из тех редкостных и неизъяснимых, перед которыми немеет наш язык, со смятением и растерянностью называя их неземными. И вот ее-то я и имею счастье наблюдать хоть полными днями из окон сквозь негустой строй сосен и кедров.
Избушка только снаружи кажется маленькой, а внутри она ничего себе: три уютных и светлых комнатки, кухня, туалет с ванной за общей дверью и десять окон на все четыре стороны. По утрам мне доставляет удовольствие открывать на них шторы, и это занятие занимает у меня никак не меньше десяти-пятнадцати минут: встанешь перед западной стороной, где из-под белого ледяного поля выливается в широкую горловину меж берегов торжественная новороженица Ангара, и не можешь отвести глаз. Тут главное, ни с чем больше не сравнимое целение в этом санатории, тут столь полное и счастливое обезболивание от ран жизни, до которого чувства наши не достают.
А по вечерам я взял за правило подниматься на пик Черского, на самую большую высоту в прибрежных горах, названную именем польского ссыльного, исследователя Байкала. Тут сама природа устроила смотровую площадку, а человек благоустроил ее, соорудив беседку со скамьями и проведя к ней асфальтовую дорогу. Дорога, как и полагается при санаториях, еще недавно поделена была на три маршрута – для слабоногих, средне и ступающих бодрым шагом. Теперь маршруты переименовали в терренкуры – первый, второй и третий, о чем и повествует уже вытаявшая надпись белой краской на асфальте в начале пути сразу же за столовой. Словом, те же самые два с половиной километра до пика Черского проходишь теперь не в три маршрутных приема, а в три терренкурных приема. Ну, терренкур так терренкур – какая разница, как это называется, когда с пыхтением лезешь в гору! Но уж влез, встал под ветрами и облаками между небом и землей, окинул взглядом широко и безбрежно открывшееся чудо, задохнулся и воспарил от этого видения на крыльях чувственного восторга – этому названия нет!
Дорога на пик еще грязная и мокрая, ручьи по обочинам асфальта сбегают бесшумными и аккуратными полукружьями, настолько правильными, ровно отмеренными скобочками, что невозможно понять, что их «фигурит»; редкий от старых вырубок лес стоит недвижно и томно, в полуобмороке, в полудреме от тепла; воздух влажный и смолисто пряный. Дорога вьется зигзагами, идет серпантином, огибая крутизну под удобным углом, жмется к обрыву, где над ложем убегающей Ангары выгибается вправо простор. Я уже спускаюсь обратно, когда в который уже раз встречается мне кипящий, как самовар, мужик с пыхающим медным лицом, в куртке нараспашку, из-под которой валит пар, с открытой, до окалины перегретой, лысой головой. Из-под мокрых казачьих усов он выкрикивает:
– Отметился?
– Отметился, – соглашаюсь я.
– А я сегодня второй раз отмечаюсь, – не останавливаясь, докладывает он и командует себе: – Вперед, некогда разговаривать!
Накануне резкой перемены погоды было особенно хорошо, особенно волшебно. Когда, перепрыгивая с камня на камень, поднялся я на пятачок смотровой площадки, солнце над Ангарой уже садилось и огромный, растянутый на все четыре стороны мир замер в последней и таинственной неге перед закатом. Тишина стояла полная и необъяснимая: внизу жили люди, извивался вдоль берега оживленный машинный тракт – и ни звука; теплоход, старый и изможденный трудяга под названием «Бабушкин», отчаливший от зимней пристани возле Лимнологического музея, сползал на большую и темную воду бесшумно, не поднимая волны. Лед нынче по теплой зиме отжался от Ангары дальше обычного, и белое его поле было разрисовано лапчатыми узорами от подтаявших снежных наносов. Вода выливалась из-подо льда широким и спокойным потоком, чуть горбящимся и чуть покачивающимся с боку на бок, и долго магнетически вела за собой взгляд. Далеко влево за обширным ледовым полотнищем горы со снежными гривами по распадкам лежали в прозрачной завеси парной дымки Саяны. Мысы на той стороне Байкала, где Кругобайкальская дорога, вдвигались в море черными чудовищами, запустившими под лед рога, чтобы взломать его и отодвинуть восвояси. Ангара по левому берегу, закрытому от закатного солнца горами, уже лежала в глубокой тени, а низкий правый берег, неровный и зазубренный, искристо взблескивал под солнцем ожерельем ледового припая. Она, Ангара, видна была недалеко, до первого и близкого поворота вправо, и только здесь она еще и оставалась Ангарой в своей дивной красе и своих родных берегах. А уже через пятнадцать-двадцать километров и не полюбуешься ею: распухнет, завязнет в водохранилище, сначала в одном, затем в другом, третьем – и так до самого конца. Шаман-камень, хорошо видимый мне сейчас сверху, мерцающей темной лысой макушкой, легендарный Шаман-камень, которым пытался остановить Байкал свою своенравную дочь Ангару, когда она без родительского благословения бросилась бежать от него к Енисею, – не от этой ли судьбы Шаман-камень, легший поперек ее русла, пытался преградить беглянке путь?!
Пока размышлял я и печалился о судьбе Ангары, по-матерински вспоившей и вскормившей меня в детстве в полутысяче километров отсюда, напитавшей мою душу вечной любовью и благодарностью к ней, украсившей ее красками и линиями своей красоты, наговорившей сказки, которые продолжают звучать во мне еще и теперь, научившей язык мой словам, которые и склонили потом меня к моей профессии, наплескавшей в меня сострадательные слезы, – пока я стремительной птицей пролетал над Ангарой до детства моего и вернулся, туда пролетел над тою, что была в моем детстве, а вернулся над теперешней, – солнце за эти минуты присело еще ниже над гористым горизонтом и в четких контурах смотрелось чистой сияющей чашей, испитой до дна. Ледяное поле Байкала лежало в позолоте, возле правого берега, где Толстый мыс вдвигался в Байкал, позолота была гуще, сочней, а влево перед Саянами широко разливалась тонкой и нежной пленкой, чуть подкрашивающей, чуть обласкивающей холодную пустынность. Я отвел глаза от Байкала только на мгновение, чтобы оглянуться на темнеющую, мирно бурлящую в прибрежных камнях Ангару, заваливающуюся вправо, и за это мгновение вал низкого солнца успел надвинуться на дальний противоположный берег и стал подниматься в горы. Весь недвижный Байкал алел ровно разлитой стекленеющей краской, на востоке, где разворачивался он, чтобы устремиться на север, до самых вершин озарились и горы, снег на них заискрился и засиял, сияние это, расширяясь, надвигаясь на южную оконечность гор, поползло вправо мерным выдохом последнего красного света.
Было чему удивляться: понизу, по льду, полог света шел справа налево, там поднимался с горы, разворачивался и плыл в обратную сторону, к Толстому мысу. Да, всю свою золотистую ткань, всю свою горячую, а затем и теплую щедрость снизало солнце в эту огромную волшебную чашу, в это неиссякаемое лоно, рождающее Ангару, и теперь, опустошенное, меднистое, отгоревшее, садилось на краю горизонта на невесть откуда взявшееся небольшое облако, похожее на белого оленя в прыжке с подогнутыми ногами и разлохмаченным хвостом.
Тишь загустела еще больше и сделалась совсем неправдоподобной. Ни звука, ни ветерка, ни вздоха или скрипа в просыпающемся от спячки весеннем лесу. Голый, глухой лес, застывший в спадающей вниз высокой волне, лежал в оцепенении, петлистая дорога с рыхлыми боковинами снега была пуста, ни людская, ни лесная жизнь никак не давали о себе знать. После мягкого дня к вечеру нисколько не посвежело, а как бы еще больше погрузилось в вышедшее из берегов полотеплие. И по этому общему оцепенению, по сладкой и тревожной истоме, охватившей мир, по опустошенному солнцу с четко отпечатанным ободом круга, по многим другим приметам можно, наверное, было догадаться, что все это неспроста и что всякое волшебство, перешедшее через край, таит в себе предостережение. Но и неспособны мы теперь к этому, и не хотелось отзываться ни на какие предостережения – так было хорошо и благостно, такой на сердце лег покой!
С того места, где я стоял, солнце уже опустилось за темную горбушку мыса, а облако, только что напоминавшее оленя в стремительном прыжке, точно скинув с себя оседлавшее его солнце и изуродовавшись от ожога, ничего поэтического из себя, кроме скомканной белой шкуры, больше не представляло. А на противоположной, на утренней стороне небосклона, над горами в розовом снегу, вдруг выплыли белой стайкой кружевные облачные фигурки, одна занятней и диковенней другой, красивые и веселые в своей маскарадной неузнаваемости, и поспешили вдоль горизонта вправо, как оказалось, под прямоток западающего солнца. Легкая и широкая, во всю правую боковину Байкала, заскользила по льду тень, медленно разматываясь и пригашая его золотистое свечение. Перед горами тень испарилась, горы по-прежнему лежали в солнечном свете, густом, настоенном, влипшем в могучие каменные изваяния. Стайка облаков, не рассыпаясь, заняла свое место чуть поперед гор и в минуту запылала таким пурпурным восторгом, такой гранатовой сочностью, что и лед под этим фантастическим новым светилом опять заалел, и кругобайкальский берег выступил всеми своими складчатыми ярусами. И чем глубже закатывалось солнце, чем плотнее ложились сумерки на Ангару, тем ярче и волшебной окрылялось огненными волшебными жар-птицами небо над Байкалом и тем смелей и вдохновенней продолжал накладывать краски невидимый художник. Я еще долго стоял на каменистом выступе скалы, приближенный, казалось, к тайным и могучим силам неба. И долго-долго теплились, не затухая, горы, овал самой дальней из них, высящейся за поворотом, мерцал негасимой оплывшей свечой; облака самородными зорьками висели над Байкалом; на льду трепетали всполохи. И все так же было тепло, бархатный воздух ласкал лицо, и с души не сходил восторг.
Ночью меня разбудил грохот: распахнуло окно в большой комнате, глядящей на Ангару, сбросило с подоконника тяжелую каменную пепельницу, для которой я, некурящий, не мог подыскать более подходящего места, и в избушку мою ворвалось уличное буйство. Там гудело, шумело, бухало, плескалось и билось безостановочно. Сосны и кедры перед окнами, выламываясь, ходили ходуном, всплескивали в отчаянии ветками и стонали от ураганного северного ветра. Порывы его были долгими и тяжелыми и налетали подхватывающимися и нарастающими волнами. Я втолкнул двойные рамы окна на место, удивляясь тому, как уцелели стекла, закрепил их шпингалетами и уже через стекло заметил, что темноту из ночи выбило проносящимся за окном снегом, и там, как на дне глубокого и мощного течения, колышется водянистый полумрак. Я постоял перед ним, перед валом проносящегося снега, проверил, хорошо ли закреплены рамы на остальных девяти окнах моего «заячьего домика» и, надвинув на голову подушку, снова уснул.
Утром было белым-бело и шумным-шумно. Ветер неистово трепал деревья и завывал с устрашающим гудом, заставляющим прислушиваться к нему и цепенеть. Из-под снега торчали обломанные ветки, выдранная с корнем сосна перед окнами на Ангару повисла на соседней и ездила-пилила по ней, сдирая кору и оседая все ниже и ниже. Ангарскую воду ветер волнами гнал обратно в Байкал, наплескивая ее на лед. С немалым трудом оттиснул я дверь в улицу, крылечко было завалено суметом, на месте дорожки лежал высокий гребнистый вал снега. Перед крыльцом его намело в гору, преодолеть которую не представлялось возможным. От скамейки справа торчал только край гнутой спинки, левую скамейку не видно было совсем. Мне ничего не оставалось, как по-заячьи сигануть на скамейку справа, пройтись по ней, оставляя на пушистом сиденье глубокие следы, а затем ухнуть в снег и по обочине угадываемой дорожки выбредать на большую, на машинную дорогу, также бесследно покрытую тяжким белым саваном. Подходы к главному корпусу, где столовая и лечебные кабинеты, должно быть, с рассветом пытались расчищать, сугробы лежали здесь с волнистыми разводьями, но к этому часу всякие попытки бороться со снегом были оставлены, и он, ложась, неистово вихрил победную карусель. Несколько казавшихся неуклюжими фигур, согбенно крались к входным дверям с выхлестанным стеклом. Но если бы даже это стекло было невредимо, оно несдобровало бы, пропуская меня, когда под хлестким ударом ветра я не удержал дверь, и она бухнула, сотрясая четырехэтажное каменное здание. А внутри как ни в чем не бывало из раздевалки дурноматом гремела музыка и маленькая остролицая гардеробщица, закатив глаза, стояла возле столика в углу с приплясывающей головой.
В коридоре первого этажа сидели возле стен перед процедурными кабинетами реденьким строем, переговаривались, придавленные непогодой, мало и вполголоса, прислушивались к доносящемуся и сюда завыванию пурги… А медсестры, врачи опаздывали, добираясь из своих поселков, как в тундре, по бездорожью и сногсшибательным ударам ветробоя. Вбегали, одетые по-зимнему, в налипшем снегу, действовали своим энергичным появлением на присмиревших ожидающих своей порции здоровья ободряюще и через пять минут, успев переодеться, принимались за дело. Белые халаты смотрелись на них в это утро с каким-то особенным утешением – как чистота и непоколебимость мира.
Тем же макаром, ступая в свои следы, еще не успевшие исчезнуть, и по-заячьи сигая по скамейке, пробрался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихла отдавил от входной двери снег и юркнул внутрь. В домике моем было куда как прохладно, это чувствовалось даже после штормящей улицы. Телефон не работал; когда я поднимал трубку, в ней сифонили лишь голоса непогоды, а они и без телефона проникали сквозь стены; радио умолкло, к моей тайной радости, ибо в надежде отыскать в его необъятном эфирном пространстве что-нибудь приличное, я время от времени терзал его, накручивая колесико, но там всюду прочно воцарились новые вкусы и нравы. Электричество чудом держалось. Я подтащил ребристую панель электрообогревателя к столу, зажег настольную лампу и протянул ноги к потрескивающему, набирающему силу, теплу. Пусть там, за окнами, творится что угодно, а в моей власти, которую я занесу на бумагу, создать счастливый мир, сродни вчерашнему, вечернему, осиянному солнцем и покоем. У нашего брата лучшие картины получаются не с натуры, а с помощью воспоминаний и представлений, которые еще живее, сочнее и четче становятся в предположениях, недоступных глазу. Как хорошо лето писать зимой, тоскуя по лету, ощутительно и зримо отдаваясь ему всем своим существом, умея восполнить все, что не удалось при встрече. Для нашего пера воображение, дополняющее воспоминание, есть такой же перочинный инструмент, как для простого грифельного карандаша перочинный нож. И чем неистовей, чем злей кутерьма за окном, тем отрадней и теплей должны являться вожделенные картины.
Стол мой стоял между двумя просторными, чуть не до потолка, окнами, и в них еще злей, чем утром, трепало деревья и видна была кипящая, поднятая на дыбы Ангара. Снег тащило не переставая; казалось, что, завихряя, закручивая, его поднимает вверх и набрасывает на небо, уже заваленное тусклыми сугробами, а уже оттуда снег опять сваливается вниз. Я попробовал закрыться от этой действительности шторами, но тогда изнуряющее голошение пурги становилось еще тяжелей и в груди холодком занывала тревога. А распахивал шторы – по комнате принимался погуливать ветер. И за стенами он принимался наддавать так, что бедная моя избушка только кряхтела, из последней, казалось, мочи выдерживая шквал за шквалом.
Так продолжалось весь день, так продолжалось и на следующий. Все то же надрывающее душу стенание, все та же бесконечная трепка деревьев и бешеные удары в стену, от которых звенела посуда в шкафу, все та же мглистая иссеченность белого света. Но на второй день люди, придя в себя, стали приспосабливаться к жизни в штормовой обстановке, как приспосабливаются они к жизни среди войны: на тракте появилась снегоочистительная техника и засновали машины, ушел утром по расписанию в город и автобус из санатория, отдыхающие охали меньше и в поисках развлечений подходили к стенду с объявлениями возле столовой и замечали танцевальную афишу. Да и снег к обеду второго дня прекратился, поверилось, что и сломный ветер мало-помалу утихомиривается. Потеплело, и с крыши моего домика принялась налаживаться капель. Я веселей впрыгивал, как на спасительный мостик, на скамейку, по которой проложена была тропа, а затем выбрасывался с нее на скат снежной горы. Однажды на горизонте перед этой горой появился парень с совковой лопатой, постоял-постоял в задумчивости и, разглядев по следам, что постоялец «заячьего домика» жив и имеет сношения с внешним миром, отбыл себе восвояси.
Я решился эти сношения раздвинуть и после обеда через проходную с турникетом вышел за границу санатория и стал спускаться к чернеющей внизу Ангаре. В три часа пополудни зависли сумерки, хотя день весеннего равноденствия уже миновал и границы тьмы и света сравнялись. Неба над головой не было, не было у Байкала и противоположного горного берега, там и там близко стояла мутная непроницаемость. Только по левому плечу Ангары, где портовый поселок, что-то как бы блазнилось, то ли есть, то ли нету, неверным слюдянистым мерцанием. И только Толстый мыс влево от поселка выступал из белесой тьмы кругом тьмы черной, висящей в воздухе. Ангарскую волну, взбивая ее острые гребни в белые пенистые барашки, по-прежнему гнало в Байкал, а байкальская ледовая равнина зыбилась, текла – то ли ветер ворошил там снег, то ли далеко заплескивало воду. Пока шел я под защитой бетонной санаторской ограды, завывало, казалось, где-то в стороне, но едва лишь на спуске с горы выбрался я на простор, под шквальный разгонистый бой и во всю грудь подставил себя под удар, я его незамедлительно и получил, точно врастяжку тугим жгутом, развернуло и с твердого полотна дороги бросило в сугроб. Утонув задницей в снегу и оказавшись в каком-то очень удобном положении, я не торопился подниматься, как всякий поверженный, получивший хороший урок. Вот и «затихает мало-помалу»… ничего он, как с цепи сорвавшийся и донельзя обозленный, не затихает, а только взял он, «бурлак» (так называли у нас, в низовьях Ангары, северный ветер, тянущий и тянущий по суткам), небольшую передышку, чтобы прочистить свои исполинские меха, и теперь по обессиленной земле будет бить еще нещадней. Но куда же нещадней?! – здесь не океанская пустыня, не тундра, не пески, где дикие, взрывные, разрушительной силы, смерчевья выбрасываются из своей оболочки и начинают бешеную погоню… А здесь-то, на богоспасаемой земле, куда больше? И зачем?
Не без труда я выбрался из снега и, не споря больше с ветром, получив достаточные доказательства, кто здесь хозяин, повернул обратно. Отступал я постыдно, эпилептически загребая ногами, низко клонясь вперед, выставив спину, с усилием отталкиваясь правой ногой от обочины, куда меня сносило, а левую норовил выбросить вперед и скорей навалиться на нее, чтобы не упасть. «Погуляли по свежему воздуху?» – участливо спросила меня в проходной немолодая женщина-вахтер с наброшенным на плечи поверх пятнистой формы белым овчинным полушубком. Через окошечко в стекле мы с нею поговорили. Я похвалил полушубок, искренне всегда радуясь, когда, вопреки моде, появляется потребность в старых добротных вещах, а она, желая похвалить меня, сказала, что за весь этот день я третий, кто осмелился выбираться из санатория. «И долго гуляли первые двое?» – «Они в десяти шагах друг за дружку схватились, две женщины, две хохотушки из Москвы, их тут все знают… И похохотать забыли – скорей назад. Это я на них маленько посмеялась, что такие они скорые, а они только рычат: „Сибир, Сибир!“ Вот и „Сибир!“ – дождались, – поворачивая разговор, добавила она. – Душу тянет этот вой. Собака завоет, и то нехорошо: беду кличет. А тут что творится! Набедокурили, а теперь: циклон, циклон! – Это она уж о нашем вмешательстве в природу. – Какая мне польза, откуда этот циклон и как он называется? По мне хоть никак он не называйся… лишь бы его не было! Раньше ветры были… тоже хорошие были ветры, ничего не скажешь. Дух захватывало, как налетит да громоток устроит. Но раньше налетит по пути, чтоб дальше пролететь. А этот так и целит прямо в тебя, так и целит! Так и норовит тебя с земли сдуть!» – «Мы с вами люди немолодые, – попробовал я объяснить, – мы стали бояться всего». – «Нет, нет! – решительно не согласилась женщина, приближая к окошечку суровое мужицкое лицо, которое и верно трудно было заподозрить в трусости. – Не говорите, это с нас спрос пошел».
Провожая меня, выбравшись в узкую боковую дверцу из своего закутка, женщина вручила мне бумажный пакет с курильским чаем, который она сама и заготавливает и без которого никакой, ни китайский, ни цейлонский чай ей не чай. «Люблю совсем горячий, такой, чтоб во рту кипело, – говорила она, давая мне понюхать благоухающее, мелко измолотое снадобье из пакета. – Такой попьешь – и никакая холера не пристанет. Нет, баня – так с веником, а чай – так с курильским!» Краснолицая, крупная, знающая ответы на все вопросы, женщина-вахтер так искренне и энергично настаивала, что я решил: «На ужин не пойду. А заварю сейчас ваш курильский, напитаю им все свои косточки – и пусть хоть от злости убьется этот циклон, мне дела нет!»
Так я и сделал. В две минуты добыл в скороварке кипяток, круто заварил чай, не ведая, китайский он или цейлонский, потому что на тяжеловесных пачках пошли имена: «Ахмад» такой-то, «Принцесса» такая-то, а не происхождение чая, «подженил» этого «Ахмада» золотистыми цветочками подаренного курильского и перенес весь этот церемониал, весь этот набор из сильно выстуженной кухонки на другую боковину домика в спальню, зашторил там окна, чтобы не видеть, как в непрекращающейся пытке выкручивает и выбивает последний дух из сосенок, забрался в кровать под пуховое китайское одеяло и зажег лампу над головой. В каждом положении можно сыскать свое преимущество. Разве был бы так сладок и так бодрящ чай в красный солнечный день, когда доступны многие удовольствия, и разве ощущал бы я в себе такое блаженное измождение?! Спросите меня, был ли я когда-нибудь счастлив единственным счастьем, как никогда больше, и я, ничуть не кривя душой, тотчас отвечу, что был. Да, такое повториться не могло. Распластанный на больничной койке после операции, с тремя пластмассовыми трубками в паху, выводящими разные жидкости, донимаемый болью, которую нечем было снять, ранним и темным февральским утром я изгибал грудь, пытаясь не потревожить живот, выворачивал голову и тянул, тянул запрокинутую за нее правую руку, выдавливал сантиметр за сантиметром из плечевого сустава, чтобы дотянуться и ухватиться за отодвинутую куда-то туда тумбочку. Когда наконец дотянулся – она оказалась тяжелей, чем я рассчитывал, и не поддавалась мне. Я скреб по ней ногтями, раскачивал ее и умолял, стучал по ее стенке в болезненном расчете достучаться и вызвать сочувствие и поддержку того, что требовалось, отступал в изнеможении, подбирая руку, и снова тянулся, и снова раскачивал. И я добился-таки своего – заставил тумбочку начать движение с кряхтением и визгом по застланному линолеумом полу. В ней находилось мое спасение на этот час – кипятильник и пачка чаю. Кружка с водой стояла на полу возле кровати, я легко доставал до нее; электрическую розетку я разыскал еще прежде на стене слева, и тоже за головой, и тоже неизвестно как тянуться. Но сначала надо было придвинуть тумбочку. Я вцепился в нее, стараясь не думать о том, что этими судорожными усилиями могу вытянуть и сбить в себе весь ненадежный и наполовину искусственный механизм выведения отработанной жидкости. Мне срочно требовалась моя, тысячу раз проверенная и подкреплявшая меня, самая живительная жидкость, в которую я верил больше, чем в любое лекарство. И я, спустя час или полтора, нет, спустя вечность, донельзя измученный, с трясущимися руками и забитым болью животом, сумел ее добыть.
И когда сделал я первый глоток и он ушел в спекшееся нутро, все во мне, телесное и нетелесное, израненное и вынашивающее раны, разумное и неразумное, – все во мне ожило и возликовало, каждая косточка отозвалась благодарным вздохом, каждая кровинка заторопилась оросить этим волшебным напитком свои берега, и я наконец почувствовал себя вполне живым. Казалось, что и боль затихает. Я пил не торопясь, вслушиваясь в себя, давая успокоиться порывистому нетерпению, чтобы в спешке не произошло какого-нибудь беспорядка, я отправлял тепло и силу точно туда, где их не хватало, ощущая, как они уходят и впитываются в изможденную плоть и как она, эта плоть, принимается благодарно пульсировать. Большего наслаждения и большего утешения мне испытывать, кажется, не приходилось, и мне не хочется их больше ни с чем и сравнивать, они были единственными, и они оставались во мне, как радость, во все дни моего выздоровления.
Конечно, теперешнее мое чаепитие по сравнению с тем, больничным, спасительным или торжественно выставленным мною на спасительное место, памятное на всю жизнь, – теперешнее, конечно, ничего особенного из себя не представляло, но и оно радовало меня не без причин. Не мог же я среди дня забраться под теплое одеяло ни с того ни с сего, а чай – это всегда небольшой праздник и чайную церемонию позволяется обставлять с чудачествами и удобствами. Я приглатывал из фарфоровой кружки, которая сопровождает меня во всех поездках уже лет пятнадцать, смаковал каждый глоток, как это умеет только истинный ценитель чая, радовался пустяку – тому, что правильно решил сегодня не выползать больше из своей конуры, и рев пурги или бурана, циклона или циклопа уже не так донимал меня. Не сегодня, так завтра вся эта круговерть, все это буйство закончится; существует же в природе норма как на погожие, так и непогожие дни. Для пущего оправдания своей праздности я решил добавить к ней еще одно душеполезное занятие и взял со столика том Лескова, принесенный из библиотеки дней пять назад и до сей поры не раскрывавшийся. Раскрылось на рассказе «На краю света», читанном довольно давно, большом, с плотным и неспешным текстом, который нынешние литераторы, дайся им случайно такой текст, не преминули бы назвать романом, с историей из наших сибирских краев. В ней иркутский архиерей едет среди зимы с инспекторской проверкой в дальний угол своей необъятной епархии, в последние пределы инородческой Якутии. Лесков не бывал в наших краях, и его представление о них, как и о населяющих их аборигенах, порой наивно, точно он и предполагать не мог, что когда-нибудь здесь появятся его читатели. В наших краях побывал другой великий русский писатель, современник Лескова, Гончаров. Возвращаясь из своего кругосветного морского путешествия на фрегате «Паллада», Гончаров из Охотска, где он сошел на берег, по тундрам и тайгам сибирского Севера преодолел тысячи верст то на оленях, то на лошадках, а то и вовсе на своих двоих, пока не выбрался в Иркутске на торную дорогу. Его путь однажды мог пересечься с собачьей упряжкой, которая везла лесковского архиерея. И Гончаров знал бы, что можно многие часы пролежать под снегом, спасаясь от жестокой пурги, но нельзя долгие часы зимней ночи просидеть, не околев, на дереве, спасаясь от стаи волков, как это происходит у Лескова, потому что лютый мороз не милосерднее лютого зверя. Вот эта невольная оплошность Лескова почему-то и осталась в моей памяти после давнего и, быть может, торопливого прочтения рассказа. Теперь я имел случай окунуться в него заново и неторопливо и под вой непогоды почувствовать, как будто глоток за глотком испивал я этот бальзам из лесковского сосуда, его удивительную духовную красоту и достоверность. Да и спасение от волков прыткого архиерея, просидевшего всю ночь на дереве, совсем не показалось мне неправдоподобным. Дело-то не в этом.
Но, Господи, как же мне опять стало холодно и тревожно от этой разгулявшейся «на краю света» стихии, от этого нескончаемого звериного рычания тундры! Это она, казалось, и воет, она рвет и мечет за стенами моего игрушечного домика. Я читал, досадуя на себя, как это меня угораздило сегодня влезть именно в это чтение и потревожить духов гигантской северной кухни, где замешиваются и выпекаются самые каленые морозы и самые необузданные пурги. Я дочитал рассказ, отложил книгу и прислушался: точно не в стены моего домика колотило, а, оторвав его, колотило им по мерзлой земле, вбивая безрассудное упрямство. Отодвинув штору, я выглянул: в грязных лохмотьях и лоснящихся пятнах темноты возилось и завывало – как предшествие чего-то окончательно жуткого.
Было время, когда я искренне верил, что с возрастом тревоги и страхи притупляются и чем дальше, тем больше сходят на нет. К чему чего-то бояться старикам, сполна или почти сполна испытавшим все, отпущенное им на веку? Оставшееся так незначительно, и неинтересно, и тягостно, что на него недостает уже ни чувств, ни воли, ни притязаний. Оно, оставшееся, само по себе есть конец. Не мгновенный обрыв, а медленное, тяжелое, бесшумное угасание и сползание в небытие. И хоть наблюдал я, что в действительности происходит наоборот: молодые принимают жизнь ветрено и мало ее ценят, а старики, иссушившие, казалось бы, полностью свои страсти и выбравшие до донышка свою долю, начинают хвататься за нее так, будто они еще и не жили. Мне представлялось это непонятным и почти унизительным, когда видел я непрестанную тревогу стариков по любому пустяку, угрожающему их затаенному существованию.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































