Текст книги "Динка прощается с детством"
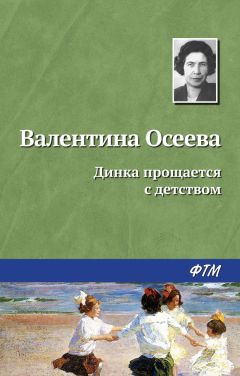
Автор книги: Валентина Осеева
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава вторая
Сборы на хутор
Динка сидит над своим ящиком, разметав по полу вьющиеся концы своих длинных кос.
«Уже вечер, – думает Динка. – А Ефим приедет ночью… Я ничего не успею… Надо брать только самые нужные вещи… Сначала книги…»
Динка разбирает горку книг, долго вертит каждую в руках. «Вот это возьму… вот это возьму…»
Динке всегда кажется, что за лето она перечитает множество книг. Но это только благие намерения: из кучи набранных книг она едва ли прочитывает две-три, а остальные привозит обратно даже нераскрытыми. Это повторяется каждую весну. То же происходит и теперь; ящик быстро наполняется, и Динка вынимает книги обратно, оставляя только самые необходимые. Вот, например, Чернышевского «Что делать». «Ведь это совершенно необходимо прочесть, – думает Динка. – Мне уже пятнадцать лет, а я еще не читала такой книги. Уже многие девочки в моем классе читали, а я только вожу ее в ящике на хутор и обратно. Просто безобразие какое-то…»
В Чернышевском больше всего привлекает Динку не содержание книги – о содержании она знает только понаслышке, а главное то, что книга эта «вполне взрослая». Да еще в памяти Динки свежо хранится портрет Чернышевского, висевший в пустой кухне после отъезда Лины…
Динка помнит, как по утрам бежала она в Линину кухню с тайной надеждой, что Лина вернулась. Но Лина не возвращалась, и, открыв осторожно дверь, Динка останавливалась на пороге, осиротевшая и несчастная. И вот тогда из угла, где висела раньше Линина икона, смотрел на нее Чернышевский… У него было такое благородное, тонкое лицо и что-то такое в глазах…
«Он все понимал…» – растроганно вспоминает Динка и осторожно кладет книгу на самое дно ящика. За Чернышевским следует сборник рассказов Чехова и «Белый клык» Джека Лондона, а между ними проскакивает Майн Рид и Диккенс. Все эти книги уже читаные, но любимые. Стихи Ахматовой и Блока Динка не укладывает в свой ящик: для поэтов всегда найдется место у Мышки. Особенно для Ахматовой и Блока.
– А остальных я просто положу ей, например. Северянина, а то Мышка может его не взять…
Динка проходит на цыпочках мимо спящей сестры, на минутку вглядывается в бледное, усталое лицо Мышки.
– Ей давно на воздух надо, – шепотом говорит она и, заметив в зеркале свои тугие щеки с оранжевым румянцем, недовольно дергает плечом. – Ну мало ли что… Мне тоже надо!
Развязавшись с книгами, Динка усаживается на пол и с удовольствием разворачивает сверток с гостинцами. Гостинцы надо уложить в первую очередь. Вот, например, платочек для Федорки. Динка встряхивает платок, и по белому полю разбегаются голубые букетики. Динка так и видит между ними круглое лицо Федорки и лукавые звездочки ее глаз с густыми загнутыми ресницами. Динка прижимает к лицу платочек. Ей кажется, что он уже пахнет нагретой солнцем травой и полевыми цветами… За платочком следуют еще гостинцы Федоркиной матери, братикам Федорки, сестричкам и тому новорожденному, который каждый год появляется в Федоркиной хате.
Динка любовно укладывает в ящик все эти вещицы, собранные ею в течение долгой зимы… Кроме хуторской подружки, есть у Динки еще один дорогой ей человек. Это деревенский музыкант, Яков Ильич.
Динка кладет в ящик коробочку с канифолью и видит перед собой знакомое бледное лицо музыканта, поднятый смычок и прижатую к подбородку скрипку.
«Ах как он играет, как он играет…» А она, такая дуреха, только в последнее лето по-настоящему оценила его игру. Но зато уж теперь…
Динка зажмуривает глаза и стискивает на груди руки. «Первым долгом… первым долгом, на другой же день, я оседлаю Приму и поскачу к нему в лес. Он, наверно, как всегда, сидит за сапожным столиком со своим сынишкой Иоськой… Отдам ему канифоль».
«Здравствуйте, Яков Ильич! Вот я привезла вам канифоль, вы жаловались, что всегда теряете ее…»
«Здравствуйте, барышня! Иосенька, дай барышне стульчик…»
Забывшись, Динка низко кланяется, говорит вслух… и Мышка поднимает голову.
– Господи, Динка! Ты ляжешь сегодня спать? – сонным голосом спрашивает она. – Ведь ты же прекрасно знаешь, что каждый год Ефим приезжает под утро, еще можно хорошо выспаться!
– Ну и спи, а я не хочу! У меня много дел!
Динка закрывает свой ящик и подходит к окну. Теплый-теплый весенний вечер… Ох, скорей бы ехать! Но где же этот Ефим? Ну что бы ему стоило хоть один раз приехать с вечера! Тогда можно было б умчаться с последним поездом… Нет, это, конечно, не годится, в лесу темно… Надо раньше отправить Ефима и самой бежать на вокзал… Как раз рассвет, хорошо…
Динка смотрит на пустынную улицу. Тихо-тихо стоят ряды каштанов, неслышной поступью поднимаются они вверх вдоль тротуаров. То ли луна, то ли тусклые огни фонарей отсвечивают на их листьях…
– Ночь идет, как тихая монашенка, строгая подружка солнечного дня… задумчиво шепчет Динка.
У нее теперь часто сами по себе складываются какие-то рифмованные строчки – не то стихи, не то просто приукрашенные мысли, в подражание любимым поэтам. Писать настоящие стихи Динка не умеет и даже не пробует.
– А ты бы попробовала, – уговаривала ее иногда Мышка.
– Ну что ты! – смеялась Динка. – Меня только на две строчки и хватает! Побормочу для себя и успокоюсь.
Но Мышке, зачитывавшейся Ахматовой, Блоком и другими поэтами, обязательно хотелось видеть в сестре хоть какие-нибудь проблески поэтического таланта.
– А ты прислушайся к себе, ведь вот у тебя рождаются какие-то строчки и мучают тебя…
– Да ничего меня не мучает, не стану я с этим и связываться! Еще чего не хватало!
Я не поэт – поэтому
Я не пишу стихи,
Не стану в ряд с поэтами,
Не пустят в рай грехи!
весело отвечала Динка.
Но Мышка старательно собирала и записывала каждую услышанную от сестры строчку. На себя она не надеялась, а вот на сестру… Вдруг в ней что-то проявится…
– Проявится! Как же! К шестидесяти годам напишу тебе первые стихи про любовь…
Приду к тебе старушечкой
Читать стихи свои…
И нас с тобой под липами
Освищут соловьи…
хохотала Динка.
– Да ну тебя! – отмахивалась Мышка. – Ты просто ленивая.
– И ленивая и бесталанная! – весело соглашалась Динка.
Такие разговоры часто бывали между сестрами, но с тех пор как Мышка поступила в госпиталь, они совершенно прекратились, у Мышки не хватало ни сил, ни времени на чтение стихов, и только один сборничек, «Четки» Ахматовой, она все-таки возила в своей сумке с медикаментами. А Блока клала под подушку, надеясь почитать вечером.
Динка с нежностью смотрит на спящую сестру, потом снова на пустынную ночную улицу. Как тихо! Хоть бы стук колес, скрип телеги… Но еще не время. «Может, и мне поспать?» – думает Динка и, придвинув к кровати свой ящик, усаживается на него, положив голову на подушку.
Динка спит так крепко, что даже не слышит знакомого стука колес во дворе, не слышит, как, сорвавшись с кровати, бежит по лестнице Мышка и громко спрашивает:
– Ефим?
Не слышит она и тяжелых шагов Ефима, когда он, осторожно ступая, носит вниз вещи. Во сне, словно издалека, доносится до нее приглушенный голос Мышки:
– Вот это мамино, Ефим… Осторожней, пожалуйста! Положите куда-нибудь на самое дно. А это книги и Ленины учебники, как бы их не промочило дождем…
– Дождю нет, дорога хорошая… – отвечает Ефим.
– А вот эта корзинка моя. Ну, ее куда знаете. А вот Динкин ящик, только она спит на нем. Никак не хотела ложиться, – озабоченно говорит Мышка; ей жаль будить сестру. – Может быть, она сама проснется?
– Ну, мне невозможно ждать, пока она проснется. Дорога дальняя, надо поспешать. А ну, отступитесь трохи, Анджила, я ее сам переложу на постелю.
С тех пор как Мышка поступила в госпиталь, Ефим начисто забраковал ее ласковое детское прозвище «Мышка».
– Самостоятельна дивчина, сколько раненых за день перевязует, а ее яким-то котячьим именем прозывают, – недовольно ворчал он.
– Да не котячьим, а мышиным, – смеялась Динка.
– А где мышь, там и кошка. За что ж таку хорошу дивчину обижать, Ну, нехай уж Анджила, да и то не по-христиански… Я просто удивляюсь! Образованные люди и душевные, а вот имя подобрать як положено не могут. Ну что это за имя Анджила!
– Да не Анджила, а Анжела или Анжелика, – поясняла ему Динка, но Ефим махал рукой:
– Хрен редьки не слаще.
С Мышкой вообще он обращался так же, как с Мариной, нежно и уважительно, зато с Динкой и Леней был на «ты» и держался по-свойски.
– А ну перекладайся на постелю, Динка, бо останется твой ящик у городе! – осторожно трогая Динку за плечо, говорит Ефим.
Но Динка еще крепко цепляется за сон.
– Не надо, не надо, – бормочет она, – мне и тут хорошо!
– Уж чего лучше! Голова на подушке, а тулово на ящику! А ну вытягуйте ящик, Анджила, а я ее подниму!
Знакомый голос и «спотыкающееся» имя сестры окончательно отрезвляют Динку, и она сразу вскакивает.
– Ефим… Ты уже приехал? И Прима тоже приехала? – сонно тараща глаза, спрашивает Динка.
– А як же! Мы обои приехали, – смеется Ефим.
Мышка тоже смеется.
– Как же так? Значит, я проспала! А где же, где же Прима, Ефим?
– А вон Прима, на телеге сидит как барыня и кушает овес! – острит Ефим, кивая на окно. – Ну, давай твой ящик!
Но Динка уже роется в карманах и достает завернутый в бумажку сахар.
– Подожди, Ефим… Отнеси это Приме… Вот хоть кусочек. Это пока, на хуторе я еще дам, – словно извиняясь, говорит Динка.
– А чого ж ты сама не отнесешь? Выйди хоть поздоровкайся со своей конячкой, она тут во дворе стоит!
– В самом деле, что это еще за выдумки, Дина? – строго спрашивает Мышка. Почему ты сама не идешь?
– Я не пойду! Я не хочу видеть Приму, запряженную в телегу… Я увижу ее на лугу, на хуторе… Я так мечтала об этом! Ефим, миленький, отнеси сам, пожалуйста!
– Да отвыкла она от твоего сахару! Вот уж, ей-богу! Все не как у людей! Лошадь, она и есть лошадь, и нема чого тут придумывать! – ворчит Ефим, вскидывая на плечо ящик и держа в кулаке сахар. – Ну, бувайте здоровы! Ожидайте меня к обеду, як, бог даст, все будет благополучно. Там Марьяна борщу наварит! А пока лягайте обеи спать, бо ночь короткая! Сестры ложатся. Динка уже не спорит. Она еще успеет на утренний поезд. А сейчас так хочется спать!
* * *
Выезжает Динка поздно, когда Мышка уже давным-давно убежала в госпиталь, а на вокзале и в дачном поезде полным-полно народу.
«Проспала, – с досадой думает Динка. – Теперь Федорка, наверно, уже двадцать раз выбегала встречать меня…»
Но в окно вагона видны уже поля и перелески, знакомые станции, и сердце Динки нетерпеливо бьется. Святошино… Ирпень… Буча… И вот наконец Ворзель. Динка прыгает на платформу, торопливо шагает мимо дач, мимо железнодорожного переезда и останавливается на лесной опушке. Сколько раз за эти годы, едва сойдя с поезда, она мчалась сюда не переводя дыхания! Размахивая своей матроской и сбрасывая на бегу сандалии, она мчалась так, как будто за ней гналась вся гимназия, все учителя и классные дамы! И только здесь, в этом могучем укрытии леса, она чувствовала себя свободной, счастливой девчонкой!
Но сегодня… Этот зеленый сумрак и густая притаившаяся тишина… Этот шорох крыльев перепархивающих с ветки на ветку птиц… Может быть, все стало по-новому? Или она не прежняя Динка? Нет-нет, все прежнее… И лес, и птицы, и она сама… И даже ее матросская блуза с синим воротником… Динка медленно идет по лесной дороге, заплетая и расплетая свои косы. Ей кажется, что старые дубы встречают ее как чужую – так сумрачно в их темно-зеленых ветвях. Может быть, им мало солнца?
Зоркие глаза Динки замечают свежесрубленные деревья; широкие пни, еще влажные, темно-розовые, кажутся ей живыми, оплакивающими свою жизнь. Динка пробирается к одному такому пню, ей вспоминается высокий красавец дуб, который стоял на этом месте… Кто же и зачем срубил его?
«Бессовестные, бессовестные люди…» – с горечью думает Динка, оглядывая лес. Но взгляд ее вдруг останавливается на солнечной полянке; вокруг нее, словно играя в прятки, разбегается веселый молодняк, за широкими спинами дубов прячутся тоненькие березки, распушилась и присела в траву зеленая елка, разбежались кто куда осинки, шелестят кусты орешника, а за ними выглядывает черемуха…
И Динке вдруг делается безотчетно весело, она вспоминает, что где-то здесь, в лесу, ее ждет Федорка.
– Ау! Ау!.. – кричит Динка, и откуда-то из глубины леса доносится радостный, ответный голос:
– Ау!..
Глава третья
Хуторская подружка
– Ау! Ау! Динка!..
– Ау! Федорка!..
Не разбирая дороги, мчатся навстречу друг дружке девочки и, сшибаясь на лесной тропинке, со счастливым смехом замирают в крепком объятии. С шумом проносятся над ними птицы, из-за тяжелых ветвей дубов машут белыми платочками березы.
– Вот и прошла зима. Федорка! – радуется Динка.
– Пройшла! Пройшла! – подтверждает счастливая подружка.
– Вот мы и опять вместе!
– Эге ж! Эге ж! – кивает головой Федорка.
– Солнце, лето! Какое это счастье, Федорка! – закидывая голову и глубоко вдыхая лесные запахи, говорит Динка.
Но Федорка уже ничего не подтверждает, сияющими глазами вглядывается она в лицо подруги и робко спрашивает:
– Ну, як ты?
Динка улавливает в ее голосе тревожные нотки и, словно очнувшись, быстро говорит:
– Ничего… Экзамен я выдержала. Мне остается только один восьмой класс. А Мышка уже работает в госпитале. А Алина… – Какая-то тень проходит по лицу Динки, и медленно, словно снимая паутину, она проводит ладонью по лицу. Алина пишет иногда… Не жалуется…
– Ну, дай ей боже… Дивчина замуж вышла. За кого схотела, за того и вышла. Чего ж ей жаловаться? – поспешно говорит Федорка.
– Конечно… Она и не пожалуется, если б даже ей плохо было, – говорит Динка. – Но зачем он увез ее так далеко…
Перед глазами Динки встает темный перрон и красные огоньки уходящего поезда… Динка знает: пройдут годы, но она уже никогда не забудет эти красные огоньки, как не забывает опустевшую после отъезда Лины кухню, как не забывает прощанье на пристани с Марьяшкой, как не забывает поезд, увозивший Катю… И многое другое.
Федорка с тревогой смотрит на подругу, боясь прервать непонятное ей молчанье, но Динка поднимает голову и, щуря глаза, словно разглядывая что-то в ветвях деревьев, бросает сквозь зубы злые слова:
– Это то же, что запустить руку в теплое гнездо и вытащить оттуда беспомощного птенца. Я ненавижу свадьбы, Федорка, я с детства ненавижу свадьбы!
– Ой, боже! – всплескивает руками Федорка. – Ну чего ты сердишься! Дивчина выйшла замуж за хорошего человека, а она сердится! Ведь на том же и свет стоит! Парубки женятся, девчата выходят замуж… Так же не можно, Диночка, степенно уговаривает подругу Федорка. Она уже давно привыкла к быстрой смене настроений своей городской подружки и навсегда усвоила себе в обращении с ней степенную материнскую мудрость. – Не мучай себя, голубка… – мягко говорит она, прижимая к щеке Динкину руку. – Все перемелется, как говорят старые люди…
Федорка почти ровесница Динки, но все в ней уже девичье: и походка, и стать, и разговор с искринками смеха, и лукавая ямочка на подбородке. Сегодня для встречи подружки Федорка нарядилась по-праздничному. Ловко сидит на ней вышитый цветами бархатный герсет, тихо позванивают на шее бусы. Круглое румяное лицо Федорки совсем такое, как поется в украинской песне: брови как шнурочки, глаза как звезды, ресницы стрельчатые, губы розовые, смешливые, а за ними два ряда мелких, как у мышки, зубов.
– Федорка, как ты выросла! И какая красивая стала! – замечает вдруг Динка и, остановившись среди дороги, с восхищением смотрит на подругу. – Да когда же ты так выросла, Федорка? – с удивлением говорит Динка; она чувствует гордость за подругу, и почему-то жалко ей ту маленькую дивчинку в белом платочке, что пряталась в трех березах. Жалко и себя, безудержно веселую, озорную девчонку. – Когда же, когда же мы так выросли, Федорка? – недоуменно и грустно повторяет она, мысленно пробегая глазами лето, зиму, еще одно лето и еще зиму. Сколько их было, этих лет? И сколько горя, сколько слез унесли они с собой… Федорка, Федорка… – испуганно шепчет Динка, – как же, когда же это все случилось?
– Та годи тебе! – хохочет Федорка. – Дывыться на мене, як на старуху! Конечно, что мы уже не диты! А чего ж тоби треба? Молоди девчата… Ось, слухай, песня такая есть:
Росла, росла дивчинонька,
Тай на поле стала…
Ждала, ждала миленького,
Тай плакаты стала…
Ой, горенько мени з тобою,
– заливается дробным смехом Федорка.
– Ха-ха-ха! – залилась и Динка, потом вдруг оглянулась на лес и с горечью сказала: – Лес рубят… Уже столько деревьев загубили! Кто же это, Федорка?
– А я знаю? Кому надо, тот и рубит! Нашла о чем плакать… Тут люди пропадают, а она об деревьях беспокоится… Война… – сурово говорит Федорка.
Но Динка быстро перебивает ее:
– Война скоро кончится!
– Как это кончится? В августе два года будет… Может, что-нибудь слышно в городе? – с надеждой спрашивает Федорка. – Только у нас таких слухов нет. Гонют людей, как скотину. Тут один с госпиталя выписался, так он бог знает чего рассказывает… – Федорка боязливо оглядывается, но в лесу тихо, только где-то в кустах стрекочут птицы. Федорка тянет подругу в сторону от дороги и, зайдя в самую гущу, усаживается на траву. – Садись. Много чего переговорить надо…
Динка покорно опускается рядом и выжидающе смотрит в лицо подруге.
– Ой, изболело сердце мое. Что на свете делается… Тот солдат говорит, что немцы прут со всех сторон, а у наших хлопцев всего недостача. Нечем от ворога обороняться, гонют их с голыми руками. Да еще якой-то главный генерал на ту сторону предался. Что ж это будет, Диночка, подружка моя?.. – Федорка вдруг всхлипнула и, прижавшись к Динкиному уху, зашептала: – Погубит той солдат Дмитро… Зовсим он ему голову заморочил…
– А при чем тут Дмитро? – удивилась Динка.
– А вот слухай… Ты ж ничего не знаешь. – Федорка вытерла кончиком платка светлые, как росинки, слезы и припала к плечу подруги. – Зимой, как померла у Дмитра маты, так остался он один, как той дубок в поле. Ну, а мы с ним с детства дружили. Как двойняшки, бывало, всё вместе… – Ну дак жалела я его… То рубаху ему постираю, то сала у матери стащу… И он тоже слухал меня. Бывало, как ни заспорим, все мой верх…
– Да, я помню, – усмехнулась Динка.
– Ну вот! А теперь же он один в хате. И постучался раз ночью до его человек… Шинель на нем рваная, сам худой, одни кости, стоит под окном, на костыль опирается. Без ноги, значит… Ну, попросился переночевать. Дмитро, конечно, пустил его в хату, отрезал ему хлеба, всыпал в миску борща… Ну, разговорились, конечно, обо всех новостях… Солдат и говорит: «Я, говорит, сам с госпиталя, выписали меня на все четыре стороны. Только идти мне, говорит, некуда; потому как я раньше у старшего брата за батрака был, а теперь я калека, а у брата жена настоящая ведьма. Сам-то брат принял бы меня, но она нипочем не желает… Вот и хожу я по дворам, где что кому починить, сам я бондарем могу работать и сапожником, на чужой шее сидеть не буду». Вот и пустил его Дмитро – живи, места хватит…
– Ну и хорошо, – кивнула головой Динка.
Федорка покачала головой:
– Оно бы и хорошо, почему не пустить человека? Да только язык у того солдата вредный. «Я, говорит, всего на этой войне насмотрелся и умных людей послушал. Сомневается, говорит, народ. За что мы кровь проливаем?.. Генералам да офицерам до солдата и дела нет. Вот искалечили меня да и выбросили как собаку. Околевай где хочешь…»
– Ну что ж, – вздохнула Динка. – Он же правильно говорит…
– Может, оно и правильно, ну так держи про себя, а то как почнет всех ругать. А то посядают рядом с Дмитро и всё бумажку яку-то читают…
– А что ж в той бумажке написано? – заинтересовалась Динка.
– А я знаю что? Хиба они мне скажут? Чула только, что там и за самого царя и за царицу прописано… А Дмитро развесит уши и слушает. Уж я его прошу: выпроводи ты этого солдата от греха, – а он злится! Куда там! Этот солдат ему теперь лучше родного отца стал! – с горечью махнула рукой Федорка.
– Вырос, наверно, Дмитро… – задумчиво сказала Динка, и перед глазами ее вдруг встал застенчивый кареглазый подпасок с переброшенным через плечо серым армяком, вспомнилось, как еще в первые годы ее жизни на хуторе Дмитро пожаловался на приказчика Павло, который избил его, а Динка, утешая Дмитро, сказала, что скоро будет революция и тогда они побьют всех панов и царя.
«А на что мне тот царь? – обозлился вдруг Дмитро. – И за что я его буду бить, как я его и в глаза даже не видел! Ни он меня, ни я его! И пан тоже мне ни к чему! Вот приказчик Павло – это другое дело!»
Динка всегда считала Дмитро тупым, неразвитым мальчишкой, а вот прошло два-три года и случайно зашедший в село солдат сумел чем-то заинтересовать Дмитро, читает с ним вместе какую-то бумажку – может, прокламацию…
– Дмитро… Я давно его не видела. Прошлым летом его куда-то посылали за коровами? – живо заинтересовавшись, спросила она примолкнувшую Федорку.
– Ну да! У пана под Житомиром еще одно имение, да вот оттуда они с приказчиком коров пригоняли, ты его и не видела! А сейчас и не познаешь уже! Настоящий парубок стал! Только характер его спортился, не слушает меня! А про солдата хоть говори, хоть не говори – всё мимо ушей пропускает! – пожаловалась Федорка.
– А ты не говори. Не ссорься с Дмитро. Он не должен тебя слушаться в этом деле, Федорка! – строго сказала Динка.
– Ну, так тому и быть, – вздохнула Федорка, поднимаясь. – Может, я и вправду зря на него нападаю. Ходим лучше скорее, бо мамка моя вареники для тебя лепила, наверно, сердится уже, что нас долго нет.
Девочки молча вышли на дорогу. Взглянув на расстроенное лицо Федорки, Динка обняла ее за плечи.
Федорка растрогалась.
– У меня еще один разговор есть. Ну, то уж на свободе, а то как почуе маты, то весь веник об меня обломает!
– Все еще бьет? – удивилась Динка.
– Ну, а кто ж ей воспретит? Она ж маты…
– Так тем более. Сама родила и сама бьет! Чепуха какая-то, – сердито сказала Динка.
– Ну, это уж так полагается… Да не то обидно, что бьет, а то обидно, за что бьет… Ну, добре, об этом мы потом побалакаем, – заторопилась Федорка, завидев на крыльце мать. – Молчи зараз!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































