Текст книги "Отпуск"
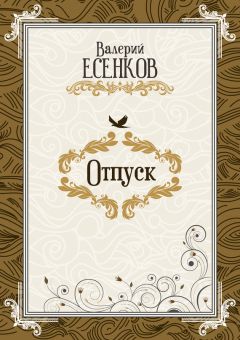
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава четырнадцатая
У Вяземского
Громада огромного кабинета будто вновь давила его, высоко над головой парил лепной потолок, далеко в стороны разбегались покрытые панелями стены, весь угол был загорожен широким длинным, как волжская пристань, столом, а красное дерево тумб покрывала резьба, почти не различимая на расстоянии, однако изученная во время прежних приемов до последнего завитка. Здесь он чувствовал себя беззащитным и слабым.
Тем не менее, обнаружив давно, что такого рода золоченым парадом умело морочат головы бесчисленных дураков, предварительно сам обморочившись несколько раз, он шагнул и вежливо отдал аккуратный служебный поклон.
Почитав ещё две минуты, оторвавшись медлительно от бумаги, за столом возвысился, очень прямо и строго, князь Петр Андреевич Вяземский. Седая голова на синей обивке высоких вольтеровских кресел, едва ли прямо не из Ферне, такое зародиться могло подозрение, слабо пошевелилась в ответ, и сухой голос раздельно сказал:
– Вы пришли весьма кстати, господин Гончаров.
Он явился по делу, о котором товарищ министра народного просвещения ещё не знал ничего, однако сквозь узкие стекла очков на него со значением глядели небольшие выцветшие глаза, и он в полном молчании ожидал у дверей.
Коротким жестом бледной руки князь указал ему кресло напротив:
– Прошу.
Он отсчитал девятнадцать размеренных спокойных шагов и свободно, однако почтительно сел.
Князь ещё суше сказал, как говорят, когда высшим от низших необходима услуга:
– Вы единственный человек, к которому я, после зрелого размышления, почел возможным обратиться за помощью.
Он знал, что помощь низшего высшему обернется работой, то есть вместо князя работу придется исполнить ему, а князь обронит сквозь зубы несколько одобрительных слов и всю работу припишет себе одному, но также знал, что князь нерешителен, по-старинному деликатен, хотя держится грубовато, давая понять, что ему решительно всё нипочем, и напрямик обузы свалить не умеет, станет мямлить, вилять, так что можно не расслышать внезапного комплимента и наблюдать, как-то справится князь, вертясь между правилами самого высшего тона и неспособностью к служебным делам.
Почтительно внимание изобразилось на его холодном лице.
Князь ждал ответа гордо и холодно, бледное лицо оставалось недвижным, невозмутимым, но когда-то голубые глаза в золотых ободках светились тонкой насмешкой, которую можно было понять и как сознание своего превосходства, и как немую просьбу поскорее в него эту обузу свалить.
Он невозмутимо молчал.
В золотых ободках с недоумением погасла насмешка, и, чуть подняв левую руку, князь едва слышным, с едва скрываемым раздражением бросил:
– Речь идет о реформе цензуры. Мне бы хотелось, чтобы мы работали вместе.
Он не двинулся, не сказал ничего, его лицо осталось закрытым, точно глухим.
Князь выпрямился с ещё большей значительностью, неприветливо взглянул на него, и в строгом голосе проскользнуло высокомерие:
– Я нахожу, что литераторов не должно допускать до цензуры. Мелкие и малоспособные, по опасению, весьма, конечно, резонному, возбудить негодование более сильных совместников, не могут быть независимы и беспристрастны. Литераторы же известные, наделенные дарованием несомненным, сами не поступают на службу в цензуру, ибо сие звание в общем мнении слишком унижено.
Он слушал, глядя внимательно, не повернув головы, лишь почтительно приподняв тяжелые веки.
Князь неожиданно смолк, точно припомнив, что и сам литератор и что перед ним литератор с прославленным, хоть бы и полузабытым, поистершимся именем, и после краткого размышления неторопливо прибавил, умело сглаживая строгость официального тона:
– Однако ж, Иван Александрович, вы у нас, разумеется, составляете приятное исключение из общего правила.
Он бесстрастно напомнил:
– И вы, Петр Андреевич, тоже.
И уловил, как дрогнуло застывшее высокомерно лицо, как сузились и невольно сдвинулись в сторону полинялые голубые глаза, и угадал, что князь в замешательстве от неожиданного намека на это очевидное сходство их положений и потому в эту минуту не видит его. Он осторожно опустил воспаленные веки, будто ничего особенного и не скрывалось в его обидных словах, будто он просто-напросто с полным вниманием и с должным почтением слушал, но про себя тотчас сделал заметку на память, что это замешательство впоследствии ему пригодится, и решил при случае ещё усилить его.
Глядя задумчиво поверх его головы, князь наконец уточни, снисходительно протянув:
– Как два литератора, мы сможем друг друга понять.
Он ответил, к4ак обязан был отвечать заместителю министра народного просвещения, но протянул, князю в тон, не второе, а первое слово, давая понять, что его согласие зависит от обстоятельств:
– Буду рад служить вашему сиятельству.
Князь иронически улыбнулся, точно поймав его на оплошности, которую великодушно прощал, и ладонью с выгнутым большим пальцем лощеной руки мягко его слова отстранил от себя:
– Нет, нет, вы служите вовсе не мне, но мы оба служим нашему государю.
Зная громадное честолюбие князя, он промолчал, не поверив надутым словам и вовремя спрятав усмешку, однако невольно дрогнули чуткие ноздри, едва не выдав его, и стала сонливей обычная маска лица.
Все-таки князь был сметлив и умен, молчание, должно быть, сказало ему больше слов, и Петр Андреевич пружинисто, молодо встал, небрежно оттолкнув высокое кресло, с задумчивым видом прошелся к стене, заложив нервные руки назад, повернулся и встал перед ним, высокий и плотный, раздвинув всё ещё стройные ноги, играя фальшивой улыбкой, разъясняя смущенно, с напускной откровенностью:
– Во дни юности, разумеется, и я думал иначе, пока не стал понимать, как в моем возрасте быть надлежит, что у нас, слава Богу, народ и власть нераздельны, а это должно означать, что, верно служа высшей власти, мы служим тем самым народу.
Равнодушно рассматривая носы сапогов, слегка забрызганных грязью выше того, что закрывали отданные швейцару калоши, он прикрыл иронию совершенной наивностью детски простодушного голоса:
– Весьма был бы рад принести пользу народу, ежели мне разрешат и позволят её принести.
Удовлетворенно кивнув, князь с одушевлением продолжал:
– В своих размышлениях о цензуре я исхожу из того, что под покровительством нашего мудрого и гуманного государя, воспитанного, между прочим, моим другом Жуковским, словесность не может не процветать, что все наши лучшие литераторы отмечены и возвышены по заслугам, университеты кипят просветительной деятельностью, науки поощрены и сама поэзия, царица искусств, не оставлена без сочувствия и внимания.
Он смолчал, однако гневные возражения сами собой затеснились в уме, выхватывая из памяти имена одних тех, кого знавал в своей жизни, одних близко, других далеко: Белинский сгорел в непосильном труде, Гоголь, дерзнувший подняться до совершенства, убил свой труд и себя самого, Достоевского после отбытия каторги определили в солдаты, Герцен ушел в эмиграцию, Тургенев только то отбыл два года ссылки, сам он безвестно служил по цензуре, в самом деле отмечены и возвышены все.
В нем теснился гнев искушения напомнить такого рода сочувствии и внимании благополучному князю, его подмывало одним метким язвительным словом сбить эту мерзкую вельможную спесь, пристыдить, поставить на место, заставить остро почувствовать позорную правду мелочного предательства, которое князь совершил без нужды, явившись служить по совести и по чести малодостойному делу, которое бесстыдно оправдывал казенной дрянной декламацией, хотелось дерзко взглянуть ему прямо в глаза презрительным немигающим взглядом, заставить растеряться и прекратить смешное лакейское фанфаронство о единении государя с народом.
Однако не ради бесплодной пустой перебранки он явился сюда.
И, сдержав свои чувства, он бросил на князя быстрый уклончивый взгляд, в котором по желанию можно было прочесть что угодно, даже согласие, что, мол, в самом деле, у нас всё хорошо, отметив, скорей по привычке, что князь слишком быстро старел на новом посту, глубокие трещины исказили приятное ещё недавно лицо и голос сделался глуше.
А князь твердым шагом приблизился к креслу, с достоинством опустился в него, утвердился подчеркнуто прямо, чуть откидывая назад седую массивную голову, с решительной твердостью наставляя, делая красноречивые паузы, кивая в такт указательным пальцем с перстнем-печатью на нем:
– Мысль, когда она облекается в слово, а слово попадает в печать, уже становится действием.
Поднял брови и со значением подчеркнул:
– Всякое действие должно совершаться в пределах закона.
Лицо после этого сделалось замкнутым, строгим:
– Надзору общей полиции предоставлены частные, отдельные, единовременные поступки. Обязанности цензуры гораздо важнее и выше, ибо всякое выражение вредного мнения есть покушение уже всеобщее, не ограниченное ни пространством, ни временем.
И голос зазвенел как металл:
– Худо устроенная полиция нарушает безопасность жителей, худо устроенная цензура может поколебать безопасность целого государства.
Глаза твердо глядели вперед, по временам из бледно-голубых превращаясь в серо-зеленые:
– Вред ненадежной цензуры действует не только на настоящие поколения, но заражает и будущие.
Воинственная мимика на умном и тонком лице хорошего стихотворца и хорошего эссеиста, которого точило ядом безответственной власти, расстраивала и веселила его. Вот, не сделаться бы таким же оратором на старости лет, думал он и с нетерпением ждал окончания искусительной речи, чтобы приступить к своему насущному делу, но ему показалось в этот момент, что князя настала пора подзадорить, пора вскользь показать, что перед ним не только исполнительный, послушный чиновник, но литератор заслуженный, не вовсе забытый, и он равнодушно, размеренно произнес, чтобы товарищ министра не угадал непокорности, а лишь мимолетно почуял её:
– Полиция абсолютно необходима для безопасности граждан. Что же касается до свободы печати, то в тех странах, где она существует, свобода печати способствует разоблачению внутренних наболевших недугов, которые препятствуют правильному развитию этих стран, и отыскивает пути исправления.
Голова князя насмешливо дернулась, выцветшие глаза загорелись радостным блеском, и князь заговорил возбужденно, наслаждаясь, должно быть, несокрушимостью продуманных доказательств:
– Однако, позвольте заметить, Иван Александрович, всё сущее следует по дороге, намеченной Промыслом, чего не знать вы не можете, и в тех странах, которые вы имели в виду, вместо единодержавия властвует многоликий парламент и свобода печати в тех странах абсолютно необходима, для исправления тех горчайших ошибок, которые неминуемы при демократических формах правления. Однако власть, сосредоточенная в одних могучих руках, непогрешима. Потому-то свобода печати в нашем счастливом отечестве была бы вредна положительно. Вы рассудите: свободная печать принялась бы порицать непогрешимую власть, то есть вводить несчастных читателей в заблуждение! Нет, наш русский ум привык доверять нашим правителям. Выпущенный на волю, он впадет в самые крайние, самые дикие заблуждения. В особенности, ум людей молодых, обольщенный видимыми успехами европейского просвещения, внешне, может быть привлекательного, развратного и пошлого по существу.
Высокомерная напыщенность князя нисколько не задевала его. К тому же он твердо знал, что в самое близкое время расплатится с князем по-своему, как он умел иногда. И потому, выслушав почти равнодушно обидную наставительность и обидное торжество товарища министра и князя, он попробовал только узнать, в каком именно качестве предстояло ему принять участие в реформе цензурного дела, с заранее обдуманным намерением не допускать свободы печати, и возразил – посильней, причем голос его прозвучал ещё флегматичней:
– В общих чертах не могу с вами не согласиться, ваше сиятельство, однако дозвольте заметить и мне, что источник познания, как вы не можете же не знать, неистощим, и какие успехи ни приобретай человечество на этом обширном пути, впереди всё останется бездна неведения, всё будет оставаться, что людям искать. И эта бездна, как представляется мне, вечно манит за собой своей увлекательной целью к упорному творческому труду, к завоеваниям мысли, но по большей части не к тем завоеваниям, о которых мечтали борцы, а к другим, более верным, более практическим и насущно необходимым для общего блага. Но ведь результат выясняется временем, его вперед угадать невозможно. И вот я думаю иногда: пусть между молодыми учеными нашлись бы такие, которых изучение естественных и социальных наук привело бы к выводам крайним. Что ж, их убеждения останутся их личным уделом, тогда как ученые усилия их, может быть, обогатят науки и мысль, как некогда исследованиями алхимиков и астрологов, добивавшихся открытия философского камня и тайн читать будущее по звездам, обогатились химия и астрономия.
Он с удовлетворением отмечал, что князь вовсе не ждал от него возражения. Глаза князя смотрели с растерянной, однако внятной угрозой, рука сжимала подвернувшийся нож для разрезания книг, а голос звучал раздраженно:
– И все-таки надобно помнить, как бывает неуловима и призрачна мысль и что всякое слово бывает двусмысленно!
Тут губы князя сложились в усмешку:
– Для общего блага, по вашему прекрасному выражению, полезнее будет придать мыслям наших любезных сограждан направление должное и неукоснительное.
Увлекаясь, как увлекался обычно, словесным турниром, с трудом соблюдая необходимую осторожность, сквозь которую уже пробивалась озорливая дерзость, оставаясь неподвижным, как пень, точно закоченев, он с медлительной задумчивостью предположил:
– Неуловимое трудно поймать, ещё труднее было бы его направлять.
Князь с застывшим серьезным, должно быть, от негодования побледневшим лицом властно отрезал:
– Вот именно потому нам необходимо поднять должность цензора на такую высоту, на какой он никогда не стоял и на какой мог бы сделаться непогрешимым.
Уловив опасность, не для себя, а для дела, с которым пришел, в этом застылом лице, в резком тоне, в колючих иголках посуровевших глаз, он было решил промолчать, да не смог удержаться и, широко улыбнувшись, сказал:
– Тогда мне придется в отставку подать.
Выждал, пока князь не поглядел на него с немым удивлением, и с наивным видом прибавил:
– Ведь я, ваше сиятельство, не святой, далековато до непогрешимости мне.
Князь вспыхнул, сжав угрожающе губы, хмуро глядя на потертую крышку стола.
Зорко следя за ним из-под полуопущенных век, он так и оставил лицо свое совершенно наивным и с напряжением ждал, ударит ли гром, или мимо пройдет, мысленно готовя ответ, который помог бы уйти от разноса.
Однако Петр Андреевич Вяземский был нечаянный бюрократ. Принадлежа к старинной русской аристократии, прекрасно, хоть и не всегда глубоко образованный, изысканно умный и в юные годы чересчур озорной, прокутивший всё свое состояние, князь и на старости лет любил пошутить и в другом человеке умел оценить остроумие.
Имея это в виду, он наблюдал, как с лица князя сползла возбужденная строгость большого начальника, ненатуральный, прививной, плохо прилепившийся бюрократизм пропадал, и глаза оживали, понемногу теплея, и определил по ожившим глазам, что грозу, по всей вероятности, пронесло, что дерзость его, возможно, даже понравилась князю, и, завлекаясь всё дальше по пути вольнодумства, тут же попытался представить, каким образом Петр Андреевич сумеет выбраться из своего, и щекотливого и досадного, положения, но представлялось с трудом, князь был талантлив, к тому же в душе его продолжало бродить удалое легкомыслие юности, которое князь, без осторожности и оглядки, по-княжески широко позволял себе выставлять напоказ с какой-то грубоватой аристократической грацией, и эта талантливость пополам с легкомыслием делали характер князя неожиданным, непостоянным, каково угадать?
Взвесив обстоятельства и свойства характера, он склонился к предположению, что князь по привычке отшутится, и тотчас приготовил, именно грубоватую, шутку вместо него, однако князь, точно угадав и нарочно, его удивил, вдруг тонко, проницательно улыбнувшись, изящно выгнувшись в высоких вольтеровских креслах, словно бы дело происходило в гостиной, а они болтали за кофе с ликером о модных незначащих пустяках, не доставало только кофе с ликером для полного сходства, у него на глазах превратившись в отлично светского человека, как будто забыв, что замещает министра и что перед ним его подчиненный куда более низкого ранга, только что посмевший дерзить начальнику прямо в глаз, и что речь идет о важнейших делах государства.
Проделав всё это очень легко, князь непринужденно и весело проговорил:
– Что ж, вы правы, и мы с вами начнем не с самого трудного. Мы с вами возьмемся за цензурный устав. Собственно, цензурного устава у нас до сей поры нет, хотя в двадцать восьмом году изданный покуда не отменен специальным указом и продолжает будто бы действовать, однако руководиться им не имеет возможности ни сама цензура, ни литераторы. Имеются ещё частные предписания, в бесчисленном множестве изданные с той поры по разным особенным случаям, что у нас сделалось правилом. Они, по правде сказать, и вовсе загромоздили устав. Нынче до его смысла и добраться нельзя, как я ни пытался. По моему мнению, устав надобно восстановить, внеся изменения и дополнения, какие мы с вами признаем полезными, а все прочие разнородные предписания вовсе попробуем отменить.
И князь взглянул на него тем светским вежливым предупредительным взглядом, который должен был показать непривычному человеку, будто князь в этом деле совсем не при чем, а затеял его исключительно ради пользы своего приятного собеседника, лишь бы дать тому верный случай выдвинуться и наконец в наилучшем свете выставить себя перед всеми, перед министром пуще всего.
Эта светская утонченная мнимая вежливость, не обманув, восхитила его. Он помни, с какой неприступной и важной ретивостью Петр Андреевич исполнял обязанности министра во время короткого, к счастью для просвещения, отсутствия Норова, и угадывал за изысканной вежливостью понятное желание выдвинуться с его помощью и показать себя самого, именно перед министром пуще всего.
Полагая к тому же, что прежний цензурный устав, безнадежно и давно устаревший, никакие изменения и дополнения не могут спасти, он прикидывал, изнутри покусывая нижнюю губу, что, разумеется, можно бы было сочинить что-нибудь более дельное, пользуясь осторожно, с умом тем немалым влиянием, какое князь имел на министра…
Но об этом потом…
Он улавливал перемену в настроении князя, который сам невольно затронул ту тему, с какой он пришел. Он к этому тотчас придрался, тоже перескочив на беспечную легкую светскую болтовню:
– Вы изумительно сформулировали, ваше сиятельство. Невообразимая путаница от бесчисленных предписаний и ума недальновидного замет. Сломишь голову, честное слово, лишишься аппетита и сна, а разобрать не возможно решительно ничего. Вот, к примеру, послушайте только, господин Тургенев, известный всем литератор, продал господину Анненкову собрание своих сочинений. Сочинения составили три больших тома и поступили ко мне. Один из томов включает небольшую повесть «Муму». Назад тому года два повесть была пропущена цензором Бекетовым и напечатана в «Современнике». Едва ли кому придет в голову сомневаться, что на посту цензора Владимир Николаевич почти отличается той высшей непогрешимостью, какую вы, ваше сиятельство, от нас изволите требовать, многогрешных, но граф Мусин-Пушкин иначе смотрит на такого рода дела. В результате сего сурового взгляда цензору Бекетову было объявлено замечание. Теперь войдите в мое положение: предосудительного в сей малой вещице, как ни вертел, не нахожу ничего, однако ж и пропустить никак не могу, чтобы, в свою очередь, не удостоиться лестного и, может быть, ещё более строго замечания.
Подавшись вперед, свободно положив холеные руки на крышку большого стола, ласково щурясь, самодовольно и благожелательно улыбаясь ему, князь подхватил красивым выпуклым голосом:
– Вот-вот, именно подобную путаницу я имею в виду. Мне остается лишь выразить вам мое глубокое и почтительное сочувствие.
Ну, сочувствие-то ему не было нужно, ни почтительного, ни даже глубокого, и, проворчав язвительно про себя: “А вот поглядим-ка, что ты имеешь в виду?» он с напускной вялостью произнес, полуприкрытые глаза уставя в пространство:
– Благодарю вас, ваше сиятельство, за выраженное вами сочувствие. Гора у меня точно с плеч. Однако прошу рассудить, какое в таком случае должно быть решенье цензуры.
Мигнув вопросительно, даже несколько жалобно, поправив недоуменно жабо, князь одним растерянным ловким движением сбросил очки, повертел, склонив олову, и растянул с досадой слова:
– Но, Иван Александрович, отчего же именно я?
Так оно и бывает на свете, когда общественные и личные добродетели истекают не из светлого человеческого начала, а по необходимости, по расчету или капризу. Что делать? Надобно светлое начало из глубин извлекать. И, открыв глаза широко, глядя на князя в упор, точно никак не ожидал такого вопроса именно от него, он старательно разыграл удивление и, зная слабое самолюбие князя, несильно кольнул в уязвимое место:
– Как же, ваше сиятельство! Кто ж, как не вы, бывший наш литератор, поэт, может своему же собрату помочь?
И все-таки не ожидал, что одно это коварное слово, будто бы произнесенное вскользь, хотя и с неторопливым слабым нажимом, так глубоко и так больно заденет чуткую душу поэта, и с чувством вины наблюдал, как съежились глаза, затуманились болью и сожалением, как обиженная рука отбросила нервно очки и безвольно опустилась на стол, как неловко и вяло побарабанили изумленные пальцы, а прежде тугое лицо расплылось, став задумчивым, грустным и совершенно несчастным.
Он вдруг ощутил постыдность своего колкого и неверного слова. Относить князя Вяземского к бывшим поэтам было несправедливо. Поэзия друга и соратника Пушкина продолжала жить своей жизнью, и понемногу к ней прирастали новые сильные, нежные, поэтичные строки. Как-то Петр Андреевич обронил: “Моя вечерняя звезда, моя последняя любовь! На потемневшие года приветный луч пролей ты вновь! Средь юных невоздержных лет мы любим пыл и блеск огня; но полурадость, полусвет теперь отрадней для меня”. Это вылилось из души, красиво и верно, однако новое поколение, ещё молодое, без опыта жизни, не понимало элегических настроений, и старый поэт был безжалостно оттеснен на задворки, точно не нужен был никому.
Вовремя не подумав о превратностях нашей судьбы, увлекшись расчетами, весьма остроумными, он подлил к потемневшим годам своего затаенного яду и точно сам ударил себя: это его самого бранили бывшим писателем, не раз и не два, это говорили о нем, что надежды, связанные с его первым романом, не сбылись и, очевидно, не сбудутся никогда, и ставили в грех затянувшееся молчание.
Разом всё смялось, забилось внутри. Опустив голову, пряча глаза, он искал в лихорадке искупительных слов и ждал с замиранием сердца, каким негодованием или презрением обольет его оскорбленный поэт. И поделом, поделом: общественные и личные добродетели должны истекать из светлого человеческого начала, истинно так.
И со страхом услышал тихий, сбивавшийся голос:
– Да… вовсе один… остался… нынче лишь я…
Он не сразу понял, но сразу похолодел. Удар пришелся ещё сильнее, ещё беспощадней, чем представлялось ему, и, втянув несчастную голову в задрожавшие плечи, плохо владея побагровевшим лицом, он метался душой, не находя, где бы укрыться ей от стыда, но тут же испуганно думал о том, что вот теперь Вяземский весь уйдет в свою острую боль и уже не сможет вернуться к тургеневской повести, которую надо было и оказалось нельзя пропустить, и в смятении чувств не придумал, за что бы уцепиться ему, и ошеломленно, виновато молчал.
А князь вдруг сделался близким, простым, а голос согрела нежность и грусть:
– А ведь было же время…
В высоких окнах висело тусклое зимнее солнце. В большом кабинете было просторно, прохладно, светло.
Не находя себе места в этом большом кабинете, он сцепил пальцы и ждал неизвестно чего, а князь, тяжело опираясь руками на стол, как будто с трудом удерживал свое плотное тело, медлительно встал, сгорбившись, старчески шаркая, добрел до камина, задумчиво постоял, поправил дрова, поворотился спиной к заплясавшему пламени, как, говорили, делывал Пушкин, весь опавший, точно ушедший куда-то далеко-далеко.
Он с облегчением угадал, что старый поэт, пробужденный нечаянной болью, всей душой устремился в терпкую прелесть воспоминаний и, должно быть, простил, глубоко пережив, и забыл его неуклюжее, бесчестное слово.
Пусть простил и забыл, стыд продолжал его жечь, открыто на князя он не решался глядеть, однако трезвая мысль уже безошибочно оценила момент, и он, наблюдая цепко, но скорей по привычке, без особого смысла, как беззащитно и всё же изящно переступали полноватые ноги в отличных лакированных сапогах, тотчас рискнул сыграть на старческой слабости, чтобы вновь овладеть разговором и в подходящий момент направить его, негромко и осторожно оспорив:
– Что ж время… я полагаю, время было обыкновенное, как и всегда… однако люди были в те времена…
Князь встрепенулся, шагнул нервно вперед, выпрямляясь, закладывая бледные руки назад, и подхватил горячо, весь изнутри засветясь, счастливо мерцая ожившими, близоруко прищуренными глазами:
– Да, да, да! Люди были в те времена! Как сказал обо мне Баратынский: “Звезда разрозненной плеяды…”!
И, вспомнив с радостью о себе прежнем, таком невоздержанном, таком молодом, князь неторопливо пошел от камина, тверже ставя длинные ноги, сильно выворачивая ступни, громче восхищаясь собой:
– Я был питомцем Карамзина. У меня на глазах, в моей подмосковной, написал он первые томы своей бессмертной “Истории”. Нелединский, Дмитриев ласкали меня отроком в доме отца моего.
Он и пальцы растопырил от удивления, как легко ставил князь себя в самый центр тех прославленных и великих людей, с какой непринужденностью выходило, будто бы все эти великие люди возвысились и прославились единственно ради того, чтобы окружить вниманием именно Вяземского, пестовать и ласкать или уж в крайнем случае приезжать к нему в подмосковную, без которой, чего доброго, и создать бы ничего не смогли, а тем временем князь, оборотившись к нему, расставив длинные ноги, остановясь, внезапно старея, на этот раз, должно быть, от своего умиления, весь в морщинах кругом поблекшего рта, не скрывавшего больше, как мало оставалось зубов, вдохновенно перечислял:
– На дружеских пирах мы с Денисом Давыдовым менялись бокалом и рифмой. Пушкин, Баратынский, Языков возросли, созрели, прославились и сошли в могилу на глазах у меня. Я был старейшим другом Жуковского. Батюшков был моим близким приятелем.
Выслушивая с потупленными глазами хвастливый восторг, он думал о собственной старости, которая надвигалась неумолимо, грозя одиночеством, бесплодием творческим и хандрой. Неужто и он так же и тем же отвратительным тоном примется вспоминать о себе? Неужто и он припомнит о Белинском, Тургеневе, Писемском и Толстом лишь затем, чтобы приукрасить, преувеличить свою малоприметную роль среди них и таким жалким способом хоть немного утешить себя? Неужто единственное утешение старости не в том, что сам сумел совершить?
Его стыд ещё не прошел, но уже становилось неловко, что он, нечаянно вызвав острую боль, расшевелил этот рой самовлюбленных воспоминаний. Он от души пожалел о старом поэте, который нечувствительно пережил довольно громкую известность свою, не накопив в себе мужества молча и с гордостью сносить неминуемое горе забвения.
Он пожалел и себя, до сих пор не свершившего то, о чем пылко мечталось в пылкие годы, пожалел обреченного, как и князь, на забвение, и голос его потеплел, так что он успел уловить, насколько искренна его теплота, лишь тогда, когда осознал, что сердечная теплота пришлась очень кстати, и поспешил усилить её:
– Вот я и прошу вас, именно вас, Петр Андреевич: посоветуйте, что мне с повестью делать…
С недоумением, сожалея, пристально поглядев на него близоруким немигающим взглядом, князь перебил, ещё не совсем, должно быть, воротившись из сладкого мира воспоминаний, вдохновенным, взволнованным голосом, уже не поэта, но должностного лица:
– Позвольте, позвольте, Иван Александрович, о ком, о чем я должен посоветовать вам?
Вяло сложив на большом животе похолодевшие руки, равнодушно глядя князю мимо плеча, он ответил неожиданно веско:
– Об очень талантливом человеке прошу вас, ваше сиятельство, о глубоком и тонком художнике прошу вас.
Князь другим, быстрым, решительным шагом воротился к столу, постоял, опираясь об угол рукой, нехотя вопрошая вдруг потускневшим, пониженным голосом:
– Глубокий художник? Редкий талант?
Он угадывал недобрые чувства по звукам тусклого голоса и тотчас припомнил, как однажды добродушный, однако злоязычный Тургенев назвал Вяземского, в самом тесном кругу, легкомысленным престарелым лакеем.
Шевельнулось в душе опасение, как бы обидчивый князь, до слуха которого, очень возможно, кто-нибудь докатил эти слова, не взялся сводить счеты с молодым, отринувшим его поколением, отомстив хотя бы одному из задиристых его представителей.
Нужно было словно бы невзначай что-нибудь постороннее обронить, чем-то отвлечь, рассеять сомнения, но он вдруг с той же жесткостью подтвердил:
– Несомненно, талантливый и глубокий.
Сев неожиданно боком, уставив локоть на поручень спокойного кресла, обиженно сжавшись, князь гневно отверг:
– Ну – нет!
Не желая впутываться в бессмысленный спор, понимая, что совершенно бессмысленный спор уже начался, так неуместно и глупо, он поспешил возразить, спокойно глядя князю в раскрасневшееся лицо:
– В последние годы Тургенева общий голос ставит на первое место в нашей литературе.
Князь опять повернулся, достал табакерку полированной черепаховой кости с изумрудной, ясно сверкнувшей звездой, нервными пальцами взял небольшую понюшку, глубоко втянул зеленоватый табак, сдвинул мучительно брови, сморщился, но не чихнул, вздохнул судорожно и резко заговорил:
– Тем хуже для общего голоса! Ваша литература потеряла высокое назначение. Ваша литература превратилась в следственную комиссию низших инстанций, а литераторы ваши обратились в урядников, в становых. Литераторы ваши выслеживают злоупотребления низших чиновников и доносят на них читающей публике, надеясь вместе с тем, что их рапорты дойдут до начальства.
Опасения оправдывались. Ему предстояло выслушать, ни с того ни с сего, громкий, может быть, верный, однако никчемный, пустой монолог, к чему, для чего? Он кашлянул, открыл было рот, намереваясь сказать, что бездарные обличители не составляют литературы и по таким обличителям нельзя судить остальных, да князь остановил его властным жестом руки и, всё более темнея лицом, сумрачно глядя остановившимся взглядом, веско, значительно продолжал:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































