Текст книги "Отпуск"
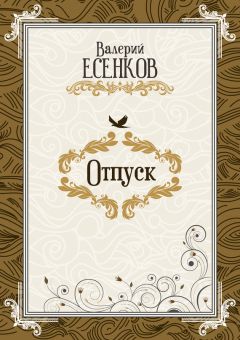
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Ваше направление подобными слепками с живой, но низкой натуры низводит авторство до механической фотографии, не развивает высших творческих силы, какие были у нас, а покровительствуют, вольно или невольно, посредственности, ничтожности дарования и отклоняют словесность с путей, пробитых Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, мной наконец, если позволите причислить меня к тем великим, с которыми рука об руку совершался мой путь.
Он позволил коротким кивком головы. Его злило, что из этих затейливых дебрей выбраться на тропинку к нужному делу почти возможности нет. Сцепив пальцы, потягивая их, точно пытался их расцепить, он с самым искренним равнодушием высказал свое задушевное убеждение:
– Что делать, ваше сиятельство, но и в этом, должно быть, есть воля Промысла, о котором вы говорили. Со времени гоголя русская беллетристика следует по пути отрицания в своих приемах верного изображения жизни, и неизвестно ещё, когда ей суждено с этого пути сойти, да и сойдет ли она, да и должна ли сходить. Ведь только последний обскурант отважится утверждать, что отрицание в искусстве положительно вредит государственным интересам.
Князь громко чихнул, прикрываясь батистовым голубоватым платочком, убрал табакерку в карман, высоко поднимая плечи, и нерешительно согласился:
– Да, разумеется, я понимаю, что ваше направление неудовлетворительно только в смысле художественном, так сказать, эстетическом, однако опасности для правительства в этом направлении я решительно не нахожу никакой.
Предполагая, что у князя вдруг заговорила душа либерала, душа декабриста без декабря, как говорили о Вяземском, кто серьезно, кто иронически, кто беззлобно смеясь, заслыша слабый шорох надежды, он шумно завозился в своем тесном кресле для посетителей и вдруг взглянул князю решительно прямо в глаза, устремленные на него всё ещё с возмущенным недоумением.
И князь заключил, немного сбиваясь в словах:
– Опираясь на поддержку народа, наше правительство поколебать невозможно, никакие литературные обличения ему не страшны.
Он так и вцепился в эти слова, которые подсказывали ему, что его минута настала, что он должен воспользоваться этой краткой минутой без промедления и одним ударом вырвать победу, потому что, учитывая непостоянство характера князя и его склонность к капризам, другой подобной минуты могло и не быть.
Нервы его напряглись, лицо, застыв, побледнело, но он отчетливо представлял, что надо делать, что и как должно сказать, в каком направлении и какими глазами глядеть, и только боялся всё испортить своей торопливостью.
И потому он довольно долго сонливо молчал, испытывая слабое терпение князя, чтобы внезапно ошеломить и тут же вырвать согласие, и вымолвил наконец с напускным равнодушием, растопырив пальцы перед собой, разглядывая надутые вены руки:
– Вот я и говорю вам, ваше сиятельство, что в повестушке господина Тургенева предосудительного, тем более опасного для правительства, сильного, как вы изволили выразиться, поддержкой народа, невозможно найти ничего.
Он выдержал новую паузу, медленно поглаживая согнутым пальцем висок, и вдруг, опустив руку, открывая лицо, поворотившись всем телом, снова тяжело и пристально посмотрел князю прямо в глаза, вызывающе подчеркнув:
– Больше того…
И увидел, как разгладилось и поумнело у князя лицо, как живое любопытство проснулось в глазах, как в иронической тонкой улыбке двинулся рот, и подался к князю всем телом, больно навалившись животом на округленный конец ручки кресла, и громко, с убеждением, настойчиво, не оставляя возможности в чем-нибудь сомневаться, обстоятельно изъяснил:
– … повесть однажды появилась в печати, публике она довольно известна. Таким образом, отсутствие её в собрании сочинений господина Тургенева будет замечено всеми, а это может вызвать к повести повышенный и вряд ли здоровый интерес. В повести станут искать, чего нет, и в самом деле найдут и обвинят правительство в деспотизме и в глупости, можете, ваше сиятельство, в этом не сомневаться. Осмелюсь утверждать, что подобное отношение к повести окажется без сомнения вредным в государственном отношении.
Князь одобрительно улыбнулся и дрогнувшим голосом, выдававшим его беспокойство, властно и слишком поспешно спросил:
– А что думает по этому поводу граф Мусин-Пушкин?
Угадав, что настало время польстить, чтобы окончательно выиграть дело, он польстил без зазрения совести, тоже с мягкой улыбкой сказав:
– Граф Мусин-Пушкин об этом пока не думает ничего, и, чтобы устранить все препятствия к публикации повести, могущие возникнуть с его стороны, ему довольно было бы знать личное мнение вашего сиятельства.
Склонившись низко к столу, передвинув толстую папку с бумагами, осторожно водрузив двумя руками очки, князь наконец согласился, должно быть, сознав, что в этом щекотливом, двусмысленном положении обязан и может поступить справедливо:
– Хорошо, я буду ждать от вас официального отношения.
Что, игра была почти сделана, облегченно вздохнув, он откинулся в кресле, вытягиваясь удобней, насколько позволяли приличия. Оставалось только не доводить до официальных бумаг, которым необходима официальная резолюция. Добродетель всегда хороша, идет ли она от светлого человеческого начала в душе, вызывается ли сознанием долга, диктуется ли человеку законом, однако в идущей от светлого человеческого начала есть ненарушимая прочность, есть прелесть и теплота, тогда как втесненная сознанием долга как-то суха и хрупка, точно милостыня, точно сквозь зубы, и когда князь, осторожный и непрактичный, добродетельный по сознанию долга, столкнется с множеством трудностей, натягиваясь в своей резолюции соблюсти строгую букву несколько разноречивых цензурных распоряжений и свою добродетель, вокруг повести и вокруг имени цензора неотвратимо завертится такая ужасная волокита, из которой можно не выбраться никогда.
Он прикрыл апатично глаза и напомнил с холодной официальностью:
– С форменным отношением я обязан обратиться непосредственно к графу.
Князь для чего-то придвинул папку к себе, неловко раскрыл, не тотчас ухвативши за край, и вдруг, усмешливо взглянув на него, легким светским тоном спросил:
– И у вас, разумеется, на этот случай нечто готово?
И он тотчас с пониманием улыбнулся, также непринужденно переменяя свой тон, и всё казенное мгновенно слетело, всё должно было выглядеть по-приятельски просто, и он предложил как будто беспечно, с изящной светской любезностью, точно тоже был князь:
– Мне представляется, Петр Андреевич, что будет удобнее, если вы получите частное письмо от Ивана Сергеевича и, сославшись на это, как-нибудь скажете графу несколько слов, которые вас не будут обязывать ни к чему. Этого, без сомнения, станет довольно.
Выхватив из папки бумагу, держа её на весу, блестя из-под очков умными глазами, князь от души рассмеялся:
– Вот почему, любезнейший Иван Александрович, всегда так приятно работать именно с вами.
Он вежливо рассмеялся в ответ:
– Весь к вашим услугам, ваше сиятельство.
Князь смерил его понимающим, пронзительным взглядом:
– Отлично, я более вас не держу.
Он устало поднялся, отвесил официальный поклон и с удовольствием вышел из кабинета размеренной апатичной походкой, в душе смеясь над собой.
Он выиграл эту игру и, разумеется, был вполне доволен собой: он победил, а победа всегда есть победа, даже если одержана в бабки.
И губы шевелились в полуулыбке, однако истинную цену этой победе он тоже знал, и у него было чувство, что он сделал если не гадость, то глупость.
Нет, он спасал не только себя, он от чистого сердца желал помочь товарищу по перу, но не слышал в столь прекрасном поступке ни прелести, ни тепла. И прелесть и тепло должны были быть, однако словно бы растворились в этом вынужденном, абсолютно необходимом лукавстве, без которого не удалось бы спасти ни себя, ни «Муму».
Вот из таких-то побед и состояла вся его жизнь.
В победах этого рода таилось его оправданьем, но копилась и отравляла горечь, оседая в душе. Вспоминая о них, он надеялся утешить себя, а в них тлел ядовитый упрек. Вот на что он растрачивал силу психолога, вот на что истощал поразительный дар проникать в затаенные мысли, в сокрытые чувства людей, в их истинные наклонности, в их устремления, добрые, а чаще вовсе не добрые, хоть и не злые! И подобные малости ещё льстили его самолюбию, и он ещё размышлял, явилась ли эта малость исполнением служебного долга или истекала из светлого начала в душе, и смел переживать эту канцелярскую ловкость точно победу!
Уж не потому ли он и остается на службе, столь обременительной для него?..
Всё же глупость, всё пустяки…
А «Обломов» ещё не написан!
Глава пятнадцатая
«Молчание господина Гончарова»
Иван Александрович ударил стиснутым кулаком о поручень кресла. Ему сделалось больно. Он вскочил на ноги, ушибленную руку сунул, болезненно морщась, под мышку, и стал неуклюже сновать в темноте, огибая лишнюю мебель: простора, простора хотелось ему.
Его ломало жестокое отвращение. Он презирал, он до судорог ненавидел себя, до спазм в пересохшем сдавленном горле, дивясь, как мог ещё жить, он, этой забавой в бирюльки так просто, так глупо загубивший себя, утешавший себя пустяками, тогда как «Обломов» не был написан!
Что он за ничтожество, что он за дрянь, если оказался способен себя загубить!
Черный праздничный фрак теснил его толстую спину, мешал движениям рук, неловко трепетали и шлепали длинные фалды, цепляясь за стулья и за столы, ночная сорочка путалась в коротковатых, тоже толстых ногах.
Он со всех сторон ощущал себя скованным, сдавленным, но всё не догадывался освободиться от фрака, думая о другой тесноте, давившей его, и в беспросветном отчаянии представлялось ему, что это его душевная малость и брезгливое отношение ко всему выступают наружу, так что надо было избавиться от себя, от убожества жизни, от пошлости микроскопически будничных дел, чтобы не мучило, не давило его, однако же как это сделать, какие геркулесовы силы, какое чудо призвать?
Так он метался от стены до стены, пока не стал выбиваться из сил. Густая испарина выступала на лбу. Тело, покрытое потом, зудело. Во рту пересохло. Хотелось мучительно пить.
Он добрался до кухни, выпил залпом целый ковш холодной воды и долго возился с небольшим самоваром. Наконец сухая, тонко наколотая лучина изволила разгореться. Он набросал сверху углей и наставил трубу, и тотчас в трубе загудело сердитое пламя, а снизу, сквозь узорные прорези поддувала, затрепетал неземными глазами огонь.
Опустившись на низенькую скамейку, он обхватил руками колени, точно озяб, и видел эти огненные глаза, слышал гуденье в железной трубе, затем крутое урчание кипятка, но было не до гуденья в трубе, не до поспевшего самовара, всё это точно бы не касалось его.
Сидя так, бесчувственно, неподвижно, он боролся с безысходным отчаяньем.
Его не в первый раз крутила хандра. Он давно уж по опыту знал, что она не продержится долго, если не поддаться темной её ворожбе, если упрямо противостоять её наговорам, несмотря ни на что, сумев выдержать первый, самый немилосердный, самый жуткий натиск её, а для этого лучше было не думать о том, откуда явилась она, какие её породили причины, не анализировать, не размышлять.
Однако всё продолжало думать о книге, которая гнездилась в воспаленной душе, в её самом светлом начале, а родиться не хотела никак, никак не могла, и об этом несчастье невозможно было забыть, невозможно было не думать, не размышлять, и он гнал от себя эти грозные мысли и упорно думал о том, что думать об этом нельзя.
В самоваре сердито забулькало, заклокотало. Он наконец услыхал, всполошась, замотался по кухне, впопыхах отыскал банку с чаем, которую Федор загромоздил какими-то деревенскими крупами, по деревенской привычке любимыми им, всыпал щедрую горсть в голубой фарфоровый чайник и наполовину залил крутым кипятком, через минуту долил до верха, перелив через край, поставил чайник на стол, прикрыл сухим полотенцем и тут же забыл и о чайнике, и о том, что хотел пить.
Хандра теряла первую, только что не смертельную крепость своего ядовитого смрада. Растерзать себя в клочья уже переставало хотеться. Он всё ещё почитал себя дрянью, заморочившей себе жизнь черт знает чем, однако на место презрительной ненависти явилось гнетущее сожаление. Теперь именно сожаление настойчиво, глухо грызло его. И грызню он тоже изучил хорошо. У этой напасти тоже имелся свой норов: она могла две-три недели копошиться в душе, медленно добивая её, беря на измор. Он приучился переносить и её, как осеннюю непогоду с низкими тучами, с моросящим дождем, когда всё бывает нехорошо, но в этом виноваты не люди, не служба, не тупое перо, а сама же осенняя непогода, слякоть, низкое небо и дождь. Он настойчиво повторял, что сложилась, так устроилась жизнь, что могло быть значительно хуже. Он мирил себя с мыслью о том, что «Обломов» пока не написан и что если так никогда и не будет написан, так от этой беды потеряет лишь он, а всем прочим что с гуся вода.
Теперь ощущение реальности стало отчетливей. Иван Александрович наполнил большую синюю чашку дымящимся чаем. Вода, которая пошла на заварку, должно быть, сильно перекипела, чай был горьковат, однако же он, сильно дуя, чтобы поскорей остудить, жадно пил и старался испытать наслаждение.
Наслаждения все-таки не было, но постепенно, толчками благодатный напиток успокаивал чересчур напряженные нервы. Уже слабее и глуше грызла привязчивая тоска. Уже он чувствовал только, что ему неловко с собой, вот точно бы надоело видеть себя, как надоедать видеть опостылевшую жену, надоело неотвязно размышлять о себе, возиться с собой. Всего бы лучше одеться да на прогулку пойти, так нет, поздняя ночь стояла в разгаре, и по этой причине приходилось переносить терпеливо себя и, забившись в свое одиночество, молча стенать.
Он выпил и вторую полную чашку, аккуратно ополоснул её, досуха вытер кухонным полотенцем, которые менял собственноручно через неделю, не то Федор перетирал бы посуду какой-нибудь сальной замызганной тряпкой, поставил на место в буфет, вытряхнул влажные комья заварки, пахнувшие словно бы сеном, закрыл трубу самовара медной заглушкой и неторопливо воротился к себе в кабинет, хотя не хотелось возвращаться туда, а шел потому, что нельзя было оставаться на кухне, и выходило, что надо идти.
Мечтая с терпением возделать себя, раздуть и развить в себе светлое начало души, которое у каждого есть, потому что каждый из нас человек, для того и принял долг службы, что рассчитывал этим искусом укрепить и возвысить себя, уверяя, что долг – это одоление, труд и борьба, но если одоление, труд и борьба, возможно ли непрестанно чувствовать это начало и непрестанно им наслаждаться в себе? Да и существует ли на земле человек, который любил бы добро за его безусловную красоту и который был бы честен, добр, справедлив просто так, вовсе даром, без расчета на то, что ему на добро ответят добром?
Свеча, догорев, оплыла, светильня плавала в расплавленном воске, последний огонь беспомощно прыгал на её торчавшем кверху черном витке, непрерывно дрожа, собираясь угаснуть, наполняя воздух дымом и запахом гари.
Он вывернул другую свечу из шандала, приготовленного на случай ночного труда, и попытался ей засветить от умиравшего огонька, но его движения были неловки, он промахивался несколько раз, суровая необожженная нить дымила, трещала и не желала светить.
Тогда в раздражении он вплотную приблизил свечу к остаткам огня. Слабо догоравший фитиль утонул с легким треском в маслянистой лужице воска. Стало темно. Луна начинала тускнеть. Неполный диск её передвинулся в незадернутом голом окне и холодно, без любопытства глядел теперь справа. Стены едва выступали из черноты. На ковре же лунные полосы стали длиннее. Что-то припомнилось… да…
Его поразило, что картина была точно та, как тогда, то есть серебристые полосы, лежавшие на полу, и полная ночь.
Разве что был он в ту ночь не один…
Тем поздним вечером Иван Сергеевич сидел у него, и дорожки лунного света передвигались, подкрадывались к огромным ногам, и тот…
Да, Иван Сергеевич умел избавлять от хандры, никого другого он не хотел бы увидеть сейчас, но так получилось, что нынче и Тургенев был от него далеко.
Иван Александрович опустился в свое тогдашнее кресло, ощущая, что хандра сменялась ласковой грустью, словно желая с помощью этого именно кресла возвратиться в тот вечер, наполненный душевным теплом. Жгучие слезы наворачивались ему на глаза. Он морщился, не то улыбаясь, не то готовясь рыдать.
Уехавший друг оставался все-таки другом.
Притихнув, с томительным ожиданием погружаясь в прошедшие дни, он ухватился, торопливо и жадно, за эту дразнящую, тонкую, но обещавшую успокоение нить, чтобы поскорее вытянуть её до конца и попробовать спастись хоть прошедшим теплом от хандры.
Он обожал, он этого человека любил просто так. Он им восхищался, не требуя в ответ ни восхищения, ни любви. Он ему завидовал тайно, не желая ни в чем перенять его дар. И может быть по этой причине каждая встреча была удивительной, терпкой и странной, точно смешивались запах розы и запах полыни.
Полыни и розы… это всё был Тургенев…
Его Тургенев… такой далекий… такой близкий ему…
Осторожно, с опаской он мысленно возвратился к неподвижно сидевшему князю, избегая приступа новой хандры, вновь увидел понимающую улыбку и умный проницательный взгляд, и ему начинало становиться не по себе.
Тогда миновал он торопливо широкую лестницу, устланную дорогим ворсистым ковром, проскочил мимо седого швейцара с морщинистым исхудалым лицом, в молчании истукана стоявшего в красной ливрее, обшитой золотым галуном, принял шинель и запахнулся уже на ходу.
Ему стало спокойней, когда увидел тогдашнюю улицу, последнюю слякоть нехотя уходившей зимы, плохо прибранный тротуар и трусившего мимо извозчика с одиноким, сунувшим нос в воротник седоком. Он припомнил даже мелкие хлюпающие шажки двух молоденьких горничных в широких черных мантильях, спешивших с одинаковыми подержанными, плетенными из прутьев корзинами для белья на согнутой в локте руке. Он вновь расслышал обрывки их слов и короткий сдавленный смех.
И, странное дело, эти ненужные, абсолютно посторонние вздоры успокаивали лучше философских заклятий, которым он только что предавался, а всё отчего? Да всё оттого, что в микроскопических вздорах таилась своя чистейшая, своя тончайшая прелесть, точно они отдавали ему частицу тепла бесхитростной, безыскусственной жизни и были готовы хоть сей миг под перо.
В тот день он проследовал мимо них безучастно, скорей в его душу они сами вошли, против воли попав на глаза, однако теперь эти милые вздоры тихо ожили в нем, точно были причастны ему, точно были спаяны с ним воедино, и своим незатейливым шепотом длили тревожное ожидание той счастливой, значительной, знаменательной встречи.
Он подобрал под себя застывшие ноги и устроился поудобней, надолго. В отрадном безмолвии он упивался с какой-то стыдливой торжественностью прошлогодней волнующей встречей и урывками в то же время следил за таинственной работой сознания, каким именно образом перед его мысленным взором возникала вереница воспоминаний, уверенный в том, что и это для чего-то необходимо ему.
Он припомнил как-то само собой, без усилий и мук, как всё оглядывался по сторонам, ища глазами свободной кареты, как всё прибавлял и прибавлял в волнении шаг, торопясь попасть на Фонтанку. Он вдруг обнаружил смущенно, что он, всем известный рассудительный тихоход, с сонным видом свершающий каждодневный, самим себе предписанный моцион, почти бегом миновал несколько улиц, Аничков мост и трижды сильно, настойчиво дернул испуганно заверещавший звонок.
Из дверей на него прищурился недовольный Иван:
– Барина нету-с.
Он спросил чуть не униженно, ласково, почти вплотную приблизившись к заспанному лицу:
– Не скажешь, голубчик, где его можно застать?
Иван, стоя перед ним, по привычке своей, босиком, укоризненно возразил:
– Не изволили-с доложить-с.
Он побежал наугад, прикидывая в уме, куда бы мог в этот час запропаститься Тургенев. Лица прохожих казались недоброжелательно хмуры. Неприятно коробилась под ногами застывавшая к вечеру грязь. Он боялся, что не поспеет нынче же поделиться так изобретательно завоеванной радостью, ощущая, как радость уже проходила, бледнела, должно быть, оттого, что не с кем её разделить.
Ему наконец попался извозчик, и, жадно втиснувшись на холодные подушки сиденья, он погонял ворчливыми окриками и злился на неповоротливую понурую спину, истуканом сидевшую перед ним.
Иван Сергеевич нашелся у Демута. В ответ на усталый, почти уже безразличный вопрос широкий рыхлый швейцар с дежурной улыбкой на мягком мучнистом лице почтительно доложил:
– Они здесь… направо… подальше в углу-с…
Поспешно сбросив шинель, едва ступив на красное истоптанное сукно, ведущее в зал, ещё не различая стертых расстоянием лиц, он с легким трепетом ощутил, что сию минуту увидит его, и к нему воротилась радость победы, уже не казавшейся вздором, и глаза его сдержанно улыбались, он это знал.
Иван Сергеевич сидел одиноко за белым столом, склонив громадную голову, держа перед собой большие, точно бы грустные руки.
В нем так и дрогнули нервы, когда он молча опустился напротив. Ему хотелось крепко обнять затужившего великана, засмеяться беззаботно, легко, в вечной дружбе поклясться, в вечной любви и развеять его и вместе свое одиночество, однако он привык осмотрительно прятать свои добрые чувства, исходившие именно из светлого человеческого начала, но отчего-то всегда непонятные людям, к тому же ему самому легкомысленное желание давать клятвы и бросаться публично на шею представлялось слишком комическим и оттого невозможным, как это было ни жаль, и он застыдился его.
Напускная ворчливая вялость всегдашнего тона вдруг прозвучала натянуто, словно бы театрально:
– Вас… нигде не видать…
Должно быть, расслышав, что с ним говорят, Иван Сергеевич наконец увидел его и нехотя поднял глаза. Глаза были глубокие, добрые, синие, а владелец их выглядел светским, скучающим, чопорным, глаза же глядели задумчиво мимо, и тихий голос прозвучал принужденно:
– Мог ли я это предвидеть?
Откидываясь назад, цепко ухватясь безотчетной рукой за сиденье, он взглянул на Ивана Сергеевича с боязливым обидчивым недоумением, невольно на свой счет принимая и его светскую чопорность, и неловкость, и представилось отчего-то, что Ивану Сергеевичу, поникшему, опечаленному, не хочется видеть его, что Иван Сергеевич не испытывает к нему истинно дружеских чувств и своим светским скучающим видом отделывается от докучливого вторжения, однако он убедился давно, что Иван Сергеевич мягок, деликатен и до крайности добр по натуре, что Иван Сергеевич прекрасно воспитан и вежлив, что Иван Сергеевич подолгу терпел возле себя всякого рода назойливых, прямо бестактных людей, не умея выставить вон, молча страдая от них.
Скорей уж он сам поступает бестактно, навязываясь при посторонних в друзья к очень далекому от него человеку, с которым, застенчиво укрывая свои нежные чувства к нему, старался пореже встречаться, однако ж печальные мысли перебивались другими, и он торопился понять, чем озабочен, даже расстроен Тургенев и не лучше ли встать и уйти.
Радость потухла. Он выдавил не своим, а каким-то гадостным баритоном:
– Прос-ти-те…
Резко вскинув громадную голову, взбросив болтавшийся на шелковом черном шнурке двойной, в черепаховой оправе лорнет к небольшим близоруким глазам, Тургенев смутился, видимо, откровенно краснея всем своим широким лицом до самых ушей, и высоким взвизгнувшим голосом умоляюще, чуть не плача забормотал:
Нет, это вы простите меня… Я думал совсем о другом… Вы знаете…это решительно невозможно… Я рад видеть вас… Чет знает что творится со мной, точно во сне. Простите великодушно меня.
Сам постоянный притворщик, мистификатор, искусный игрок в умолчание, сонливость и рассеянный вид, он безошибочно различал чужую искренность и чужую игру, и смущение Ивана Сергеевича показалось ему натуральным.
Тотчас поверив, что Иван Сергеевич рад его видеть, он чуть было не улыбнулся открыто, от чистого сердца, но улыбнуться так не сумел, смущенье ли, осторожность ли помешали ему, только он ворчливо изрек:
– Не извиняйтесь, я ведь не женщина.
И тем же ворчливым бесчувственным тоном пересказал удачную выдумку с князем.
Широко улыбнувшись, весь просияв, Иван Сергеевич по-мальчишески звонко сказал:
– Спасибо, голубчик, постараюсь вам заслужить… да-да…
Растаяв от его чистых искренних слов, ради удовольствия слышать которые и мчался сюда, он чуть повернулся, пригнув голову так, чтобы на лицо, сквозь маску которого пятнами начал пробиваться румянец, на обнаженные благодарные глаза упала защитная тень, и с ласковой грубоватостью проворчал:
– Полно вам… дипломат…
Не обращая внимания на его притворную воркотню, одарив его новой широкой улыбкой, Иван Сергеевич бросил лорнет, закачавшийся на шнурке, извлек из кармана пенсне и одним изящным движением большой красивой руки водрузил на большой львиный нос овальные стеклышки, взгляд сквозь которые сделался пристальным, изучающим, озорным, мягкие губы вновь улыбнулись, в улыбке светились доброта и лукавство. Покачав головой, Иван Сергеевич заговорил восхищенно:
– Однако, доложу вам, с вами в карты не садись.
Ещё старательней пряча лицо, будто с интересом разглядывая свои небольшие, но пухлые, ни в чем не повинные руки, уверенный в том, что именно этот изумительный человек способен во всей тонкости оценить его восхитительную увертку, придуманную именно для того, чтобы спасти от запрета ту печальную, сильную, мастерски стройную вещь, которую читал и перечитывал с завистливым восхищением, давно ожидая подобного комплимента, он тотчас размяк и за одно мимолетное одобрение этого простодушного великана готов был без оглядки отдать хоть последние деньги, хоть всю свою глупую, неудачную жизнь. Однако сказал, хохотнув, не о том:
– И прекрасно сделаете, если не сядете. Я же оттого не играю совсем, что нервы вскипают до бешенства, оставляют без головы, так что спустил бы я вам всё моё достояние.
Иван Сергеевич расхохотался заливисто, благодушно, склоняя огромную голову набок, роняя пенсне, так что стекла сверкнули змеей и тоже закачались на черном шнурке, а глаза сделались синими-синими, и высокий голос беззаботно звенел:
– Проиграете, как же, да вы зарежете без ножа!
Не выдержав наконец, он улыбнулся, но все-таки улыбнулся одними глазами.
Оглаживая бороду, Иван Сергеевич хохотал, не в силах или не желая остановиться.
Дородный лакей в перепоясанной белой рубахе суетливо подал обед.
Они ели, пили вино, перебрасывались пустыми словами и беззлобными шутками.
Иван Сергеевич простодушно, с искренней благодарностью поглядывал на него из-под мягкой пряди волос, беспрестанно падавшей на глаза.
Он им любовался исподтишка.
Громадная мощная голова. Высокий светлый морщинистый лоб. Мягкая линия рта под густой бородой и усами. Добрый прямой нерешительный нос. Начинавшая сидеть волнистая грива длинных волос. Задумчивый пристальный взгляд глубоко сидящих, усталых, тоскующих глаз. Иван Сергеевич как-то странно и явственно походил на несчастного льва. Умолкая внезапно, точно проваливаясь куда-то, уходил вдруг в себя, глядя беспомощными глазами перед собой, точно покончил все счеты с жизнью или много сомнений, много забот и утаенного страшного горя навалилось на бессильную душу, гасило глаза и сурово углубляло морщины на сумрачном лбу. В такие мгновения становилось жалко его, хотелось протянуть по-дружески руку, приласкать, обогреть. Однако же он, исподлобья бросив неопределенный, будто рассеянный взгляд, по привычке ворчал, недовольный собой:
– Счастливый вы человек…аппетит у вас, аппетит… а мне доктора не велят…
Вздрагивая большим рыхлым телом, испуганно взглядывая испуганными глазами, Тургенев просил:
– Сплюньте, Иван Александрович, ради Христа, не то ночью схватит опять несваренье… ничего мне нельзя… один куриный бульон, хлебца кусок… тоже всё доктора… да вот… где уж нам, грешным, следить за собой… чай, не английский народ.
Покончив с обедом, они поднялись.
Иван Сергеевич шагал впереди. Исполинский рост нисколько не портил его. Иван Сергеевич был прекрасно сложен. Обыкновенный темного цвета сюртук с изысканной простотой облекал его тело, так что было приятно смотреть.
Слава Тургенева входила в зенит, многие переглядывались, поднимали лорнеты, указывали восторженными глазами на нового маршала русской литературы, а Иван Сергеевич ёжился, клонил застенчиво голову, торопился уйти.
Глядя несколько сбоку и сзади на его застенчиво склоненную голову, на могучую спину и красивую гриву длинных волос, он томился от нежной любви, от невольно проснувшейся зависти к неприметно, легко преуспевшему другу. Казалось, таился в безвестности ещё того дня, а теперь…
Уже надвинулись синие сумерки. Бледная луна поднималась из-за почернелых домов.
Иван Сергеевич вымолвил сокрушенно, всей грудью вдохнув вечерний подмороженный пронзительный воздух:
– Славно-то как, хорошо!
И оба топтались на месте, не решаясь проститься, натягивая нерасторопно перчатки.
Он подумал, сутулясь, что дома его ожидает пустой томительный вечер. Иван Сергеевич вдруг закончил вместо него:
– А дома грызи свое одиночество…
Содрогнувшись невольно, не ожидая, чтобы Тургенев так искренне, просто, и с того ни с сего выказал перед ним накипевшую боль, о которой он догадался давно, сам этой болью болея, но которую никому доверить не мог, он ощутил весь ужас своего запустения, пальцы путались, не лезли в перчатку, он сердито дергал её, видя, как указательный палец упрямо лезет на место большого, но не умея сообразить, что надо сделать, чтобы они поменялись местами и перчатка наделась как следует.
Он тосковал по настоящему другу. Он жаждал участия, понимания, теплоты. Он двадцать лет дожидался сердечного слова и всё ещё верил, как встарь, что одно такое сердечное слово могло озарить его серую, скудную, скучную жизнь, однако чем дальше, тем больше страшась что уже никогда не услышит его.
Иван Сергеевич ёжился зябко, поднимал воротник, угрюмо молчал, глядя в сторону беспомощными глазами.
И он тронул его за рукав:
– Пойдемте, Тургенев, ко мне.
Иван Сергеевич повернулся, затопал, вгляделся в него. По большому лицу пролегла какая-то мрачная тень. Зябко, сдержанно, глухо прозвучал тонкий, отчего-то надтреснутый голос:
– С удовольствием… к вашим услугам…
И они поворотили к Литейному, не сговорившись пешком, словно бы поначалу стесняясь остаться друг с другом наедине. В куче прохожих, должно быть, им пока было легче вдвоем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































