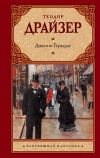Текст книги "Отпуск"
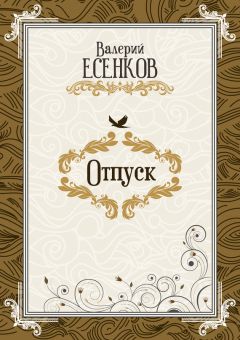
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Взмахивая правой рукой, не прикасаясь больше к интимному, Иван Сергеевич философствовал с безропотной грустью:
– Всё проходит… и что может быть непреложного, неизменного в нашей бренной, быстро пролетающей жизни?..
На ходу говорить с ним было почти невозможно: Иван Сергеевич делал свой обычный мерный размашистый шаг и конец фразы уносил безвозвратно с собой.
Они поневоле стали молчать.
Зажигались один за другим фонари. Прохожих становилось всё больше.
Они прибавили шагу, хотя идти в толпе стало трудней.
Широко свалив на руки Федору шубу, Иван Сергеевич бесшумно и стройно прошел в кабинет и с медлительным барским изяществом опустился не глядя в самое удобное кресло, едва не развалив своей непомерной громадой просторную старую мебель.
Торопливо садясь, он отдал распоряжение почтительно застывшему Федору, всё ещё с шубой в руках, сам придвинул ближе к гостю низенький столик, как-то боком расположился напротив, любезно предложил самую светлую из сигар, позабыв, что Иван Сергеевич не завел привычки курить, и, смутившись, умолк.
Иван Сергеевич подался к нему, внезапно возвращаясь к полузабытой ресторанной беседе:
– Ещё раз благодарю вас, голубчик, за милую шутку с этим, как его, с Вяземским, да и с Мусиным-Пушкиным тоже.
Он серьезным тоном прервал, прикрывая глаза:
– Не будем больше об этом.
Иван Сергеевич согласно кивнул, и волосы мягкими крыльями упали ему на глаза.
Федор явился с подносом в могучих руках, торжественно выставив их далеко вперед и неловко, с почтительным взглядом, обращенным к Тургеневу, с довольной улыбкой на широких обвислых влажных губах.
Вспомнив наконец, что он в этом доме хозяин, язвительно глядя на разомлевшего от почтения Федора, который учуял прирожденного барина своим верным деревенским чутьем, он стал увереннее в себе, сел попрямей и словно бы даже развязней, сам налил кофе в китайские тонкие чашки, придвинул свежие сливки, печенье и сахар и мягко спросил:
– Вам сколько, Тургенев?
Мечтательно потянувшись, Иван Сергеевич отозвался с тихой прозрачной улыбкой:
– Очень сладкий люблю.
И вдруг представился избалованным милым ребенком, и страстно, весело захотелось понянчить, побаловать простодушного великана, и он чуть иронично спросил:
– Значит, четыре?
Склонив голову набок, Иван Сергеевич словно бы с сожалением протянул:
– Пожалуй, довольно и трех…
Он бросил в чашку Тургенева три, довольный, что размашистый Федор колол сахар ленивой и потому щедрой рукой, сам размешал и сам же, шутливо разыгрывая галантного маркиза прошедших времен, подал гостю полную чашку, однако чашка от его возбуждения задрожала в руке, и черная капля торопливо сползла по синевато-белому боку.
Сконфуженно глядя на черную полосу, оскорбившую синевато-белое поле, он жадно глотал горький кофе, обжигаясь, давясь, позабыв про сахар и сливки.
Иван Сергеевич сделал маленький осторожный глоток, чуть придержал и наконец проглотил, удовлетворенно причмокнув большими губами:
– Отличнейший кофе у вас.
Застенчиво улыбнувшись, он подтвердил:
– Мокко, настоящий, меня не обманешь.
У Ивана Сергеевича, очищаясь, светлея, оттаивали голубые глаза, глубокая грусть уходила из них, почти неприметно застывая где-то на дне. Иван Сергеевич, оглядываясь, улыбаясь чему-то, держа перед широкой грудью чашку и блюдце в обеих руках, пришепетывая, с удивлением похвалил:
– Да, Иван Александрович, вы умеете жить.
Совершенно сконфузясь, он забыл прикрыться всегдашней добродушной ворчливостью, и голос неожиданно прозвучал с естественной простотой:
– Люблю хорошие вещи, в конце концов они дешевле плохих.
Сделав побольше глоток, сладко прищурив глаза, Иван Сергеевич произнес, размышляя:
– И вот ведь штука какая: семейства не имеется ни у меня, ни у вас, однако у вас всё получается хорошо, даже кофе, а у моего Ивана не допросишься чаю. Подает какую-то несусветную дрянь и с философским спокойствием уверяет, что эта дрянь полезна против желудка.
Он мялся и таял, вертя перед собой выпитую в два глотка чашку, и спешил оправдаться:
– С моим Федором тоже довольно хлопот, многие приходится закупать самому.
Иван Сергеевич взглянул на него, огорченно признался:
– А я не люблю магазинов и лавок, решительно не умею позаботиться о себе.
Подняв голову, откидываясь назад, он вопросительно поглядел на большого ребенка, именно этого свойства не понимая ни в нем, ни в других, и вдруг ощутил себя сильнее и тверже. От его замешательства почти не осталось следа, кроме теплого, задушевного тона, но и в нем, в его дружеском тоне, вдруг проскочила точно бы наставительная, отцовская нотка:
– Ну, в таком деле, я думаю, надобно быть решительно эгоистом. Ведь мы, если правду сказать, никому не нужны, кроме самих же себя. Кто о нас позаботится, если не мы?
Глаза Ивана Сергеевича глядели смущенно, голос тоскливо, виновато, протестующе прерывался:
– Может быть, всё же… однако худо быть человеку едину… Сдается, нам всем необходимо гнездо… семейный очаг, именно всем, чтобы заботиться о другом, чтобы не сгинуть… прежде времени, не обветшать…
Он угадал, нечаянно угадал, что без намерения задел за живое, и совестно стало, что бестактно обидел и растревожил одинокую душу, и сам ощутил ту несносную боль как свою, и стало противно от пошлой самодовольности своего нелепого высокомерного тона, каким превозносил свои мелкие житейские подвиги, и уверенность в себе заколебалась опять, и, подавшись вперед, он проникновенно сказал, с сердечной, искренней теплотой:
– Вам грустно нынче, Тургенев.
Иван Сергеевич разом весь ослабел, так что большое грузное тело безвольно, беспомощно навалилось на спинку, глаза потускнели, открытое лицо болезненно сжалось, высокий голос стал капризным, жеманным, точно у очень красивой, балованной женщины:
– Не только нынче мне грустно. Всё последнее время мной владеет какое-то тайное беспокойство. Последовательно заняться это беспокойство не позволяет ничем. В голове словно бродит серый осенний сумрачный дым. На сердце взволнованно, нелегко, словно идешь на последнюю встречу, когда любимая женщина должна объявить, что навсегда уходит к другому, что она разочаровалась в тебе. Перо из рук так и валится, точно чугунное. Смысла, толку не вижу ни в чем, даже в весне. Книги безучастно закрываю на первой странице. Мысли приходят всё о тяжелом, о страшном, всё больше о жестокой бренности бытия, о наступающей смерти. В одном ещё только спасенье: в Пушкине. Скажу строк двадцать, и снова живу.
Он знал, что слабости Иван Сергеевич поддавался легко, однако ему отчего-то представлялось всегда, что это скорее кокетство, соблазнительная, щекотавшая нервы игра, чем действительная, настоящая, природная слабость, которая валит без жалости с ног и долго не позволяет подняться с земли. Он даже угадывал, что в вопросах внутренней чести, в вопросах задушевных своих убеждений Иван Сергеевич непреклоннейший был человек и никакие посторонние силы, никакие просьбы, никакое движение не могли заставить добрейшего Ивана Сергеевича хоть на йоту отступиться от них, выводя из своих наблюдений, что стоическая непреклонность Ивана Сергеевича была строгой тайной для многих, вероятно, для всех, даже самых близких приятелей, какими считались Некрасов и Анненков, объявлявших его сговорчивым и безвольным, потому что крикливым ребяческим столкновениям Иван Сергеевич предпочитал дипломатически-вежливые увертки и умолчания, однако плохо приходилось тому, кто, не подозревая истинного смысла такого рода покладистых, простодушных уверток и умолчаний, рассчитывал на тургеневскую уступчивость и мягкотелость. Именно свойство в Иване Сергеевиче ему нравилось больше всего, но и больше всего настораживало. Он даже полюбовался с безобидной насмешкой картинно-расслабленной позой и подивился неподдельной искренности вдохновенной печали, которой поверить не мог.
Помолчав, он ответил с легкой иронией в тон, почти с тем же томным жеманством:
– Всё проходит, Тургенев, вы правы, так и это пройдет, как и всё.
Иван Сергеевич продолжал сидеть с опущенными плечами, точно разбитый параличом, однако тонкий голос становился натуральней и проще:
– Да, пожалуй, вы правы, и это пройдет, всё пройдет, решительно сё.
И вдруг признался с неожиданно хитроватой улыбкой:
– Такая беда уже приключалась со мной и проходила всегда.
Согласно и с облегчением качнув головой, он ласково предложил:
– В таком случае выпейте ещё чашечку кофе.
Иван Сергеевич чуть отшатнулся, отстранился рукой:
– Благодарю вас, благодарю, да лучше не надо. У меня от кофе нервы шалят. И дивные приключаются штуки. То внутри головы, то в затылке словно бы сдирается что-то. Или какие-то свирепые вилки выталкивают наружу глаза. А то являются привидения, представьте себе.
Не веря ушам, он пристально взглянул на Тургенева, уверенный в том, что тот лукавит, шутит над ним, но скорбное лицо Ивана Сергеевича оставалось серьезным и серые с синим глаза глядели с доверчивой прямотой. Теряясь в догадках, не зная, что и подумать, он воскликнул, не сдержав изумления:
– Как – привидения?!
Нисколько не переменившись в лице, Иван Сергеевич ответствовал так, точно сообщал о повседневных, обыденных, абсолютно заурядных вещах:
– Да вот как. Сижу я на днях у себя, ни о чем сверхъестественном не помышляю, ни во что сверхъестественное вообще никогда не верил, не верю и, надеюсь, уже не поверю. И вот входит женщина в коричневом платье. Постояла, сделала несколько шагов и исчезла.
Ошеломленный, однако же понимая в этот момент, что такого рода видение было так же невероятно, как и возможно, а глядя на спокойное лицо Ивана Сергеевича, на чистый искренний взгляд, не в силах не поверить ему, он с неожиданным интересом спросил:
– Вы испугались?
Иван Сергеевич ответил с непередаваемой простотой:
– Нет, нисколько, чего же пугаться? Я ведь знаю, что это галлюцинация, обман зрения, не больше того.
Окончательно поверив в эти чертовы привидения, он участливо и растерянно произнес:
– Ну, знаете, у меня тоже нервы, однако у вас черт знает что, не наделали бы они вам беды.
И только тут внезапно показалось ему, что такие чистые, такие невинные тургеневские глаза смотрят как будто лукаво. Он начал догадываться о чем-то, но не успел. Небрежно вертя кофейную чашку в большой красивой белой руке, Иван Сергеевич возразил деловито и совершенно покойно:
– Да полно вам, ничего. У меня против них имеется надежное средство. Я заметил: самое страшное страшно не так, если попытаться осмыслить его, разгадать. В таком случае всегда сохранишь хладнокровие.
Поставив чашку на стол, весь ушел в тесноватое кресло, почти прикрыв лицо большими коленями, выпиравшими вверх, как две колонны, и тонкий голос прозвучал как будто из глубины:
– Это, знаете ли, помогает даже от физической боли.
Он был до того ошарашен, что даже столь сумасбродная мысль и поманила его, и представлялась нелепой, однако Иван Сергеевич выглядывал из-за своих коленей-колонн с такой невозмутимой серьезностью, что он готов был поверить всему, и, надеясь отвлечься и возвратить себе трезвость рассудка, пошарил подле себя коробок. Под рукой его слабо стукнули спички. Он потянулся к ним осторожными пальцами, однако Иван Сергеевич поежился и попросил пришепетывая:
– Не надо, голубчик, посумерничаем, как бабы.
Пришепетыванием, желанием именно по-бабьи, по-деревенски посидеть в темноте он был сбит окончательно с толку, и уже в каждом слове чудилась какая-то умная, изысканная, утонченнейшая игра, какое-то виртуознейшее разыгрывание, что-то политично-двусмысленное, скоморошное, озорное, и неловко, стыдно, обидно было себя ощущать непонятливо-глупой мишенью чужого изощренного остроумия, с каким он и сам разыгрывал нередко других. Недовольный собой, он пожалел, что затащил к себе эту мудреную штучку, этого прикинувшегося невиннейшим простачка. В голове его кружилось недавнее “дипломат… дипломат…” Он всё вертел в руке коробок и лишь после затянувшегося молчания выдавил наконец, сам дивясь своему виноватому тону:
– Я… курить…
Иван Сергеевич хохотнул каким-то подозрительным смехом:
– Ах, да, пожалуйста, разумеется, я обыкновенный осел, что сам вам раньше не предложил.
Закурив, он не сразу дунул на спичку и при слабом свете её исподтишка взглянул на Тургенева, пытаясь определить по лицу и глазам, освещенным внезапно и потому не готовым лукавить, шутит ли милейший Иван Сергеевич, в своем ли уме или убежден в самом деле в непререкаемой истине изумительных странностей, в которых докторам разбираться подстать.
Спичка погасла. Он ничего не успел разглядеть. Желтая, как масло, луна пялилась круглым бессмысленным оком в окно, вечно не закрытое Федором. Призрачный свет, шевелясь, точно двигаясь, лежал на полу. Всё сущее представлялось полусерьезным от этого мертвого света, и неправильность тургеневского лица обернулось комической мордой сатира, однако слабо мерцающий взгляд был спокоен и тверд, между бровями темнели две сильные складки, рот уже не был безвольным и мягким, и под густыми усами угадывалась волевая ужимка крепких, но все-таки женственных губ. Он ощутил, как в один миг Иван Сергеевич отодвинулся от него, когда тот, помедлив, спросил:
– Хотите, я вам расскажу один случай со мной?
Обрадованный, ожидая, что теперь-то ему и откроется смысл тургеневского подвоха, он торопливо ответил:
– Расскажите, конечно.
Закинув голову, полуприкрыв глаза, Иван Сергеевич заговорил кругло и красиво, как будто писал у него на глазах страничку рассказа своих записок охотника, и тонкий голос звучал певуче и мягко:
– Как-то не задалась мне охота. Дичи не было. Собаки ленились. Денек серел неприглядно. Скука одолевала меня. Ермолай тоже повесил голову в своем малахае. Наконец решили мы воротиться домой и двинулись по направлению к бричке, которую оставили на опушке ольхового леса, на излучине тихой реки, у двух старых могучих берез. Небольшой дождь моросил. Мы шли молча, свесивши ружья. Вдруг я почувствовал сильный удар прямо в грудь, до такой степени неожиданный, что не только остановился, но отшатнулся. Громадный заяц бросился из-под кустов ивняка и немедля пустился стрелой наутек, по прямому от нас направлению. Когда он исчез, я опустил ружье и посмотрел на себя. Следы заячьей шкурки остались на полукафтане моем, а удар был так неожидан и жив, что я точно продолжал ощущать его силу. Молчанье прервал Ермолай: “Ну, Иван Сергеич, идемте скорей, нехорошо”. – “Да что же нехорошо?” – “Да уж идемте, примета плохая”. Мы быстро пошли по тропе сквозь кусты и минут через десять вышли к нашей потрепанной бричке, запряженной парой разномастных коней. Дорога шла подле реки. Дождь размочил колеи. Жердяк по канавкам подскакивал от колес. И что бы вы думали?..
Иван Сергеевич глядел выжидательно, удивленно, точно и сам не ведал ещё, что стряслось. Он тоже глядел и молчал, заранее веря, что стряслась чертовщина, иначе и быть не могло. Иван Сергеевич выждал и проговорил с торжеством:
– Бричка опрокинулась, и я сломал себе руку!
И, вдруг приподнявшись, сделал стремительный жест, словно бы падал и снова что-то ломал.
Он так и выпустил на крышку стола коробок, упавший со стуком. Ему до зависти нравилась эта манера изумительного рассказчика начинать из самого далека, неторопливо и постепенно нанизывая подробности, детали, штрихи, которые и сам любил подбирать словно семечко к семечку, складывая в тончайший узор, однако при этом добивался определенности, ясности, простоты, тогда как Тургенев умело морочил туманным, томительным ожиданием, так что в замысловатом, бесхитростном по виду повестовавании ему померещился вновь иной смысл, какой-то тайный, непременно злостный подвох, но Иван Сергеевич продолжал как ни в чем не бывало, увлеченно сплетая живописные нити:
– Представьте, верст пятнадцать до дома. Я пробовал поместиться в расшатанной бричке, да её трясло с неистовой силой утробного российского бездорожья, и боль в руке становилась невыносимой. Мне оставалось передвигаться пешком по разъезженным, расхлестанным колеям. Мой спутник подвязал мне руку платком, но и с повязкой всякий шаг отдавался ножом.
И артистически помолчал, рассчитано усиливая эффект:
– Вот когда я открыл это средство!
Остерегаясь остроумной уловки, он настраивал себя недоверчиво, иронически щуря глаза, однако невольное любопытство так и разбирало его, и он, трогая губы изнутри языком, нетерпеливо, нерешительно ждал, чем закончится такая правдоподобная и такая фантастическая история. А Иван Сергеевич как раз понизил таинственно голос:
– Шагая по кочкам и корчась от боли, я стал думать о том, как появлюсь перед маменькой, как она испугается, побледнеет, как я расскажу ей всё происшествие со всеми подробностями. Готовясь нагляднее, полней передать ей эти роковые подробности, не упустив и не исказив ни одной, я начал прислушиваться к малейшему моему ощущению и подбирать самые верные, самые выпуклые слова для наиточнейшего их выражения. И вы только представьте себе: боль не чтобы стала слабее, разумеется, нет, но стала она выносимее. Эти пятнадцать верст я тащился часов пять или шесть и ни разу не пикнул, даже не застонал.
Он уже с облегчением разобрал, что милый Тургенев не подводил никакого подвоха, и теперь откровенно дивился блистательной мощи рассказчика. С большим искусством и с большей безыскусственной простотой передать происшествие, казалось ему, было бы уже невозможно, и он с острым вниманием, с радостной, робкой, но искренней теплотой разглядывал сидевшего перед ним чародея, тогда как Тургенев, заливаясь тонким мальчишеским смехом, признался:
– Такого рода совет я отыскал позднее у Канта.
Передвинувшись, лунный свет доброй собакой прилег у Тургенева на колене, и Тургенев ласково гладил его, и большая рука в этом призрачном свете казалась тонкой и голубой.
От изумительного рассказа, от мальчишеского признания, от беспокойного лунного света, от вида этой странной руки в его душе закружились предчувствия, сознание заработало напряженно и смутно, и представилось вдруг, что сидевший перед ним великан, как ребенок, игравший с луной, во всем на свете что-то такое должен бы был понимать, чего он сам понять не сумел, и от одного вещего слова этого и простодушного и лукавого мудреца вся его опустелая жизнь вдруг может наполниться до краев и возвышенной целью, и бешеным счастьем, и, может быть, даже буйным восторгом любви, и в душе стало тревожно, светло, и он несколько раз повторил про себя, что всё это истинный, пошлый, бессмысленный вздор и что не имеется ни у Тургенева, ни у кого бы то ни было таких магических слов, от которых одним чудодейственным разом изменилась бы его жизнь до самых корней, и с прежним нерешительным нетерпением, с каким-то хмельным задорным азартом все-таки именно от Тургенева ждал возрождавшего слова, страшась то слово услышать, как страшатся услышать свой приговор.
В руке его тихо тлела немая сигара.
Иван Сергеевич тоже молчал, нежа и гладя ладонью полосу лунного света, и он, не выдержав ни зрелища этой милой игры, ни бесконечного, казалось, молчания, негромко спросил, напрягаясь выглядеть равнодушным, однако голос слабо дрожал, слегка спотыкаясь, против воли выдавая его:
– И что, вы теперь… нашли причину вашего… беспокойства, которое… не дает вам заняться… ничем?
Клонясь большой головой, шевеля гибкими пальцами, Иван Сергеевич задумчиво заговорил, не отвечая на его страстный, задушевный запрос, точно не расслышал его:
– Лунный свет представляется мне таким стылым, морозным, что я как будто ощущаю прохладу его.
Не обижаясь на безответность, тоже словно не замечая её, он со странным любопытством следил, как Иван Сергеевич снял большую ногу с колена, и безжизненный луч, задрожав голубым, упал косо вниз и лег на полу, как собака, а Иван Сергеевич, подавшись вперед, разглядывал лунную лужу внимательно, долго, и тогда вдруг показалось ему, что, безразличный к его беспокойству, тот вовсе не слышал запроса, занятый лишь этим призрачным светом холодной луны, распластавшимся перед ним.
Он вжался плотней в свое кресло, пронзенный досадой, которая могла превратиться в тягучую злость, и Тургенев, забавлявшийся у него на глазах какой-то несуразной игрой, в тот момент, когда он чего-то необыкновенного, если прямо не чуда, ждал от него, до того раздражал его беспечным своим легкомыслием, что он дрожал от желания крикнуть, чтобы одернуть его, но, приучившись благоразумно сдерживать свои чувства в любых обстоятельствах жизни, тотчас подумал, что он ошибся, обчелся, промахнулся досадно, решив вгорячах, искусно запутанный им, будто у этого замечательного художника, способного вот так размениваться на вздор, может родиться глубокая мысль, и тревога ожидания понемногу начала увядать. Он вспомнил сигару и вновь её раскурил.
Иван Сергеевич потер лунный свет сапогом, задумчиво поднял волосатую голову и вдруг протянул:
– А причина…
Его рука так и дрогнула, с конца сигары посыпались искры и пепел, а Иван Сергеевич, потянувшись зачем-то в карман сюртука, заключил:
– Причина чудовищна и черства.
Пораженный, что он точно готов был к подобным признаниям, ребром ладони старательно счищая с колена просыпанный пепел, он обнаружил, что догадывался об этом даже тогда, когда в сердцах бранил про себя тургеневское будто бы неуместное легкомыслие, и не было ничего невероятного в том, что это пока ещё не открытая чудовищность и черствость причин превосходила все его предчувствия, все догадки его.
Раздражаясь, что пепел никак не счищался, въевшись в ворсинки сукна, он прозревал, что Тургенев никаких не оставит надежд, что ума у него не прибавится, а душа не перестанет страдать.
А Иван Сергеевич вновь замолчал.
У него от ожидания запрыгало, задергалось веко. Он, вдруг оставив испачканное колено, стал очесывать бровь той рукой, которая держала сигару, и в воздухе заскользили ломкие струйки тонкого дыма. Уже не показное равнодушие ко всему, пренебрежительное безразличие и к себе, в особенности к своим невоплотившимся замыслам, к своим неосуществленным мечтам возвращалось к нему. Глаза его в самом деле похолодели, в самом деле стало вялым лицо.
Вскинув пенсне, слепыми бельмами сверкнувшее на лице, Иван Сергеевич наконец разъяснил:
– Мы живем в больное, смутное, переходное время. Народная жизнь переживает воспитательный период хорового развития. Мы умрем и ничего громадного не увидим. Мы хотим, мы жаждем и страждем великого, а нам выпало скучное, мелкое прозябание. Если меняется, если решается что, то решается и меняется без нас, мимо нас. Больно признать, а надо признать: мы писатели междуцарствия, которое началось после Гоголя и закончится с появлением нового гения. Мы разрабатываем в ширину и в разбивку всё то, что великий талант сжал бы в одно громадное целое, добытое из глубочайших глубин, из самых последних пластов общенародного, общечеловеческого, всеобщего бытия, из которых только и создаются неумирающие, бессмертные типы, равные Гамлету, Фаусту и Дон Кихоту.
Это было подтверждением его собственных мыслей, и было так горько слышать, и соглашаться немыслимо, хотя и о безвременье думал не раз, о пустоте своего будто бы бурного века, который, непрестанно сбираясь в корне перемениться, пока что решительно ничего не менял, хотя и в великом нуждался, чтобы возделать, облагородить себя, и о типах, равных Гамлету, Фаусту, Дон Кихоту, тайно мечтал, и мелкого не терпел ни в жизни, ни в книгах, ни в других, ни в себе, однако и большое тоже не давалось ему, и можно бы было дальше не слушать, но он, закусив сигару зубами, затягиваясь до легкого хрипа в переполненных легких, с замиранием сердца следил за каждым словом и жестом, точно надеясь открыть в них что-то ещё.
Большая тургеневская рука потерла высокий наморщенный лоб, откинула длинную прядь рассыпанных поседелых волос, и четко рисовалась на фоне темной обивки крупная сильная голова, прямая и мужественная, несмотря на заглохлые страдальческие глаза и слабый женственный тоскующий голос:
– А тут кончишь книгу и видишь, как мала она в сравнении с теми, с великими, как бледно и преходяще созданное тобой. Нет ни глубинных пластов, ни вечных, не умирающих образов. Одни легкие абрисы нескольких полуживых, полумертвых фигур, которые мелькнут и исчезнут, как только исчезнет наша смутная, наша больная эпоха. От этого дым в голове, беспокойство и горечь на сердце.
Он тоже знал этот дым в голове, а беспокойство и горечь не покидали его никогда, и он, понимая эти чувства до тонкости, сочувствовал собрату и мученику, как сочувствовал бы себе, однако молчал, выдохнув наконец застоявшийся дым.
А Иван Сергеевич сжался, точно сделался меньше, и в тихом голосе послышалась жалоба и какое-то горькое мужество:
– А раздумаешься: что же делать? Судьбы не минуешь! И принимаешься поскорей за другую. Не ради того, чтобы писать. Для меня излагать на бумаге – истинное мучение. Нет, хватаешься за другую ради тех немногих минут, когда ощущаешь в душе самое желанье писать. Ещё и не знаешь, что именно, а уже чувствуешь, что станет писаться. Это минута истинного наслаждения, когда создаешь в себе настоящую силу. Если бы не было их, этих бесценных минут, я, право, никогда бы ничего не писал.
Он потянулся, взял пепельницу, сбросил пепел, держа её перед собой на весу, и признался, тотчас и пожалев о ненужном признании:
– Для меня невозможно и это.
Ухватив за шнурок, Иван Сергеевич вертел на пальце пенсне, и стекла то вспыхивали, попав в лунный свет, то словно таяли в темноте, а слова вдруг прозвучали обнаженно и прямо:
– Но отчего же вам не писать? Все-таки лучше хоть что-нибудь делать, чем не делать решительно ничего.
Покоробленный прямотой, которая требовала и от него недвусмысленного, прямого ответа, нахмурясь, он нашел отговорку, как и всегда находил, встречаясь с Дружининым, Стариком, Никитенко, у Майковых, чтобы в самом начале пресечь откровенность, свою и чужую, однако откровенность Ивана Сергеевича заманивала его, не дозволяя отговориться и оборвать нестерпимо наболевшую, язвившую тему, и тогда он, сообразив, что сидит в темноте и что лица его не было видно, твердым голосом вдруг произнес:
– Нет, хоть что-нибудь, лишь бы водить пером по бумаге, – этого я не могу. Мне или уж всё, или совсем ничего.
Сунув в кармашек жилета пенсне, Иван Сергеевич задумчиво произнес:
– Пожалуй, вы правы, по-своему, и даже, может быть, хорошо, что именно вы поступаете именно так.
Неясно ощущая нечто похожее, он никогда не думал, хорошо или плохо это выходит, и был поражен, что высказал вслух столь дерзновенную мысль, но ещё больше поразило его, что Тургенев, тотчас и просто, с одобрением принял её. И ему в первый раз почудилось ясно, что духовные силы его, может быть, так огромны, что он не может, что он не способен, не в состоянии, что он лишен права по мелочам транжирить и разбазаривать их, что увлечь истинно, увлечь с головой его могла бы только одна невероятность задачи и только одна эта невероятность, громадность предстоящего дела принудила бы его творить и действовать несмотря ни на что, а он всё ещё сам себе не в состоянии был определенно сказать, насколько значительны замыслы и о беспокойном художнике, и о ленивце Илье.
Какое несчастье! И он светлым, он благодарственным взглядом следил за Тургеневым, а Иван Сергеевич непринужденно поднялся, заполнив собой чуть не весь кабинет, сделал всего два медлительных шага, но тотчас оказался в противоположном углу, стукнул там чем-то невидимым и лег широко на диван, заложив под голову руки. Его смущала и радовала эта непринужденность, может быть, они и в самом деле были друзья, и он, успокаиваясь, твердо решил, что с этого вечера примется думать над замыслами обоих романов и не остановится до тех пор, пока всесторонне и окончательно не обдумает их, а Иван Сергеевич всё так же задумчиво продолжал из угла:
– Мы с вами больны, как наше время. Мы изломаны с самого детства. Можно сказать, что нас изуродовали ещё в колыбели.
Нет, с этим он не мог, не хотел согласиться, мысль о болезни страшила его, и он возразил, осторожно и тихо:
– Вы немного преувеличиваете, Тургенев…
Голос Ивана Сергеевича сделался глуше:
– О вас мне трудно судить, однако я знаю, что болезни души, даже тела во многом зависят от состояния общества. Разумеется, в данном случае я сужу по себе.
В душе его закопошилась, тревожно и смутно, и стала подниматься старая наболевшая боль. Впервые подумав о том, что у этой боли должны быть, в самом деле, причины, он попытался одним разом понять, когда и откуда она вгнездилась в него.
Помолчав, Иван Сергеевич признался с заметным усилием:
– Моя маменька, любимая мною, была ужасная деспотка.
Он догадывался, читая и перечитывая «Муму», что в этой крошечной удивительной повести Тургенев изобразил свою мать, и все-таки прямое признание было неожиданным для него. Ощущая неловкость, даже неприязнь, чуть не сказав, что такой откровенности он не просил, он жестко подумал о том, что ни перед кем не высказал бы всей правды о матери, как ни страдал, может быть, от нелепостей ей воспитания. Что ж, Тургенев открылся ему с какой-то иной стороны, представясь циничным и сильным, и он с взволнованным любопытством ждал продолжения, а Иван Сергеевич говорил неторопливо и плавно, должно быть, усилием воли справясь с собой:
– Она мечтала воспитать меня, как спартанца, и не умела прощать ничего. Она дала меня почти ежедневно. Раз одна приживалка, уже старая, бог её знает, что она подглядела, до сих пор понять не могу, донесла на меня. Маменька принялась меня сечь. Она секла меня своими руками, приходя всё в большую ярость, и на мольбы мои сказать мне, за что я терплю наказание, приговаривала с искаженным лицом: “Сам знаешь… сам должен знать… сам догадайся…”
И так произнес это “сам”, в таком ритме выдержал паузы, что он почти явственно услыхал свист и удары бича. А он-то почитал Ивана Сергеевича безмятежным счастливцем! А он-то с осуждением думал, что эти тоскующие, эти погашенные глаза всего лишь манерная, искусная поза одаренного щедро, забалованного, до предела изнеженного судьбой!
И разве возможно было думать иначе? Разве возможно не быть совершенно, абсолютно, бескрайне счастливым, когда без трудов, без страданий, без мук дано всё, о чем другие не решаются даже мечтать: независимость, образованность, красота, повсюду неизменный громкий успех, куда ни изволишь войти, и громкая, молодая, растущая слава, которая в шепотах и кликах стоустой молвы начинает будто бы догонять нетленную славу великого Гоголя, даже несравненного Пушкина, как говорят? Как было знать, что за эти крылось нечто иное?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?