Текст книги "Теория прозы"
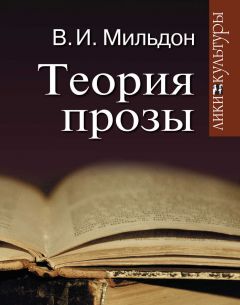
Автор книги: Валерий Мильдон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Наставничество, учительство слышны уже в «Мертвых душах», которыми – не касаюсь других сторон романа – «Выбранные места» подготовлены интонационно и отчасти лексически и, в том числе, на этом основании могут рассматриваться как явление художественной речи. Этого не разглядели современники – отсюда публицистическая оценка Белинского, для которой, однако, были поводы. Сопоставим две цитаты.
«Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой, незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида…» (6, 130).
«Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаньями нельзя искоренить неправды, она слишком уже глубоко вкоренилась».
Первая цитата из «Переписки», вторая из тех страниц, которыми обрывается рукопись второго варианта второго тома «Мертвых душ». Не зная этого, легко прочитать эти строки как один текст – лексика, тон, пафос очень близки.
Опираясь на письмо как бытовую форму, возвращавшую к практике конца ХVIII – начала ХIХ столетия, когда такое письмо превращалось в художественное явление, Гоголь не остановился на этом, а перешел к письму-речи, письму-проповеди. С одной стороны, это уводило к русскому церковному проповедничеству, с чем, полагаю, связаны и гоголевские «Рассуждения о Божественной литургии», и то, что писатель называет проповедь одним из начал русской поэзии: «… В самом слове церковных пастырей – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению встать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной» (6, 148)166166
Обращаю внимание на книгу: Зубов В. П. Русские проповедники. Очерки по истории русской проповеди. М., 2001. – Здесь рассматриваются черты проповеди как литературного явления.
[Закрыть].
В «Переписке» Гоголь тоже призывает своих адресатов к духовной трезвости.
С другой стороны, «Переписка» вела к чистой художественности, ко второму тому «Мертвых душ», ради которого, по признанию Гоголя, и была затеяна. Сочетание художественных, автодидактических (исповеднических) и проповеднических задач делают «Выбранные места…» исключительным явлением русской словесности.
В противоположность действительной переписке, в гоголевской нет собеседника. Это, повторяю, ораторская проза, подразумевающая реакцию не в виде ответного письма, а в виде поступка. Желаемый Гоголем ответ был не эпистолярный, а нравственный, жизненный. П. В. Анненков, живший с Гоголем в Риме, вспоминает, как он под его диктовку писал некоторые страницы «Мертвых душ». Автор «сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом»167167
Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 66.
[Закрыть]. Ораторским, как можно сейчас вообразить.
Б. Эйхенбаум нашел в гоголевской прозе «систему артикуляционных жестов», а в чтении им собственных сочинений – «патетическую, напевную декламацию». «Все это указывает на то, что основа гоголевского текста сказ…»168168
Эйхенбаум Б. О прозе. С. 307, 308, 309.
[Закрыть].
Вывод не соответствует верному наблюдению. Не сказ, а проповедь, ораторство – чего стоит повелительный жест, присущий, разумеется, не сказовой, а проповеднической стилистике. Этот жест виден в «Литургии», в «Переписке», в «Портрете», в «Шинели» – вообще в гоголевской прозе. Вспомним-ка: «Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец».
Ораторство, проповедничество не внезапно случайны, они присущи таланту Гоголя. По наблюдениям исследователей, его всегда интересовала звуковая (фонетическая) природа явлений и слов: двойные имена-отчества персонажей, экзотические звукосочетания в именах и фамилиях, что было свойственно русским проповедникам ХVII–ХVIII вв., в частности, св. Димитрию, митрополиту Ростовскому, который любил использовать в проповедях звучные редкие имена – Ханнанитов, Хеттеов, Эвеусов, Аморреев, Мадианитов, Ассириянов169169
См.: Зубов В. П. Русские проповедники. С. 48.
[Закрыть].
Сама жестикуляция в прозе Гоголя зависит от жеста ораторского, проповеднического, а не сказового. Было замечено, что традиция его «Переписки» восходит к «проповеди ХVIII в.» (Тынянов), следовательно, не к сказу. Если же сказ, то в качестве черты, наблюдаемой у раннего Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»), хотя и в этом случае нужна оговорка: кроме фигуры сказочника-повествователя, в структуре «Вечеров» почти ничего нет от стилистики сказа, как в «Переписке» нет ничего от настоящей переписки. По-моему, Б. Эйхенбаум «подтягивал» Гоголя к сказу, которым увлекались теоретики 20-х годов, и потому в сказе искал объяснение именам, которые подыскивали в «Шинели» только что родившемуся младенцу: Моккий, Соссий, Хоздазат, Варадат, Варух и пр.
Эти «звучные редкие имена» вполне могли иметь проповедническую, а не сказовую природу, которой, к слову сказать, Эйхенбаум не отрицает, рассуждая в одном из эпизодов статьи «Как сделана “Шинель” Гоголя» о декламационном стиле в системе комического сказа170170
Эйхенбаум Б. О прозе. С. 310.
[Закрыть].
Это замечание справедливо, если бы удалось доказать, что между проповедью и сказом нет непереходимых граней и оба словесных явления имеют одну или близкую природу. Этого Эйхенбаум не рассмотрел.
Повелительный жест Гоголя-проповедника и учителя виден в «Размышлениях о Божественной литургии»: «Намерение издающего эту книгу [своего рода “Письмо о Божественной литургии”, уместное в “Переписке с друзьями” наряду с такими сюжетами, как “Несколько слов о нашей церкви и духовенстве”, “Чей удел на земле выше”, “Светлое Воскресенье”. – В. М.] состоит в том, чтобы утвердился в голове читающего порядок всего»171171
Размышления о Божественной литургии. Изд. 4. СПб., 1894 // Репринт. М.: Современник, 1990. С. 4.
[Закрыть].
Гоголь имеет в виду порядок богослужения, отражающий условия жизненного порядка. Он так и пишет: «Божественная литургия есть, в некотором смысле, вечное повторение великого подвига любви…<…> И пребывавшие во тьме язычества и лишенные Боговедения сознавали, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам…»172172
Там же. С. 5.
[Закрыть].
Литургия, по мысли автора, назначена внести стройность в мир – такую же роль Гоголь отводил поэтическому слову. В сюжете «Об “Одиссее”, переводимой Жуковским», говорится: «Она [поэзия. – В. М.] возвратит многих к свету, проводя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными… писателями <…> Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!» (6, 30,33).
В «Переписке» повторяются учительные мотивы «Литургии», однако в первом случае для этого используется письмо как жанр. Подобным образом поступит много спустя В. В. Маяковский в стихотворении «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» – те же дидактика, проповедь, «повелительный жест» (вот она, сущность любви, «и уставил в нее железный палец»), «педагогическая ода» (не случайно позже появилась «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко).
Именно потому, что у Гоголя – программа социального поведения, образцом которого он избрал «Того, Кто…» («Литургия», сочинявшаяся за несколько лет до «Переписки», приоткрывает, кем должен был стать Чичиков в итоге полного текста «Мертвых душ» – святым, близким Господу), он, Гоголь, и заговорил так громко, в тонах проповеди и пророчества. Из-за этого тона его не услышали: в конце первой половины ХIХ столетия пафос оды-проповеди, торжественного велегласия (далекого, разумеется, от сказовой манеры) был архаичен. Вниманием владела другая эстетика, писатель же обратился к читателям на языке уже забытом или забывавшемся и потому не вызывавшем отклика.
Я полагаю, не в идеях Гоголя, а в языке, в неудавшейся имитации дружеского письма было дело. Писатель явно выпадал из словесной эстетики своего времени, чем объясняется заодно, почему не пошли второй и третий тома романа: взятые приемы устаревали, и автор это чувствовал, хотя, разумеется, причины не только в этом.
Литературная эпоха громкого тона, «библеизмов» миновала, нужно было ждать возвращения вкуса к такой речи, чтобы «Выбранные места…» привлекли читателя. В 40-е же годы подобная стилистика отошла. Интерес к интимным словесным формам начал пробуждаться – при совершенно другом тоне: библейское громогласие при разговоре на общественные темы сменилось сначала обыкновенной речью, как если б говорящий находился за одним столом с читающим/слушающим, а потом свелось чуть ли не к шепоту на ухо – с середины 70-х годов («Дневник писателя» Ф. Достоевского), достигнув пика в начале ХХ столетия (автобиографическая трилогия В. Розанова).
С помощью формы писем Гоголь намеревался решить задачи, мешавшие, по его мнению, взяться за второй и третий тома «Мертвых душ». Связь писем и художественной прозы, как уже говорилось, восходит к традициям конца XVIII – начала ХIХ в., хотя Гоголь едва ли сознавал эту преемственность, используя форму письма по-своему. Она была нужна, по его же признаниям, в автодидактических целях: довоспитать себя, чтобы узнать, что происходит с человеком при самоисправлении – таким исправившимся должен предстать Чичиков во втором и, главное, в третьем томе.
Кроме того, письмо служило испытанным средством (разновидностью документализма) поиска новой художественной формы, необходимой для продолжения романа, – не исключено, с этой точки зрения обращение к письму было сознательным актом. В дополнение к причинам неудачи второго тома, о чем достаточно писали173173
И я среди прочих: Мильдон В. И. Чичиков и царь Эдип // Россия/ Russia. Венеция, 1993, № 8; Эстетика Гоголя. М., 1999.
[Закрыть], есть, кажется, еще одна. О ней сужу по «Выбранным местам…»: роман на старый лад (первый том) не удовлетворял Гоголя. Сохранившиеся от сожжения большие отрывки второго варианта второго тома свидетельствуют, что писатель продолжал по-старому, хотя появились новые черты: исчезли авторские отступления; резче дидактическая интонация, напоминающая «Выбранные места…».
Гоголь искал новую форму и в этих поисках был не одинок. За год до окончания «Мертвых душ» вышел «Герой нашего времени» – образец новой русской прозы. Лермонтов, используя опыт «Повестей Белкина» Пушкина, «Странника» Вельтмана и вообще широко бытовавший прием записок (письма, дневник), преобразовал его в своем романе – выстроил, спланировал, рассчитал весь текст; сделал повествование полицентричным. Гоголь, опираясь на тот же стилевой материал, оглядывался на прошлое: первый том «Мертвых душ» по-прежнему моноцентричен. «Выбранные места…» должны были поправить дело. Автор хотел – предполагаю на основе уцелевших страниц второго тома, писанных после «Выбранных мест», – перенести формальный навык «Переписки» (каждая глава – сюжет, и вся вещь полицентрична) на роман.
Сделать этого не удалось, я думаю, потому, что «Мертвые души» задуманы и осуществлены как традиционный роман путешествий, по технике обращенный к прошлому русского романизма, к допушкинской прозе: «Российский Жилблаз» В. Т. Нарежного и «Иван Иванович Выжигин» Ф. В. Булгарина. Влияние обоих писателей без труда обнаруживается в гоголевском романе.
«Выбранные места…», опубликованные после сожжения первого варианта второго тома, свидетельствуют, что прежняя архаическая форма повествования перестала удовлетворять автора, он искал новую, не отказываясь от общего замысла и учитывая вышедший первый том. Иными словами, воображавшемуся Гоголем содержанию следующих томов не соответствовала форма романа путешествия в ее архаическом виде. Она нуждалась в обновлении не только для гоголевского романа, но для русской прозы в целом.
Послегоголевская проза (беря ее главное течение: Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой) надолго отказывается от этого приема. Традиционный авантюрный роман, взятый Гоголем в архаической версии, не годился и отошел на эстетическую периферию, сохраняясь в лубочной литературе.
Во втором и, гадательно, в третьем томе Гоголь намеревался перенести путешествие Чичикова извне (Россия) внутрь (душа), изобразить нравственные перемены героя – не зря во втором томе Чичиков подолгу живет на одном месте: то у Тентетникова, то у Костанжогло и подумывает, как бы оставить страннический посох навсегда. С точки зрения романной техники это могло означать отказ от формы старого авантюрного повествования, которая перестала удовлетворять Гоголя.
Тут-то, предполагаю, и был бы кстати «роман в письмах» (всего через четыре года после выхода первого тома «Мертвых душ» именно с такой формой дебютирует Достоевский – «Бедные люди»). Опыт «внутреннего путешествия» уже существовал в русской литературе – «Странник» А. Ф. Вельтмана (1831). Писатель, взяв форму приключенческого романа, использовал ее нетрадиционно.
Во-первых, он путешествует по географической карте воображаемо. Во-вторых, одновременно с воображаемым путешествием он совершает реальное. Сочетание двух типов странствия давало неожиданный эффект, некоторое время «Странник» был самой читаемой книгой.
Допускаю, об опыте романа Вельтмана Гоголь мог задуматься, готовясь к работе над вторым вариантом второго тома. Об этом свидетельствует форма «Выбранных мест», соединившая, подобно «Страннику», разные стили: ораторскую прозу, письма русского путешественника, проповедь, оду, критическую статью, пророчество. Такого сочетания тогдашняя русская проза не знала. Цель этого эксперимента, независимо от того, что говорил сам автор, состояла в том, чтобы нащупать новую повествовательную манеру для продолжения «Мертвых душ».
«Выбранные места…» можно рассматривать как попытку (неудачную, забегая вперед) написать новый роман и с этим навыком взяться за «Мертвые души». Отдаленным аналогом подобного типа художественного мышления я считаю пушкинские «Повести Белкина». Автор тоже захотел опробовать новую конструкцию будущего романа, так и не написанного им.
Гоголь разбивает «Переписку» на главы, прячет адресатов за инициалами (так сделал Пушкин в «Повестях»: каждая кем-нибудь рассказана Белкину, и каждый получил от Пушкина инициалы), а себе отводит роль повествователя с ярко выраженными признаками главного героя – проповедника-пророка и дидакта.
В связи с этим понятно недоумение, вызванное гоголевской вещью: читателю не удалось найти точки зрения на такой тип повествования, ибо художественные задачи заглушались нравоучительными. Сама же форма писем, хорошо известная, художественно никак не мотивировалась. То ли авантюрный роман (но где авантюра?), то ли роман в письмах (где ответные послания?), то ли проповедь (тогда зачем деление на главы, между собой не связанные?).
Это была синтетическая форма, в которой рудиментарно существовали разные типы повествования (авантюрного романа, проповеди, романа в письмах). Проповедь перевесила, хотя в конце первой половины ХIХ в. такой жанр позабывался, сохраняясь лишь в церковной практике. Неожиданно и не ко времени Гоголь придал ей первостепенное значение, превратил дружескую переписку из литературного приема в текст прямого обращения ко всем, едва ли не в агитационную листовку. Получилось почти как в «Портрете»: лицу на живописном холсте «вставили» живые глаза, разрушив обе действительности – художественную и реальную.
В «Переписке» Гоголь грянул во всю мощь своего голоса, ожидая, что ему ответят шепотом. Интимная задушевность, на какую он рассчитывал, была подавлена ветхозаветным пафосом, парализована «повелительным жестом».
Неотчетливость литературной формы «Выбранных мест»174174
Книга задумана «в двойном плане – исповеди и проповеди», но «ни одно из этих заданий не было доведено до конца». Гиппиус В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 182.
[Закрыть] помешала продолжению «Мертвых душ». «Переписка» не стала романом. Сейчас можно говорить, что повторная неудача второго тома предопределена художественной неудачей «Переписки», которая в этом отношении и впрямь оказалась пророческой.
Гоголь не первый и не последний в русской литературе, для кого форма личного письма (предполагавшая негромкий голос, взаимную доверительность) стала средством обновления современной (у Гоголя – его собственной) прозы. За год до «Выбранных мест» вышли, напоминаю, «Бедные люди» Достоевского и тогда же его «Роман в девяти письмах» (который сам автор сопоставлял с «Тяжбой» Гоголя). Успех «Бедных людей» объясним тем, что был найден новый тон старому приему – переписке, уже примелькавшейся интонации личного письма. Достоевскому удалось то, что не удалось Гоголю, однако переписка «Бедных людей» свидетельствовала, что художественные намерения Гоголя, его «Переписка» шли в русле тогдашних языковых и композиционных поисков русской прозы.
Разница двух писателей состояла в том, что Гоголь ориентировался на отошедшую литературную манеру, Достоевский от нее отталкивался. Должно быть, не случайно: лексику, интонацию, позу Гоголя («повелительный жест») в «Переписке» Достоевский пародирует в «Селе Степанчикове». Тон, подчеркиваю, ибо форму «Выбранных мест…» Достоевский вспомнит в «Дневнике писателя», открывая дорогу новой художественной прозе, в частности, автобиографической трилогии В. Розанова.
«Дневник писателя» демонстрировал, что новый русский роман, введением в который была проза Пушкина, исчерпывал ресурсы, требовалось их обновление. «Выбранные места из переписки с друзьями» есть некое преждевременное ощущение грядущего в литературе процесса, который в эпоху Гоголя еще не начался, и потому его книга стояла одиноко.
Группу художественных вещей Достоевский поместил в «Дневник» («Кроткая», «Мужик Марей», «Мальчик у Христа на елке»). Еще бы, ведь это дневник писателя, а посему рассказ ли, повесть там «у себя». Дневник – словесный жанр сугубо личных впечатлений от каждодневного существования превращен Достоевским в своего рода «Выбранные места из текущей действительности», где есть и переписка с друзьями-читателями: их письма, ответы на их письма – тоже, разумеется, выбранные.
После художественно опыта Достоевского обнаруживается, что частное письмо конца ХVIII – начала ХIХ в., сделавшееся из бытового явления литературным, под руками Гоголя трансформировалось в недоразвившийся «дневник писателя»: фиксированы не дни, пусть выбранные, а проблемы, причем с единственной целью – дать решение только одной стороны – писателя; другая сторона – читатели, друзья – не учитывается, поэтому переписки нет, а если есть, то с самим собой – своеобразная и неизвестная русской литературе «гоголевского периода» форма публичного обращения писателя к самому себе, писем себе кружным путем – через публику посредством «друзей».
В 70-е годы «Дневник» Достоевского оказался новинкой отечественной прозы, быстро освоившей этот опыт. Похожую форму взял В. Розанов. Его трилогия не просто «Дневник писателя», но шаг от Достоевского к Гоголю, якобы возвратное движение, в котором, однако, учтен опыт «Дневника писателя». Возвратность поэтому оказывается имитацией, приемом, средствами которого Розанов обновлял старую форму.
Напомню запись Л. Толстого в дневнике 1909 г.: «…Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы <…> Не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь»175175
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 57. С.9.
[Закрыть].
Намерение это исполнилось неожиданно быстро – в трилогии В. Розанова: «Уединенное» (1912) и «Опавшие листья», короб 1 (1913) и короб 2 (1915). Действительно, «не художественное, а что сильно чувствуешь», однако написанное об этом становится, вне авторских расчетов, художественным, построенным иначе, нежели приучил читателя господствующий литературный вкус. Поэтому и воспринимается такое письмо по-особому, не как художественное.
В трилогию названные вещи Розанова объединяются неукоснительным соблюдением в каждой из книг того принципа, которого добивался Толстой. Условно определяю этот принцип художественным документализмом.
В «Уединенном» автор пишет: «Шумит ветер в полночь и несет листы… Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства.., которые… имеют ту значительность, что “сошли” прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья…»176176
Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 2. Уединенное. С. 195. – Дальше том и страницы указываются в тексте.
[Закрыть].
«Прямо с души» и есть «художественный документализм», о чем еще раньше Толстого и Розанова задумывался Достоевский. Персонаж «Кроткой» (1876), сожалея, что нельзя передать того, что у него на душе, мечтает: «Если б мог подслушать его [героя. – В. М.] и все записать за ним стенограф…»177177
Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 13. С. 340. – Дальше том и страницы указываются в тексте.
[Закрыть].
Желание Толстого «высказывать, что сильно чувствуешь» тоже, в сущности, требует стенографа. В трилогии Розанова реализовалась потребность новых средств выразительности, о которых писали Достоевский и Толстой, ощутив ослабление некогда новой художественной практики, начатой Пушкиным. Розанов стал собственным стенографом. Обращение к полу-мыслям, получувствам без переработки, без цели ответило, насколько это видно сейчас, очень сильной потребности русской прозы в новых приемах, следовательно, и в новом материале.
Розановские «восклицания, вздохи без преднамеренья» и в самом деле таковы, если их брать в отдельности, в целом же организованы, обдуманы, выстроены в книгу. Рассуждения писателя, что, мол, пишу, как Бог на душу положит, справедливы лишь в той степени, в какой справедливо, например, утверждение Пушкина в «Капитанской дочке», что вся вещь – рукопись Гринева, полученная от его потомков издателем. Все названные фигуры – Гринева, издателя, потомков – выдуманы с одной целью: придать повествованию достоверность, которой автор добивался средствами художественного документализма (имитация записок/дневника). Эти средства идут в работу всякий раз, когда возникает необходимость обновить износившийся механизм старой прозаической манеры. Именно такова литературная роль трилогии Розанова, замеченная тогдашней критикой: «…Документализм изображения…является определенным стилистическим приемом». Писатель «брал тон “исповеди” как прием»178178
Шкловский В. Литература вне сюжета [1921] // Шкловский В. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. М. 234.
[Закрыть].
Этого мало. Взяв исповедь приемом, Розанов добивается исповеди как таковой, словно сейчас, в присутствии читателя все выговаривается, сходит прямо с души, минуя посредничество книги. Тогда это было новинкой, и розановская проза привлекла людей разных литературных пристрастий.
Автор понимал, что он делает, от какой традиции отталкивается; осознавал свое литературное новаторство – необходимое условие для того, кто обновляет стареющую эстетическую норму. В «Уединенном» он пишет о своих нечаянных восклицаниях по поводу разных житейских обстоятельств: «Кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листья собрать» (195).
Твердо и безоговорочно обозначена связь частей трилогии – «опавшие листья» – еще одно условие, позволяющее рассматривать три вещи как целое. При этом каждую можно читать отдельно, а внутри нее начать чтение с любой страницы, и эстетическое впечатление не ослабеет.
Розанов осуществил тот тип художественного повествования, какой пробовал Пушкин в «Повестях Белкина» – пять рассказов, не имеющих между собой связи, хотя, в отличие от «рассказов» Розанова, пушкинские очень жестко (сюжетно) построены. Розанов, делая новый шаг, отказывается от этой жесткости, усиливая в читателе ощущение ничем не ограниченной свободы расположения материала.
Традиции пушкинской постройки (но с учетом лермонтовского «Героя нашего времени») задумал продолжить Достоевский. В апреле 1870 г. он пишет из Дрездена А. Майкову о деталях будущего (так и оставшегося в замысле) цикла «Атеизм»: «Это будет мой последний роман. Объемом в “Войну и мир”, и идею Вы бы похвалили… Этот роман будет состоять из пяти больших повестей <…> Повести совершенно отдельны, так что их можно даже пускать в продажу отдельно» (15, 456).
Но и это не все. В «Дневнике писателя» (1876, январь) Достоевский сообщает: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. <…> А пока я написал лишь “Подростка” – эту первую пробу моей мысли» (13, 7–8).
Эти слова исследователь комментирует: «Дальнейшими вехами в работе над этой темой явились замыслы неосуществленных романов “Отцы и дети”, “Мечтатель”, 1876, и, наконец, “Братья Карамазовы”» (9, 582).
Примем в расчет, что «Братья Карамазовы» задумывались как дилогия, и читатель об этом предупрежден сразу: мол, жизнеописание у меня одно [Алексея Федоровича], а романов два (9, 6), и первый роман – это «Братья Карамазовы», а второй, ненаписанный, об Алеше, где тот будет главным героем. Следовательно, задумывался все тот же пятичастный цикл, хотя Достоевский признавался, что намерен писать роман и об Иване (10, 112), и роман «Дети» – о подростках, действующих в «Братьях Карамазовых». Как бы то ни было, речь идет о романе-цикле.
После пяти повестей Пушкина Лермонтов пишет роман из пяти повестей – «Герой нашего времени». Эта цифра идет на ум и Достоевскому. В добавление к «Уединенному» и двум книгам «Опавших листьев» Розанов пишет еще две: «Сахарна» и «Мимолетное». Нельзя ли говорить об устойчивом в русской прозе навыке организации пятичастного цикла? Если да, Розанов оказывается продолжателем этой традиции, как раз на ее фоне видна его оригинальность – бессюжетная (произвольная) организация цикла, обновляющая литературную практику, начатую Пушкиным.
И последнее об осознании Розановым того, что он делает, – его взгляд на читателя. «Ах, добрый читатель, я уже давно пишу “без читателя” – просто потому, что нравится» (195).
Якобы «без читателя» – тоже новинка. Пушкин скрытно предполагал читателя: каждая из повестей держалась на занимательности рассказа, на тайне. Автор «играл» с читателем, рассчитано провоцируя его на мысль о традиционном развитии (окончании) рассказа, который, однако, всякий раз оканчивался неожиданно. Критики давно обратили внимание на четырехкратное переворачивание сюжета «блудный сын» в «Cтанционном смотрителе»: 1) не сын, а дочь; 2) не блудная (не она возвращается с повинной, а отец едет к ней); 3) она счастлива, вопреки привычному для старого сюжета несчастью блудного дитяти; 4) все же дочь возвращается, но после того, как читатель мог решить, что история закончилась.
Таким образом, читатель постоянно находится перед глазами Пушкина-прозаика, но в качестве спрятанного, а не открыто объявленного. С некоторыми оговорками, так у Лермонтова и Достоевского. Розанов расчетливо нарушает эту традицию, причем дважды: сначала обращается к читателю прямо (новинка для «исповедальной лирики», строящейся, как правило, на интимной, а не публичной «интимности»), а потом говорит, что обратился, чтобы читатель знал, что он не нужен, ибо все написано якобы не для него, а для себя, писателя.
Это – обычная художественная маскировка формы (как Пушкин выдумал Гринева, так Розанов выдумал себя, не интересующегося читателем), сделанная равно обычными средствами, чтобы за обычностью была отчетливо видна новая литературная форма: писать для читателя (и объявить это прямым обращением), но так, словно читателя нет (и об этом тоже объявить).
Вот почему эту прозу можно связывать с классической русской литературой, исходя из принципа организации пяти повестей в цикл. Отличие Розанова в том, что у него и внешняя связь повестей произвольна (порядок чтения каждой не имеет эстетического значения), и внутренняя (каждая вещь читается в любом порядке страниц). До Розанова не было одновременного сочетания этих признаков. К тому же автор демонстративно отказался от сюжетной занимательности: в его прозе ничего не происходит.
С последним обстоятельством связана другая традиция русской классики, восходящая к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголя. Автор, замаскировав прозрачными инициалами своих адресатов, превратил бытовое (дружеское) письмо в явление художественное, об этом уже говорилось.
В объявленных и Толстым, и Розановым намерениях – писать не выдуманно, а как оно было на самом деле, – обнаружился эстетический дух времени, ибо то же самое, и почти теми же словами, и в ту же пору шло на ум В. Вересаеву. В предисловии к «Невыдуманным рассказам о прошлом» он писал:
«С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее – живые рассказы о действительно бывшем. <…> Многое из того, что тут помещается, я долгие годы собирался “развить”, обставить психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разогнать листа на три, на четыре, а то и на целый роман. А теперь вижу, что все это было совершенно не нужно, что нужно, напротив, сжимать, стискивать…»179179
Вересаев В. В. Сочинения: в 2 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 2. С. 102–103.
[Закрыть].
Прибавь еще Вересаев к последним словам «как делал Пушкин», вышло бы совсем «по-толстовски» или «по-розановски», ибо впервые мысль о подобном типе повествования пришла писателю на ум, вероятно, в 1916 г., когда был написан рассказ «Семейный роман», названный «невыдуманным», хотя цикл таких рассказов был написан позже.
Если на протяжении неполного десятилетия, с 1909-го по 1916 г., три во всем разных прозаика заявляют независимо один от другого о необходимости решать одну эстетическую задачу (изобразить действительно бывшее), есть достаточные основание говорить об ослаблении предыдущей художественной манеры (психологии, природы, бытовых подробностей «на целый роман»).
Литературная новизна «Переписки» Гоголя состояла в том, что он не просто превратил интимный документ в публичный (известный тогда прием), а в средство проповеди, каким письмо не было в литературном обычае до Гоголя. Формально писатель оставался в рамках традиции (переписка с друзьями), выпадая из нее тоном (проповеди), а потому и конкретных лиц он шифрует инициалами: лицо не играет роли, главное – что сказано, а не кому. В практике же начала ХIХ в. важным было и то, и другое: без «кому» было непонятно «что».
Розанова сближает с Гоголем проповедничество, но оно же и отличает их друг от друга. Проповедь Розанова интимна, а не публична, и потому адресат (о ком или кому говорится) очень важен, шло якобы возвращение к традициям 10–30-х годов ХIХ в., которые разрушил Гоголь, уходя еще дальше «назад», к русской проповеди ХVII и ХVIII вв.
Вследствие интимности проповеди (как Розанов понимает жизнь, людей, литературу, современные события; он не комментирует, подобно Достоевскому в «Дневнике писателя», а излагает, описывает собственные реакции, словно не рассчитывая, что кто-нибудь прочтет; это я и зову «интимной проповедью», негромким ораторством, отличным от пророческого громогласия Гоголя), – так вот, интимность розановской проповеди делает художественно значимыми детали, которых не было ни в начале ХIХ в., ни у Гоголя. Например, где записано это или другое наблюдение (на извозчике, у входа в редакцию, на приеме у врача); чем был занят автор в это время (нумизматикой, перед сном, в туалете).
Розанов вводит в художественный мир явления, до тех пор не попадавшие туда, расширяет область художественного за счет деталей, подробностей, которые сами по себе имели смысл для очень узкого круга близких и родственников. Этим объяснимо сокращение многих имен, фамилий до инициалов, но разница с гоголевскими сокращениями колоссальна: Розанов сокращает, поскольку это графически могло бы соответствовать тихому, почти шепотом, голосу, как и требует интимное обращение к лицу; Гоголь сокращает, чтобы «отделаться от лица», оно – только предлог, на самом деле его адресат – вся Россия, человечество, и тут, конечно, имя неважно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































