Текст книги "Теория прозы"
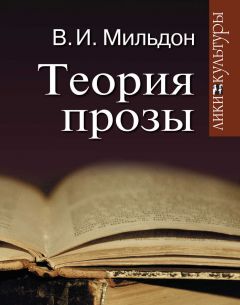
Автор книги: Валерий Мильдон
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Для нынешнего читателя (впрочем, и для тогдашнего, за редчайшими исключениями) целая группа персонажей, упоминаемых Розановым (у него громадное число героев, на глаз, едва ли не больше, чем в романах Достоевского или Толстого, – интересно проверить, хотя вряд ли найдется такой счетчик), – темные пятна: кто эти мальчики, гимназисты, девушки, взрослые, дети, безымянно названные? Требуется обширный комментарий, дотошная исследовательская работа, чтобы установить, кого подразумевает автор. Однако для розановской манеры это не имеет значения – еще одна особенность его прозы, напоминающая, кстати, Гоголя. У того в «Мертвых душах» немало фигур, однажды появившихся и потом не играющих никакой роли, значимых только в эпизоде.
Так и Розанов. Назвав, к примеру, какого-нибудь сверстника детских игр, о котором после не будет ни слова, автор добивается достоверности (документальности, т. е. истинности) сцены, разрушая при этом старую литературную форму, использующую всех (или почти всех) действующих лиц, главных и второстепенных. У Розанова этого нет, ружье может висеть, ни разу не выстрелив. Его проза держится эпизодами, между собой не связанными.
Но нельзя сказать, что единственный герой его трилогии – он сам. В том-то и дело: и он не является героем, несмотря на то, что во всех трех книгах речь, в сущности, идет о нем одном, и он не однажды подчеркивает это: «…Я сам (в себе, комке) бесконечно интересен…» (212).
И что же? Он – лишь один из героев бесконечного повествования, автор на правах одного из персонажей – традиционная фигура, и такое сочетание традиции с ее обновлением делает розановскую прозу новаторской. Названный прием позволил включить в интимный, близкий круг всех читателей – об этом свидетельствуют письма, полученные Розановым после выхода «Уединенного» и «Опавших листьев». Некоторые из них он вводит в текст своей трилогии, как (по приему) Достоевский в «Дневнике писателя».
К письмам у Розанова особое пристрастие, почти равное интересу к нумизматике – собиранию следов минувшей исторической жизни. В одном из эпизодов «Опавших листьев» он сообщает, как некогда («лет 25 назад») нашел на чердаке старый чемодан с письмами, относящимися к 60-м годам ХIХ столетия. «…Корреспонденция частных людей истинно замечательна. <…> Вместо “ерунды в повестях” выбросить из журналов эту новейшую беллетристику и вместо нее…» (335).
Сталкиваемся с тем же самым документализмом, к которому подошел Достоевский в «Дневнике писателя», сочетая беллетристику с письмами читателей, выдержками из текущей периодики и собственными комментариями. У Достоевского реальное (чужое) письмо используется в другом (новом) контексте. Не общезначимые события, как в «Дневнике писателя» (некоторым событиям Достоевский придавал общественное значение своими толкованиями), а мельчайшие факты (хотя, как у Гоголя и Достоевского, тоже выбранные), ускользающие мгновения жизни автора; не историческое, а сверхпсихологическое, мик-ропсихологическое, которых не было в предыдущей литературной практике.
Когда Розанов пишет: «И литература сделалась мне противна» (207), понимать следует не буквально, как и подобает при работе с художественным текстом. Опротивела не литература сама по себе (иначе давно бы бросил и читать и писать, но тогда никто бы не узнал об отвращении, а ему, автору, надо, чтобы знали, и как можно больше народу), а прежняя литература, ее выдыхающаяся эстетика.
Розанову, страстному, до мозга костей литератору, хотелось (подобно Пушкину, Достоевскому, Толстому – тем, у кого это желание было ярко и осознанно выражено и подкреплено не только собственным творчеством, но суждениями о том, каково это творчество) новой формы, новой литературы. Это заметили критики Розанова, в частности, упоминавшийся В. Шкловский: «Указания на выпад из литературы [Розанов не один раз пишет, что не имеет с литературой никакого дела. – В. М.] обычно служат для мотивировки ввода нового литературного приема»180180
Шкловский В. О теории прозы. С. 237.
[Закрыть].
Мысль кажется верной. Благодаря новой форме («новому приему») Розанов передал новую черту современного человека – текучесть сознания (а не души, по замечанию Чернышевского о Л. Толстом): «В террор можно и влюбиться и возненавидеть до глубины души, – и притом с оттенком “на неделе семь пятниц”, без всякой неискренности. Есть вещи, в себе диалектические, высвечивающие (сами) и одним светом и другим, кажущиеся с одной стороны – так, и с другой – иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. “Бог взял концы вещей и связал в узел – неразвязываемый”. Распутать невозможно, а разрубить – все умрет. И приходится говорить – “синее, белое, красное”. Ибо все – есть» (213).
«Все – есть» и является чертой нового героя, героя нашего времени (Лермонтов – среди любимейших писателей Розанова, и, допускаю, лермонтовский роман крепко сидел в его уме, хотя непосредственный художественный опыт Лермонтова не прочитывается в розановской прозе).
Как же понимать эту черту? Идеология, какой бы ни была по содержанию, тесна человеку (и потому – любая – бесчеловечна), лишает понимания, и оно атрофируется. Идеолог видит не действительность, а свои мысли о ней, и потому действительность идеолога всегда выдумана, и это независимо от масштабов ума такого человека.
Для Розанова-мыслителя самым важным было понимание. Его первая, вполне самостоятельная работа так и названа: «О понимании». В ней ему хотелось понять устройство мира, и он писал книгу, словно никто до него об этом не думал и не писал. В таком подходе состоит особенность розановского отношения: не из книг, не от чьих-либо идей/идеологий, а из своего, пережитого опыта, из жизни. Этому-то и мешает идеология, «опыт до опыта»: отсюда борьба идеологов со всем, что не вмещается в их идеи, деление на тех и этих, своих и чужих. Человеческий же мир пестр – не случайно Розанов пользуется «синим, белым и красным». Однажды он так и писал:
«Когда говорят о “демоническом” и “бесовском” начале в мире, то мне это так же, как черные тараканы у нас в ванне (всегда бывает, и их люблю): ни страха, ни заботы. “Есть”, и Господь с ними, “нет” – и дела нет. Это не моя сторона, не мое дело, не моя душа, не мой интерес» (616–617).
«Мысли бывают разные» (501).
Как человек Розанов, бесспорно, идеологичен, и в его трилогии часты выпады в адрес конкретных литературных, политических, общественных лиц или групп. Но в качестве персонажа собственного текста он вне идеологий. Я подчеркиваю: Розанов-писатель и Розанов-персонаж, один из героев литературного произведения, не одно и то же. В отслоении от одного и хорошо известного лица, В. В. Розанова, – другого, персонажа художественного текста с теми же именем и фамилией, – и состоит литературное новаторство писателя. Уже в нашу эпоху этим приемом воспользовался, вслед Розанову, Вен. Ерофеев в повести «Москва – Петушки» (1969).
Вот почему нельзя утверждать, что трилогия В. Розанова – о нем, В. В. Розанове, хотя и о нем тоже. Но есть, благодаря микроскопическим срезам жизненного материала, некая тонкая грань, отделяющая (да и то прерывисто) Розанова – отца, мужа, публициста, нумизмата – от Розанова-персонажа, каким он предстает в его собственном изображении. И – вот это и есть его самая задушевная художественная новинка – он сам это ясно осознает: «Сердце и идеал было во мне моногамично, но любопытство и воображение было полигамично.
И отсюда один из тягостных разрывов личности и биографии.
Я был всешатаем и непоколебим» (601).
«Благородное, что есть в моих сочинениях, вышло не от меня. Я успел только, как женщина, воспринять это и выполнить. Все принадлежит гораздо лучшему меня человеку» (244).
Он себя отделяет от себя, и докапывание до этого сердцевинного «себя в себе» его интересует, занимает больше всего остального. Поэтому: «Женщины, не выходите за муж за писателей!» (244).
О какой предпочитаемой идеологии можно говорить при таком сознании?
Новизна психологической стилистики Розанова состоит в том, что он использовал хорошо известный – со времен «Выбранных мест…» Гоголя и «Дневника писателя» Достоевского – литературный прием: писатель говорит о себе от себя, о «я» от имени «я», не прячась за вымышленные фигуры. Но уж если это «я» – «я», то и все, от его имени произносимое, принадлежит ему, со всем темным и ясным, бесовским и божественным. Таков Гоголь в «Переписке» и Достоевский в «Дневнике».
Розанов эту практику разрушил. Его «я» в трилогии – это персонаж, а не «я» автора, причем персонаж, в котором сильно авторское «я». Оно, разумеется, не маска (как не маска у Гоголя и Достоевского), а лицо, но лицо художественное, а не обыденное. В «Опавших листьях» есть замечание, поясняющее ситуацию:
«Поразительно впечатление уже напечатанного: – “Не мое”. Поэтому никогда меня не могла унизить брань напечатанного, и я, иногда смеясь, говорил: “Этот дур. Р[озано. – В. М.]-в всегда врет”. Но раз Афонька и Шперк, придя ко мне, попросили прочесть уже изготовленное. Я заволновался, испугался, что станут настаивать <…> Когда в Рел.[игиозно]-ф.[илософском] обществе читали мои доклады.., я бывал до того подавлен, раздавлен, что ничего не слышал (от стыда).
В противность моему смятению перед рукописью (чтением ее), к печатному я был совершенно равнодушен <…> “Точно это не меня вовсе, а другого ругают”» (348–349).
В рукописи Розанов ощущал себя как себя, а в напечатанном, оставаясь собою, он уже не совсем он, хотя «тогда» и «теперь» это был один человек. Однако в первом случае он – писатель, реальная фигура; во втором – персонаж. Именно такого расщепления автора– повествователя русская литература еще не знала. Для такой формы невозможны идеологические предпочтения, хотя Розанов-писатель отчетливо формулирует свои взгляды. Не следует лишь забывать, что он не только писатель, но и действующее лицо собственного литературного творчества. В таком художественном контексте естественно употребление своего имени в третьем лице – «Розанов». Он о себе говорит как о персонаже, как о другом.
Книги Розанова («Уединенное», «Опавшие листья», ч. 1, 2) – и дневник и письма. Как у Гоголя, есть «выбранные места из переписки с друзьями»; как у Достоевского, ответы на письма. Оригинальность розановской манеры осознается рядом с Гоголем и Достоевским. Новым был тон дневника.
Во-первых, все-таки не выбранные места, а, так сказать, каждодневное, что под руку попало. Во-вторых, выбор все же есть, но – еще одно отличие от Гоголя и Достоевского – выбиралось не пророческое, а самое что ни на есть обыденное, неброское, неприметное, микроскопическое. Вследствие такого выбора все это увеличивалось, и самый заурядный эпизод (поездка на извозчике) превращался в художественное событие, равновеликое гоголевским громокипящим библеизмам.
Возвращаюсь к письму-жанру. Одна из привлекательных черт этой манеры – свободный язык. С его помощью Пушкин предполагал найти язык новой прозы, свободной от приемов, которыми предшественники создавали свой эстетический мир, – осознанно контрастный этим приемам. Широко известна пушкинская насмешка над такими и подобными приемами:
«Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба – не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать рано поутру – а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба… <…>
Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи – дело другое…» (5, 9–10).
Да, краткость – достоинство, но не само по себе, а на фоне эстетики, которая доживала свои дни и образцы которой Пушкин высмеивает. Эта эстетика долго была в чести, и когда ее оттеснили из профессиональной литературы, ушла в «низовую», массовую, где языку не придавали значения. Об этом свидетельствует популярнейшая «Повесть о приключениях английского милорда Георга». Она попала к русскому читателю во второй половине ХVIII в. после обработки М. Комаровым и сохранилась до 1917 г. Потом ее долго не издавали.
Эта повесть – своего рода хрестоматия языковой эстетики, осмеянной Пушкиным: «В сих печальных размышлениях до тех пор он находился, как уже солнце опять стало показываться на горизонте, и небо, как яхонт, голубого цвета представлялось глазам его, по которому текущие и прозрачные облака обещали ясную и приятную следующего дня погоду»181181
Лубочная книга. С. 129.
[Закрыть].
И еще: «А как румяная заря отверзла блистающему солнцу двери, которое своими светлыми лучами прогнало темноту ночную…»182182
Там же. С. 218.
[Закрыть].
Правда, особенность «Английского милорда» в том, что здесь использована архетипическая схема развертывания событий, сочетаются устойчивые мотивы всемирной литературы (приключения, волшебство) с бытовыми деталями конца XVIII в. В этих условиях язык не имеет значения – все внимание читателя отдано приключениям, выдумкам.
От этого и должна была отказаться новая проза. «Краткость и точность» – ибо ресурсы пышного языка исчерпаны. «Мысли и мысли» – ибо выдумки и безудержные фантазии приелись. Первым шагом от выдумок и был простой, «невыдуманный» язык: по словарю, интонациям, построению. Именно с языка начал Пушкин (воспитанный в школе поэзии) обновление прозы, почти одновременно работая над обновлением конструкции (композиции), предугадав дальнейший путь отечественной словесности. Пушкин шел к прозе не только от стиха, как справедливо утверждал Б. Эйхенбаум, но и от прозаической разговорности (упражняемой в письмах). Стих и разговорная проза переписки предшествовали пушкинскому роману («Повестям Белкина», в первую очередь).
Разумеется, об этом задумывался не один Пушкин. 3 мая 1817 г. Батюшков записал в дневнике: «Что делать? Все прочитано, даже “Вестник Европы”. Давай вспоминать старину! Давай писать на бело impromptu [сразу, без подготовки] без самолюбия, писать так скоро, как говоришь, без претензий…»183183
Батюшков К. Опыты в стихах и прозе. С. 410.
[Закрыть].
Выделенные слова как будто взяты из дневников Толстого или замечаний Достоевского. Оба под конец жизни тоже задумывались о возможностях новой прозы и, естественно, пришли к уже опробованным средствам. Герой «Кроткой» говорит: «Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф <…>, после которого я обделал бы записанное…» (13, 340).
Речь идет о том же, о чем в дневнике Батюшкова: писать, как говоришь, без выдумки. Кстати, один из критиков, оценивая повествовательную манеру Достоевского, так охарактеризовал «Записки из Мертвого дома»: «С первого взгляда чтение записок может поразить некоторой беспорядочностью изложения: автор не редко начинает какой-нибудь очерк ex abrupto [внезапно, вдруг], делает резкие переходы от одного предмета к другому… многое не оканчивает, другое повторяет…»184184
Светоч, 1861. № 5.
[Закрыть].
Якобы безыскусность, имитация документализма (отсюда образ стенографа), якобы болтовня – эти признаки, характерные для формальных поисков первой трети ХIХ в., повторятся в его конце, когда эстетика новой прозы закончит свой очередной цикл. Уже в наше время вновь повторится призыв писать без выдумки, а как оно было на самом деле, документально. Так поступит В. Шаламов в «Вишере» (с жанровым определением «антироман»).
Близкое дневниковой заметке Батюшкова писал (почти тогда же) Пушкин в стихотворении 1821 г. «Моей чернильнице»:
Мои надежды, чувства
Без лести, без искусства
Бумаге передай.
«Без искусства» равносильно «без претензий» Батюшкова, «не выдумывая» Толстого, «стенографу» Достоевского.
Еще раз обращаюсь к письму П. Вяземского 1819 г.: «Я Карамзиным все подробно пишу. Жуковский показал им мое письмо: с ним я позволяю себе мочиться и ходить без ширинки <…> У меня есть в голове и в обычае какие-то порывы пиндарического сквернословия»185185
Цит. по: Степанов Н. Русская проза. С. 97.
[Закрыть].
«Мочиться», «без ширинки» – как будто из розановского лексикона, и немудрено: перед прозой и той поры (первая треть ХIХ в.), и этой (начало ХХ в.) стояли близкие задачи – обновление языка, решавшиеся неоднократно проверенными (хотя каждый раз заново) средствами: введением новых, по отношению к эстетически общепринятым, тем, о которых надо рассказать новым языком (лексика, интонация). Если прежде говорили торжественно, пышно, теперь нужна простота; если в моде был язык незамысловатый, простой, его меняет витиеватость. Вяземский подчеркнул сквернословие – к этому средству обратится проза второй половины ХХ в. (Вен. Ерофеев, Ю. Алешковский, Э. Лимонов, Викт. Ерофеев, Е. Федоров, В. Сорокин).
Пушкин, повторяю, завершил поэтическое дело ХVIII столетия, создав совершенный стих, и потому сам осознал пределы стихотворной речи. «Четырехстопный ямб мне надоел… Пора приняться за октаву». Октава, конечно, временное средство: надоел не ямб, «надоели» стихи. О прозе как новом языке на фоне старого, стихового, думает не один Пушкин.В письме И. В. Киреевскому от 21 сентября 1831 г. Баратынский признается: «…Все меня клонит к прозе»186186
Боратынский Е. А. Разума великолепный мир. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1981. С. 114.
[Закрыть].
В начале XIX в. неоднократно раздавались голоса: у нас нет литературы. В 1801 г., выступая в Дружеском литературном обществе, А. Тургенев произнес: «О русской литературе! Можем ли мы употреблять это слово? Не одно ли это пустое название, тогда как вещи в самом деле не существует. Есть литература французская, немецкая, англинская, но есть ли русская?»187187
Литературная критика 1800–1820-х годов. М.: Художественная литература, 1980. С. 44.
[Закрыть]. Спустя десять лет Д. В. Дашков замечает: «Словесность наша не совсем еще образовалась…»188188
Там же. С. 107.
[Закрыть]. Но через тридцать лет Белинский утверждает: «…Существование русской литературы есть факт, не подверженный никакому сомнению»189189
Белинский В. Г. Общее значение слова литература [1841] // Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 2. С. 112.
[Закрыть].
Что же произошло за это время, вмещающее, кстати, целиком творчество Пушкина? Что появилось в отечественной словесности такого, что сделало ее литературой? Главным образом, сочинения прозаические, можно предположить.
Не однажды говорилось, что в конце ХVIII – начале ХIХ в. преобладала поэзия. Не значит, что не было прозы, была, разумеется, но ее не считали искусством. «Бедная Лиза» Карамзина произвела фурор потому, что была необычной прозой, хотя и не определяла состояния тогдашней словесности, где господствовала поэзия. Именно поэтому многие образцы тогдашней прозы несут отчетливые признаки стиховой, а не прозаической структуры (в том числе и «Бедная Лиза»).
Это заметили уже критики той эпохи. А. Бестужев пишет о «Словенских вечерах» В. Нарежного: «Проза его слишком мер-на и однозвучна»190190
Бестужев А. Взгляд на старую и новую словесность в России [1823] // Декабристы. Эстетика и критика. С. 100.
[Закрыть], как будто речь идет о стихе, что, впрочем, неудивительно, ибо Нарежный свой путь литератора начинал стихами. В прозе самого Бестужева нашли стиховую ритмику («Гофман и Марлинский несколько ближе к языку ежедневному, но и у них те места, которыми они хотят потрясти нервы читателя, требуют, чтобы произнесли их вслух, чтобы поняли их музыку; итак, и в них пение, а где пение, там и стихи»191191
Кюхельбекер В. Поэзия и проза [1835–1836] // Декабристы. Эстетика и критика. С. 357.
[Закрыть]), усмотрев влияние ритмической прозы Карамзина,192192
Коварский Н. Ранний Марлинский // Русская проза. С. 148–149.
[Закрыть] который даже «Историю Государства Российского» писал, невольно используя навыки стиховой речи. Напомню однажды цитированное: «…Слишком уж приметно в нем желание гармонии, видно усилие искусства, и это усилие вводит Карамзина в утомительное однообразие: применившись к нему, можете даже наперед указывать на его падения риторические, бить такт при чтении…»193193
Полевой Н. Очерки русской литературы. Ч. 1. С. 140.
[Закрыть].
Таковы особенности прозы многих и многих писателей, пришедших к прозе от стиха, воспитанных в эстетической атмосфере стиховой культуры. «Родство со стихом еще чувствуется в прозе Гоголя и Тургенева, действительно, и начинавших со стихов [Гоголь – поэмой “Ганц Кюхельгартен”, Тургенев – поэмой “Параша”. – В. М.]. Проза Толстого, Лескова и Достоевского развивается уже вне всякой связи со стихом – более того, она внутренне враждебна стиху. Это не частный случай, а своего рода закон»194194
Эйхенбаум Б. М. Проблемы поэтики Пушкина [1921] // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. С. 163.
[Закрыть].
Закон этот обладает еще одним признаком – волнообразным повторением, о чем говорилось во Введении и о чем не сказал Эйхенбаум.
В ХХ столетии ситуация повторится, когда от стиха начнут переходить к прозе: многие известные прозаики начнут свои литературные карьеры стихами: Д. Мережковский, Бунин, А. Белый, В. Набоков, К. Большаков, А. Платонов, С. Заяицкий, С. Клычков. Так же ритмизуется прозаическое повествование, как это наблюдалось в начале ХIХ в. («Пламень» П. Карпова, проза А. Белого, Пильняка, Вс. Иванова). Даже такой «нестиховой» талант, как М. Горький, пробует себя в стихах («Девушка и смерть», «В Черноморье», «“Баллада о графине Элен де Кур-си…”, ритмическая проза «Песни о Соколе» и «Песни о Буревестнике», поэма «Человек»).
В. Набоков (если оставаться в границах закона) тоже шел к прозе от стиха. И тоже, как обычно, его проза приходится на время перехода к ней от стиха, следовательно, в прозе его должны быть явными признаки языка, а не конструкции. В самом деле, он и не пишет больших романов, и в написанных очень внимателен к языку. Когда он почувствовал как художник, что возможности языка исчерпываются, он написал не новый по конструкции роман, а перешел на другой язык и стал писать по-английски.
В таком контексте показателен опыт обэриутов (группа ОБЭРИУ возникла в 1927 г.). Их поэтическая деятельность прекратилась не только вследствие государственных репрессий, но потому, что угасала эстетическая энергия стиха. Вернувшись из ссылки осенью 1932 г., Хармс обращается к прозе, и, как уже наблюдалось в истории русской литературы, подобный переход сопровождается работой с ее малыми формами, далеким аналогом каковой я рассматриваю «Повести Белкина». Хармс пробует создать новую прозу из фрагментов, не связанных между собой, как это делал Пушкин в «Повестях». Кажется неслучайным, что в прозаических вещах Хармса видное место занимают «биографические» пародии на Пушкина и Гоголя: первый, напомню, проделал сходный путь от стиха к прозе, и его проза тоже была «малоформатной»; второй, «инерционно» начав стихами, быстро отошел от них и в дальнейшем работал как прозаик.
Похожа литературная судьба и Сергея Заяицкого (1893–1930). Тоже начав поэзией (как многие прозаики, родившиеся между 1890 и 1900 гг.), анонимный сборник его стихов вышел в Москве в 1914 г., – он переходит к прозе и в качестве прозаика получает известность. Его повесть «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова» (1929) отчетливо тяготеет к «Повестям Белкина», хотя отличается от них жесткой связью частей внутри целого, обеспеченной путешествиями двух друзей. Столь же осознанным кажется мне и другой авторский ориентир на давно отошедшую литературную эпоху, в частности, на технику В. И. Даля, у которого одна из вещей называется «Вакх Сидоров Чайкин» (1843). Заяицкий в «Лососинове» именует повествователя (аналогичного пушкинскому Белкину) Сергеем Вакховичем Кубическим.
Заимствования из Даля (сознательные или нет, сейчас второстепенно) не редкий случай для второй переходной эпохи. В 1843 г. Даль публикует рассказ «Жизнь человека, или прогулка по Невскому проспекту». Один из персонажей, кроме того, что вел для забавы дневник, «собирал тщательно все записочки на хорошую ваксу, чернила, на порошки выводить пятна, клопов и прочее, работал также на досуге разные бумажные клееные изделья и сбывал их с рук…»195195
Даль В. И. Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М.;Л.: ГИХЛ, 1961. С. 133.
[Закрыть].
Эти занятия напоминают увлечения некоторых героев прозы К. Вагинова, тоже, разумеется, начинавшего стихами и, по его собственным словам, состоявшего «во всех петербургских поэтических объединениях»196196
Вагинов Константин. Стихотворения и поэмы. Томск: Водолей, 1998. С. 110.
[Закрыть]. В «Бамбочаде» (1931), например, Торопуло коллекционирует старинные кулинарные рецепты и вместе с друзьями учреждает «Общество собирания мелочей»: папиросных коробок, спичечных этикеток, старых меню. В неоконченном романе (еще одна типичная черта прозаиков переходной эпохи) «Гарпагониада» (1933) систематизатор Жулонбин и вовсе коллекционирует диковинки: ногти различных оттенков и размеров, куски хлеба с попавшими туда посторонними предметами, огрызки карандашей, локоны своей дочери.
И герой Даля собирает рецепты, но не гастрономические, а химические, и коллекционирует не сны, как персонаж Вагинова, а загадки – некую разновидность сна.
Упомянутые совпадения, сами по себе второстепенные, кажутся мне, однако, значимыми, свидетельствуя о «возвратности», свойственной развитию художественной формы. Тот же роман «Бамбочада» представляет собой сцены, связанные на живую нитку. Книга легко разбирается и собирается заново, с другим порядком сцен. Нет необходимой связи эпизодов, композиционной выстроенности (те же качества у прозы Хармса, который, правда, сразу ориентировался на фрагмент, но с мыслью о том, как и чем эти фрагменты соединить). Вагинов располагает эпизоды книги так, как ее герой коллекционирует фантики: вот один, вот другой, и как любой экспонат коллекции можно рассматривать в отдельности, так можно читать и любую сцену книги.
Подобная манера присуща, во-первых, чаще всего авторам, идущим к прозе от стиха (все они, как правило, не строители, и чем выше качество их поэзии, тем они менее удачливы в создании композиционно сложных вещей); во-вторых, свойственна переходным – от стиха к прозе – эпохам, когда идет интенсивное экспериментирование именно с прозой, и этот эксперимент готовит почву для ее будущих (композиционных) достижений.
Среди этих экспериментов наиболее яркой сейчас кажется упомянутая работа с фрагментами. «Фрагментирование» читается в стиховой практике футуристов: их поэзия завершает эпоху господства стиха, у них и поискать некоторые черты будущей прозы. Всего лишь в качестве примера:
На фоне привычного расположения слов в строке, конечно, бросается в глаза умышленная манера Маяковского: не только слово, но и его фрагмент – буква – образует отдельную строку. Такая фрагментация соответствует стремлениям начала ХХ столетия: возникает целая «литература фрагмента», когда отдельные части текста соединяются произвольно, так что их можно читать именно как фрагменты, в любом порядке. Такова трилогия В. Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья», короб 1 и 2.
Форма оказалась настолько притягательной, что ею пользовались даже в тех случаях, когда требовалась последовательная аналитическая работа, как, например, в книге И. Аксенова «Пикассо и окрестности» (М., 1918), первой, кстати сказать, на русском языке книге о художнике. Искусствоведческие суждения автора идут вперемежку с бытовыми наблюдениями и личными заметками в духе Розанова.
Через несколько лет известный критик выпускает книгу, составленную по принципу журнала ХVIII в. и состоящую из его собственных сочинений, разбитых по отделам («фрагментам») словесность, наука, критика, смесь. Порядок чтения, разумеется, произвольный198198
Эйхенбаум Б. Мой временник. Издательство писателей в Ленинграде, 1929.
[Закрыть].
Похожий композиционный прием критика обнаружила у современного писателя: «Задача Пильняка – монтировка автономных “кусков”, и в монтаже, в комбинации этих “кусков” – центральный эффект его работы»199199
Гофман В. Место Пильняка // Пильняк: статьи и материалы. Л., 1928. С. 11–12.
[Закрыть]. Время, прошедшее после этой оценки, подтвердило ее справедливость, и в наши дни она лишь повторяется на разные лады200200
См., например: Борис Пильняк: опыт сегодняшнего прочтения. М.: Наследие, 1995. В особенности статью: Голубков М. М. Эстетическая система в творчестве Бориса Пильняка 20-х годов. С. 3–10.
[Закрыть].
Появляется группа биографических книг, где документальные фрагменты жизни писателя либо вмонтированы в художественный текст (Ю. Тынянов «Кюхля», 1925, и «Смерть Вазир-Мухтара», 1928), либо так и даны фрагментами, соединенными хронологически (С. Гессен, Л. Модзалевский. «Разговоры Пушкина», 1929; В. Вересаев. «Пушкин в жизни», 1926–1927; «Гоголь в жизни», 1933).
Недавно возникший кинематограф с его монтажом усилил интерес к литературе фрагмента, и русские морфологи, объявившие изучение формы художественного произведения единственным объективным критерием его качества, увлеченно исследуют природу нового искусства (не указываю известных работ Ю. Тынянова, В. Шкловского и Б. Эйхенбаума о кино).
Вместе с литературой фрагмента развивается интерес к художественному документализму. Как в эпоху Пушкина новый русский роман, по мнению Б. Эйхенбаума, собирался из отдельных частей (кусков, фрагментов) – такова художественная задача «Повестей Белкина», – так сейчас роман «разбирается» на куски-фрагменты, чтобы заново собрать его, минуя фазу вымысла и тем самым создавая новый, якобы невымышленный текст.
Так думали теоретики объединения ЛЕФ (1922–1929). Суммируя свои исследования темы «документ в литературе», они выпустили в 1929 г. сборник «Литература факта». Если отбросить классовую нетерпимость и заблуждения, свойственные той эпохе (вроде представления о том, что воображение – пережиток дворянской и буржуазной культур; что беллетристика – опиум для народа; что, наконец, эстетика – устаревшие и понятие, и сама наука), речь шла о весьма и весьма традиционной практике обновления старых, потерявших эстетическую привлекательность приемов. С этой целью обратились к документу – тоже давно испытанный прием, достаточно вспомнить опыт литературы 20–30-х годов ХIХ в., когда русская проза практиковала всевозможные виды (в том числе имитацию) художественного документа: дневники, рассказы бывалых людей, этнографический очерк, записки путешественника; или опыт «натуральной школы» первой половины 40-х годов ХIХ в., когда Некрасов-прозаик пользовался объявлениями почти так же, как футуристы-поэты вывесками или текстами газетных анонсов, и то и другое – своеобразные варианты документа. Любопытно, что один из лефовских авторов сочувственно цитирует слова Вяземского о Жуковском, сказанные в 1821 г.: «Поэту должно иногда искать вдохновения в газетах»201201
Перцов В. Культ предков и литературная современность // Литература факта. М.: Федерация, 1929. С. 164.
[Закрыть].
К документу обращались самые разные писатели, с ЛЕФом не связанные, в частности, А. Мариенгоф в романе «Циники» (1928) и Б. Темирязев в «Повести о пустяках» (1934), причем первый соединяет в своем тексте документы современные с историческими. В конце ХХ столетия такие соединения разнородного материала назовут «аппликацией», «синэстезией».
Совпадения двух эпох проявлялось и в некоторых бытовых (или, точнее, творчески-бытовых) чертах поведения литераторов. Уже цитированный С. С. Уваров, член петербургской группы «Арзамас» (1815–1817), вспоминал: «Направление этого Общества или, лучше сказать, приятельских бесед, было преимущественно критическое. Лица, составлявшие его, занимались: строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, самостоятельной теории языка, и проч.»202202
Арзамас. Кн. 1. С. 37.
[Закрыть].
Ничего не меняя в этом утверждении, его целиком можно отнести к петроградской группе «Серапионовы братья» (1921–1929). Например, некоторые строки из воспоминаний Федина об этой группе кажутся или почти парафразом уваровских строк или повторением их смысла: «…Каждую субботу собирались мы в полном составе и сидели до глубокой ночи, слушая чтение какого-нибудь нового рассказа или стихов и потом споря о достоинствах и пороках прочитанного». «Наша работа была непрерывной борьбой в условиях дружбы». «Лунц говорил: <…> Традиция сюжета находится на Западе, мы должны привести эту традицию оттуда и оплодотворить нашу …прозу.., учась у того писателя, который владеет секретом действия, будь то Стерн или Дюма, Стивенсон или Конан Дойл…» И Федин прибавил: «Я встретил в мрачной комнате изобилие иронии, смеха, веселости, потехи…»203203
Серапионовы братья. Антология. С. 57, 58, 59.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































