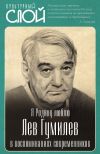Текст книги "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"

Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр: Документальная литература, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
С легкой руки Голлербаха имя Гумилева прочно вошло в “царскосельский миф”. Но насколько неуютно чувствовал себя сам Гумилев в этом городе! Видимо, есть некая закономерность в том, что почти все ссылки на царскосельские впечатления в его стихах “зашифрованы”. Их частичную расшифровку дает Ахматова в своих записных книжках. “Дворец великанов”, где “конь золотистый у башен, играя, вставал на дыбы…” – Большой Каприз, башня на мосту между Екатерининским и Александровским парками, “с которой мы (я и Коля) смотрели, как брыкался рыжий кирасирский конь, а седок умело его усмирял”, “ненюфары” из стихотворения “Озера” – это кувшинки в пруду между Царским Селом и Павловском. “Только говоря об Анненском, Гумилев, уже поэт-акмеист, осмелился произнести имя своего города, которое казалось ему слишком прозаичным и будничным для стихов…”
Говоря о Царском Селе (и не только о нем), ни на мгновение не надо забывать: многое из того, что сто лет спустя кажется овеянным романтикой, для людей начала XX века было прозаичным и будничным. И наоборот…
2
В основном жизнь Гумилева в 1908–1909 годы проходила все же за пределами Царского Села.
Выполняя, видимо, желание родителей, поэт поступает в Петербургский университет. Это было нетрудно: никаких вступительных экзаменов от человека, окончившего классическую гимназию, не требовалось.
В начале XX века в Санкт-Петербургском университете училось около шести тысяч студентов. Основную массу составляли радикально настроенные разночинцы-“моветоны”, зарабатывающие на обучение уроками или литературной поденщиной, щеголяющие неряшливым видом и раскованными манерами. Другую группу составляли “белоподкладочники” – выходцы из чиновничьих семей, сами готовящиеся к казенной карьере, подчеркнуто аккуратные, дисциплинированные и благонамеренные. Наконец,
в 1911–1915 появился новый тип студента: этакий мускулистый аристократ, спортсмен… Не рано, не торопясь, обычно в 11–12 часов появлялись студенты-аристократы в университете, для приличия посещали одну-две лекции, а в основном собирались для того, чтобы договориться о предстоящих встречах, балах и ужинах (Н. Олесневич. Господин студент Санкт-Петербургского императорского университета. СПб., 2002).
Гумилев не принадлежал ни к одному из этих типов. После двух лет в Латинском квартале русская студенческая жизнь в любых вариантах его не привлекала. О степени его равнодушия к формальному высшему образованию свидетельствует тот факт, что первоначально он поступил на юридический факультет (10 июля 1908 года) и лишь год спустя перевелся на историко-филологический.
Таким образом, в Египет Гумилев отправился, уже будучи студентом. Для поездок за границу требовалось “увольнение” от университетского начальства. С апреля по август 1910 года, на время поездки в Париж, Гумилев такое увольнение получил. Но ни перед одним из четырех африканских путешествий, совершенных в 1908–1913 годах, он увольнения, судя по сохранившимся документам, и не запрашивал. Вероятно, этот документ был обязателен к предъявлению лишь на западной границе – благонадежность граждан, отплывающих из Одессы в Турцию и Египет, вызывала меньшие опасения.
Для брака тоже требовалось разрешение ректора. Гумилев обратился за таким разрешением 5 апреля 1910 года. По правилам, прежде чем выдать эту бумагу, ректор должен был сделать запрос соответствующему градоначальнику о нравственном и политическом поведении невесты. Делался ли такой запрос в отношении Анны Горенко, нам неизвестно.

Портрет Николая Гумилева из студенческого дела. Фотография М. А. Кана. Царское Село, 1908 год.
Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Кроме того, в студенческом деле Гумилева[52]52
ЦГИАЛ (СПб.). Ф. 14. Д. 61522.
[Закрыть] есть следующий забавный документ (без даты):
Его превосходительству Ректору
от секретаря по студенческим
делам И. Е. Красникова
Рапорт
Имею честь известить Ваше Превосходительство, что студент Историко-филологического факультета Н. С. Гумилев, поступления 1908 года, обратился ко мне с просьбой 2 мая выдать ему метрическое свидетельство. Получив от меня разъяснение, что по существующим правилам документы на руки не выдаются, а могут быть лишь пересланы по указанию просителя в соответствующее учреждение, г. Гумилев позволил себе заявить, что это не порядок, а безобразие, в присутствии сидевших у меня гг. казначея университета и помощника секретаря.
Интересно, когда и зачем понадобилась Гумилеву метрика?
В основном такими документами и ограничиваются свидетельства об университетской жизни Гумилева. Академическим усердием он, мягко говоря, не отличался. Данных о его успеваемости у нас нет, но есть сведения о прослушанных лекциях. На юридическом факультете он посетил шесть лекций по истории римского права, четыре – по истории русского права, четыре – по политической экономии, четыре – по государственному праву, три – по статистике… Чуть больше говорит нам перечень предметов, которые посещал он на историко-филологическом факультете. Здесь его учителями были такие прославленные ученые, как И. А. Бодуэн де Куртене (введение в языкознание), С. Ф. Платонов (русская история), А. И. Введенский (логика). Но ни по одному предмету в 1909/10 году он не был больше чем на четырех лекциях. Посещал Гумилев просеминарии по латыни и греческому, пытаясь, видимо, восполнить свои скудные гимназические познания; зачем-то записался на семинары по темам “Панегирик Исократа” и “Шестая песнь Энеиды”. В шестой песни Энеиды описывается сошествие Энея в Аид, где дух Анхиза раскрывает перед ним его миссию и предсказывает грядущее величие Рима. “Панегирик” Исократа содержит призыв к походу против персов. Можно ли соотнести эти сюжеты с творчеством и биографией Гумилева? Вероятно, можно. Но тут уж мы ступим на путь произвольных интерпретаций, любезный некоторым литературоведам постструктуралистской эпохи. Скорее всего, мотивы, по которым Гумилев выбирал себе курсы для обучения, были совершенно случайными. На деле он, как мы уже заметили, университет удостаивал посещением не часто – во всяком случае, в эти годы.

Ходатайство Николая Гумилева ректору Санкт-Петербургского университета о разрешении на вступление в брак с Анной Горенко, 5 апреля 1910 года.
Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Сдавал ли он какие-то экзамены? Вроде бы да; сам Гумилев рассказывал о профессоре[53]53
По утверждению Г. Адамовича, это был профессор Илья Александрович Шляпкин, но последний читал в университете курс литературы Петровской эпохи (собственные его труды посвящены возникновению русского театра, царевне Наталье Алексеевне и Димитрию Ростовскому) – с чего бы ему экзаменовать Гумилева на тему творчества Пушкина?
[Закрыть], который на экзамене по русской литературе спросил его: “Как вы думаете, что бы сделал Онегин, если бы Татьяна согласилась уйти от мужа?” Эта история приводилась им как пример затхлого невежества и скудомыслия, царящего по крайней мере среди преподавателей-русистов.
В студентах Гумилев числился очень долго, хотя и с перерывом в год. 7 мая 1911 года он был отчислен из университета по причине невнесения платы за осенний семестр 1910 года (который он целиком провел в Абиссинии). Осенью 1912-го он был восстановлен в числе студентов, но 5 марта 1915-го уволен вновь “за невнесение платы за осень 1914-го”. Как известно, осенью 1914-го и зимой 1915-го Гумилев находился в действующей армии, но это не было сочтено смягчающим обстоятельством.
Был короткий период (о нем мы скажем ниже), когда Гумилев стал уделять больше внимания академическим занятиям. А в 1908–1910 годы университет из всех сторон его жизни был едва ли не наименее значительной. Куда важнее были другие вещи – дружеское общение и литературная работа.
Кривич вводит Гумилева в уже поминавшийся кружок “Вечера Случевского”. Когда-то, при жизни Константина Константиновича, на его “пятницах” бывали и Владимир Соловьев, и Фофанов, и молодой Бальмонт, и молодые Мережковские. С тех пор утекло много воды: в дни, когда туда попал Гумилев, кружок был оттеснен далеко на периферию литературной жизни. Невесть зачем Гумилев захаживал сюда до 1915 года – и один, и с Ахматовой. Никакого пиетета к нему здесь не испытывали, но терпели его – как “декадента строгого рисунка”. Известен эпизод (относящийся к апрелю 1911 года), когда стихи Гумилева (“И снова царствует Багдад, и снова странствует Синдбад…”) на миг пробудили мирно спящего поэта с завидным – причем подлинным! – именем Аполлон Коринфский. На фоне других членов кружка Коринфский был чуть ли не классиком: его стихи обильно включались в “традиционалистские” антологии и “Чтеца-декламатора”. Внешне он напоминал не столько Аполлона, сколько скифского или гуннского шамана: маленькие глазки, выступающие скулы, черные космы, густая бородища; да и родился он не в Коринфе, а в Симбирске – и был одноклассником В. И. Ульянова-Ленина. Главное же – что в свое время Коринфский (мы упоминали об этом) перевел “Старого морехода” Кольриджа. Стихи о морских странствиях, о Синдбаде недаром вывели из спячки этого посредственного стихотворца и смешного человечка…
Практически одновременно Гумилев входит в другой (куда более “актуальный”) литературный круг.
Уже в ноябре 1908 года он впервые появляется на Башне Вячеслава Иванова.
Об этой квартире в доме на углу Тверской и Таврической улиц, где впервые прозвучавшая “Незнакомка” Блока была продолжена в вечность пением паркового соловья, где Мережковский после обыска тщетно искал якобы украденную жандармами шапку, а молодой социалист-богостроитель Луначарский доказывал, что пролетариат есть современное воплощение платоновского Эроса, написано много; повторяться не хочется. Дни самых раскованных и безоглядных духовных поисков обитателей Башни (поисков, зачастую переходивших и в плотскую сферу, но непременно с мистическим “вторым значением”) миновали со смертью Диотимы – Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал, жены Вячеслава Иванова. Она в одночасье сгорела в 1907 году от опасной в ту допенициллинную эпоху скарлатины. В конце 1908-го вместе с “огненным Вячеславом” гостей Башни принимала молодая хозяйка – 18-летняя Вера Шварсалон, дочь Зиновьевой-Аннибал от первого брака, хрупкая и одухотворенная, не похожая на свою яркую и несколько тяжеловесную мать. Спустя три с половиной года она станет женой своего отчима; но пока об этой двусмысленной любовной истории, которая положит конец Башне, никто и не думает.
Когда-то юному читателю “Весов” казалось, что деятелей нового искусства должны связывать братские узы. До известного момента это было не так уж далеко от истины. Чувство духовного товарищества поэтов-символистов, конечно, существовало, и выражалось оно порою в формах, для современного человека странных. “Я помню, целовал его глаза (а глаза его – темные, прекрасные, подчас гениальные) неоднократно” (М. Альтман, “Разговоры с Вячеславом Ивановым”). Экзальтация, удивительная для взрослых гетеросексуальных мужчин (а Иванов, несмотря на общество “Гафиз” и прочие робкие эксперименты 1906–1907 годов, был от природы, конечно, чистейшим гетеросексуалом, как и Брюсов, о котором идет речь). Но уже к середине 1900-х стал намечаться раскол – точнее, целый комплекс расколов: между “старшими” и “младшими” символистами, между теми, кто видел в символе лишь средство передачи тонких ощущений и настроений, и теми, для кого символическая поэзия была средством мистического познания, между оккультистами и “новыми христианами”, между индивидуалистами и теми, кто мечтал о “соборном действе”. Так, в новой аранжировке, возобновлялись старые русские споры – споры сторонников “чистого” и ангажированного искусства, славянофилов и западников. Брюсов и Иванов были по большинству параметров в противоположных лагерях; после 1917-го интеллектуальный и духовный раскол дополнится политическим. В одном из тех же разговоров с Альтманом (происходивших, напомню, в 1920–1924 годы в Баку) Иванов скажет: “Еще посмотрим, что останется от Брюсова через десять лет… Он от отца лжи, он проституировал поэзию…” Почти столь же жесткие слова говорил он в эти годы Брюсову в лицо (в присутствии В. А. Мануйлова).

Вячеслав Иванов и Вера Шварсалон, начало 1910-х
Но пока (в 1908–1909 годы) Брюсов и хозяин Башни – соратники; разделяют их, казалось бы, лишь частности и, конечно, личное соперничество: каждый из них претендует на статус вождя русского символизма. С учетом этого любопытна явная ревность, с которой отнесся Брюсов к знакомству своего ученика с Ивановым. Гумилеву пришлось оправдываться: “Я три раза виделся с “царицей Савской” (как вы назвали Вячеслава Иванова), но в дионисийскую ересь не совратился. Ни на каких редакционных или иных собраниях, относительно которых вы меня предостерегали, не был…” – пишет он Брюсову 26 февраля 1909 года. Утопия “синтеза искусств”, священной мистерии, преображающей мир, вдохновлявшая Иванова и некоторых из его друзей – от Скрябина до Чурлениса, основывалась на по-своему интерпретированных идеях раннего Ницше, на “Рождении трагедии из духа музыки”. Но Гумилев вычитывал у своего любимого философа совсем другие вещи и интересовался другими его работами.
По этой или по иной причине, попытки молодого поэта строить общение с Ивановым почти в таком же почтительно-ученическом духе, как с Брюсовым, были в общем и целом неудачны. Гумилев, несмотря на уже не столь юный возраст и все сильнее дававшее о себе знать честолюбие, не торопился расставаться с ученическим статусом. Но у Брюсова он уже научился всему, чему мог. А Иванов, при всей своей “мудрости змииной”, при всей своей поэтической и человеческой талантливости, был слишком от него далек.
В мае 1909-го, в период наибольшего сближения, Гумилев посвящает Иванову сонет, стилизованный в манере старшего поэта:
Раскроется серебряная книга,
Пылающая магия полудней,
И станет храмом брошенная рига,
Где, нищий, я дремал во мраке будней.
Священных схим озлобленный расстрига,
Я принял мир и горестный, и трудный,
Но тяжкая на грудь легла верига,
Я вижу свет… то день приходит Судный.
Не мирру, не бдолах, не кость слоновью —
Я приношу зловещему пророку
Багряный ток из виноградин сердца.
И он во мне найдет единоверца,
Залитого, как он, во славу Року
Блаженно расточаемою кровью.
Все же здесь чувствуется и брюсовская выучка (“магия полудней”, “зловещий пророк” – так бы Иванов не сказал), и сложность отношения к новому мэтру, в чьем облике видятся Гумилеву “зловещие” черты. Иванов отвечает сонетом на те же рифмы, начинающимся так:
Не верь, поэт, что гимнам учит книга:
Их боги ткут из золота полудней.
Книжник и мастер “плетения словес” как будто предупреждает молодого стихотворца об опасности злоупотребления книжным учением – и противопоставляет свое солнечное “золото” его (или брюсовскому?) “серебру”.
С годами взаимоотношения поэтов менялись, иногда становясь теплее и ближе, иногда доходя до открытой враждебности. Перед войной, когда конфликт достиг апогея, Вячеслав Иванов раздраженно говорил С. К. Маковскому о вожде акмеистов: “Он глуп, да и плохо образован…” В “Разговорах…” Альтмана зафиксирован отклик Иванова на гибель Гумилева – своеобразный устный некролог, и тональность его совершенно иная:
Это был своеобразный, но несомненный поэт. Он был романтиком, конечно, и упивался экзотикой, но этот романтизм был у него не заемный, а подлинно пережитый… От его описаний действительно отдает морской пылью… Был он всегда безусловно храбр и по-рыцарски благороден.
Некоторых житейских и интеллектуальных сюжетов, связанных с Башней, нам еще придется коснуться в этой и следующей главе.
Ближе, чем с Ивановым, сошелся Гумилев с Михаилом Кузминым, на годы осевшим на Башне, в гостеприимной семье ее хозяев. Еще несколько лет назад никому не известный дилетант в литературе и музыке, Кузмин стремительно вошел в число ведущих мастеров “нового искусства”. Его появление на литературном небосклоне сопровождалось скандалом, о котором Гумилев был конечно же осведомлен. Одиннадцатый номер “Весов” за 1906 год был целиком отдан роману Кузмина “Крылья”, в котором (всего через одиннадцать лет после процесса Уайльда) “любовь, которая не смеет по имени себя назвать”, смело называла себя по имени. Гражданские свободы, которыми Россия была обязана революции 1905 года, дали неожиданные плоды. Шум, поднятый “Крыльями”, в сугубо литературном отношении далеко не лучшей книгой Кузмина, заслонил от широкого читателя частично напечатанные в том же году “Александрийские песни”. Но он не помешал истинным знатокам оценить по достоинству первую книгу Кузмина-поэта, “Сети”, появившуюся в 1908-м. Этой книге (как мы уже упоминали) суждено было стать одной из первых, отрецензированных Гумилевым в “Речи”. Рецензия его, надо сказать, довольно сдержанна:
Кузмин – поэт любви, именно поэт, а не певец. В его стихах нет ни глубины, ни нежности романтизма.
Его глубина чисто языческая, и он идет по пути, намеченному Платоном, – от Афродиты Простонародной к Афродите Урании…[54]54
Это место в рецензии Гумилева вызвало возмущение газеты “Последние новости”, “спутавшей Афродиту Уранию с Афродитой уранистов” (см. письмо к Брюсову от 15 июня 1908 г.). Уранистами (урнингами) в начале XX в. называли гомосексуалистов.
[Закрыть]Все принять, все полюбить без пафоса, смотреть на вещи как на милых бессловесных братьев, вот чего хочет его сердце…
Но Кузмина все же нельзя поставить в число лучших современных поэтов, потому что он является рассказчиком только своей души, своеобразной, тонкой, но не сильной и слишком далеко ушедшей от тех вопросов, которые определяют творчество истинных мастеров.

Михаил Кузмин, 1910-е
Тем не менее после первой же личной встречи, случившейся 5 января 1909 года в Знаменской гостинице, между поэтами завязываются добрые, а затем и дружеские отношения. Как известно, Кузмин тридцать лет вел обстоятельный дневник – жизнь его подробнейшим образом задокументирована. Потому мы точно знаем, что Гумилев навещал Кузмина (а значит, и Иванова) на Башне 26 января, 13 февраля, 4, 5, 7, 14 и 24 августа, 3, 19, 24, 29, 30 сентября, 3 октября; Кузмин же навещал Гумилева в Царском Селе 10 и 23 января, 9 августа, 27 сентября, 4 и 18 октября. Кузмин, без сомнения, должен был привлечь Гумилева своим прославленным обаянием, чувством стиля, бытовым артистизмом и экзотичностью. (Сам Кузмин четверть века спустя так – не без иронии – описывал себя в период Башни:
Небольшая вьющаяся борода, стриженные под скобку волосы, красные сапоги с серебряными подковами, парчовые рубашки, армяки из тонкого сукна, в соединении духами, румянами, подведенными глазами, обилие колец с камнями, мои “Александрийские песни”, музыка и вкусы – должны были производить ошарашивающее впечатление… Я являлся каким-то задолго до Клюева эстетическим Распутиным.)
Они были на “ты”, и позже, под конец жизни, Гумилев относился к Кузмину с немного насмешливой нежностью.
Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет. А Мишеньке… – три. Я помню, – рассказывал Гумилев, – как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики и тем более взрослые так уже не могут разговаривать о сладком – с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением (В. Н. Петров).
Но в творческой сфере поэтов многое разделяло.

Сергей Ауслендер, конец 1900-х —начало 1910-х. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Дружеские отношения складываются у Гумилева и с начинающим прозаиком Сергеем Ауслендером (1886–1943), племянником и своего рода “литературным оруженосцем” Кузмина. По словам Ауслендера, он и Кузмин хотели познакомиться с Гумилевым, заинтересовавшись “его рассказами в газете “Речь”. Вероятно, не только рассказами (в “Речи” в июне-июле 1908 года были напечатаны “Завещание”, “Черный Дик” и “Последний придворный поэт”), но и рецензией на “Сети”. Осенью 1908-го Ауслендер узнал в редакции журнала “Весна”, что Гумилев в Петербурге. (Этот журнал, издаваемый Н. Г. Шебуевым, первоначально публиковал стихи и прозу довольно известных авторов – от Куприна до Кузмина, – но примерно с третьего-четвертого номера превратился в не слишком требовательную стартовую площадку для молодых стихотворцев и прозаиков, по типу и статусу напоминающую нынешние сайты Стихи.ру и Проза.ру. Гумилев напечатал там стихотворения “Старый конквистадор” и “Камень” и рецензию на книгу Бальмонта.) Ауслендер выразил желание познакомиться с Гумилевым – и тот навестил его. По ходу разговора
я сказал, что вечером буду на среде Вячеслава Иванова, и он выразил тоже желание поехать со мной… Я сказал Гумилеву, что надо позвонить по телефону и спросить разрешения приехать. Он это принял обиженно, сказав, что он поэт и кому же, как не ему, быть на средах.
Я вызвал Веру Константиновну… и хотя она говорила, что неудобно приезжать без предупреждения, но я все-таки упросил ее, сказав, что Гумилев сидит сейчас у меня, такой чопорный, и что трудно отказать ему.
Таким образом, с Ауслендером Гумилев познакомился раньше, чем с Кузминым, – не позднее 26 ноября 1908 года, и именно Ауслендер впервые ввел его на Башню.

Автограф стихотворения М. Кузмина “Надпись на книге”, посвященного Н. Гумилеву, август 1909 года.
Институт мировой литературы (Москва)
Войдя в круг Кузмина, Гумилев столкнулся с царившим здесь духом легкомысленного сплетничества, иногда невинного, иногда не слишком. Внешность и манеры некрасивого и чопорного царскосела были легким предметом для злословия. По словам Ауслендера, “кто-то из этой компании насплетничал ему, будто я рассказывал, как он приехал ко мне ночью, что у него есть стеклянный глаз, который он кладет в стакан с водой. Страшно глупо!”[55]55
Сплетня основывалась на известном косоглазии Гумилева. Позже некоторые из его товарищей по военной службе искренне считали, что его правый глаз – стеклянный и что именно поэтому он стреляет с левого плеча, а не с правого, как все.
[Закрыть]. Дело, однако, чуть не дошло до дуэли. Но Ауслендер и Гумилев помирились – более того, именно с этого времени началась их дружба. “Его не любили многие за напыщенность, но если он принимал кого-нибудь, – писал Ауслендер, – то делался очень дружным и верным, что встречается, может быть, только у гимназистов, в нем появлялась огромная нежность и трогательность”.
Мир Кузмина был “параллелен” миру Гумилева. Кузмин чем-то привлекал его, в чем-то оставался чужд, но во всяком случае своим существованием не мешал. Этого нельзя сказать о другом поэте, которого Гумилев всю жизнь несколько недоуменно (а иногда и раздраженно), но искренне любил, зависть к которому безуспешно старался подавить, который был то его добрым знакомым, то соперником, то высокомерным недругом. Речь, конечно, об Александре Блоке. Первые книги двух поэтов вышли почти одновременно, но в рецензии на “Путь конквистадоров” Брюсов в числе повлиявших на юного Гумилева мастеров упоминает уже ставшего знаменитым автора “Стихов о Прекрасной Даме”. К 1908 году стихи 28-летнего Блока были знамениты настолько, что (по отдающему анекдотом утверждению Ю. П. Анненкова) петербургские проститутки кокетливо называли себя “незнакомками” и предлагали потенциальным клиентам испытать “электрический сон наяву”.
Первая личная встреча Гумилева и Блока должна была произойти именно в это время – в конце 1908-го или в 1909 году. Как раз к первой половине 1909-го относится, видимо, краткий роман Гумилева с юной поэтессой Елизаветой Пиленко, впоследствии вышедшей замуж за его родственника Дмитрия Кузмина-Караваева, а еще позже, в другой жизни, ставшей монахиней в миру и героиней Сопротивления. Напомним, что именно Елизавете Пиленко посвящено написанное несколькими месяцами раньше стихотворение Блока “Когда вы стоите на моем пути…”. Творческое соперничество с Блоком – для Гумилева почти всю жизнь непосильное – подстегивалось подсознательным эротическим соперничеством. Слишком многие женщины, небезразличные Гумилеву, втайне (или не втайне) тосковали по “сероглазому королю” русской поэзии.
Список новых знакомых Гумилева в конце 1908 – начале 1909 года очень длинен. Помимо писателей (среди которых должно назвать еще и А. М. Ремизова), он включает и художников, и людей театра. Достаточно сказать, что именно в это время Гумилев знакомится с Мейерхольдом и с Евреиновым. В феврале он (вместе с Кузминым, Ауслендером, Потемкиным и Городецким) принимает участие в спектакле Евреинова “Ночные пляски”, в котором “все роли исполнялись литераторами”.

Петр Потемкин, конец 1900-х —начало 1910-х
Сергей Городецкий – вот еще один поэт, с которым Гумилев прежде был знаком заочно и которого теперь узнал лично. Таким образом, к февралю 1909 года Гумилев был знаком с двумя из пяти своих будущих сподвижников по группе акмеистов. Разумеется, роль Ахматовой и Городецкого и в жизни Гумилева, и в русской поэзии несопоставима.
Третьим из пяти (по порядку появления в жизни Гумилева) был Мандельштам. Встреча с ним состоялась, если верить записям Лукницкого, весной 1909 года – вероятнее всего, на Башне. Лукницкий основывался на словах самого Мандельштама; Е. Е. Степанов, однако, предполагает, что знакомство могло произойти годом раньше, и основывается на строках из стихотворного наброска Мандельштама, написанного в 1912 году и посвященного Гумилеву: “Но в Петербурге акмеист мне ближе, чем романтический Пьеро в Париже”. В самом деле, трудно предположить, что, одновременно живя в Париже (Мандельштам был там с конца 1907-го по июль 1908-го) и хотя бы эпизодически слушая лекции в Сорбонне, два молодых поэта по крайней мере не видели друг друга. Впрочем, имеет ли это значение? И в Париже, и уж тем более на Башне, они едва ли были друг другу в тот момент особенно интересны. Впечатлительный 18-летний еврейский мальчик, одержимый “тоской по мировой культуре”, попавший во взрослую и важную компанию, – и постоянно самоутверждающийся 23-летний, “уже взрослый”, юноша: если с кем-то им и хотелось общаться, то не друг с другом. По словам Мандельштама, до 1912 года они “встречались не особенно часто”.
До акмеизма и Цеха поэтов было далеко. Пока, в 1909 году, близкое литературное окружение Гумилева составляли в основном его парижские знакомцы – Толстой, Волошин. Еще одним его приятелем стал (ненадолго) его сверстник Петр Потемкин (1886–1926), к двадцати двум годам успевший заслужить скандальную славу. Имя Потемкина упоминалось в связи с историей “кошкодавов”, раздутой в 1908-м петербургской желтой прессой. Речь шла о то ли обычном кутеже, то ли черной мессе, во время которой молодые “декаденты” якобы истязали невинных домашних животных. Потемкин, человек огромного роста и богатырского сложения, запойный пьяница, который, по словам Мандельштама, “даже трезвый и приличный походил на вымытого до белизны негра”, отдал дань своеобразному и необычному для эпохи типу урбанизма. Он воспевал страсти писарей, приказчиков, парикмахеров – и даже манекенов в витринах. Его первая книга “Смешная любовь” имела успех, и Брюсов в рецензии на “Романтические цветы” противопоставлял раннюю славу Потемкина безвестности Гумилева. Дальнейшая литературная судьба Потемкина связана была с “Сатириконом” и театром “Кривое зеркало”; с кругом акмеистов его сближала лишь тайная влюбленность в Ахматову.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!