Текст книги "Смутные годы"
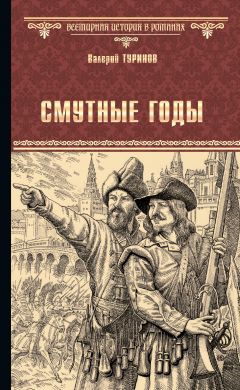
Автор книги: Валерий Туринов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Валуев был вне себя от ярости. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы вырваться из осады: второй раз гетмана не провести. И совсем его добили рассказами дозорные, которые вернулись из-под Клушино… Ах! Как ловко гетман, дьявол, обманул его: из-под самого носа ушёл на битву и вернулся назад. А он и ухом не повёл!.. И этим он был унижен больше всего…
Переговоры Валуева и Елецкого с Жолкевским продолжались несколько дней. В течение их они выработали все условия договора, на каких были согласны сдать острожек и целовать крест Владиславу, как московскому государю. В свою очередь гетман целовал от имени всего королевского войска святой Животворящий Крест господа Валуеву и Елецкому, их войску и всем сословиям московских людей и обязался выполнять все статьи договора. Они скрепили подписями договор. Жолкевский присоединил к себе гарнизон острожка и двинулся дальше, к Можайску.
* * *
– Но-о!.. Куда, собака, куда! – затравленным голосом взвизгнул князь Дмитрий и ударил пятками по бокам жеребца. – Пошёл! Но-о, но-о!..
Красивый, серый в яблоках жеребец упёрся и не хотел идти. Он чувствовал инстинктом, что впереди было гиблое место, болото. В него Шуйский угодил при бегстве из-под Клушино и теперь в одиночку пробирался по нему. Не видя ничего залитыми потом глазами, он остервенело захлестал жеребца толстой плёткой. Тот заржал, сунулся вперёд и встал, увяз по колено в зелёной тине.
Князь Дмитрий злобно вытянул его плёткой по морде, по глазам… Раз, раз!..
– Да иди же ты…!
Жеребец захрапел, оскалился, но упёрся и стоял.
Нещадным боем князь всё-таки вынудил его сделать ещё один бросок. Жеребец рванулся вперёд, провалился по брюхо и… пошёл, пошёл быстро в зловонную, взбурлившую пузырями жижу…
Ноги князя ушли в трясину, и он почувствовал мягкую хватку, словно кто-то спеленал их. Под сердце у него ударил животный страх: от беспомощности и одиночества. И он суматошно задёргался в седле, стараясь освободить ноги.
От этого он ещё быстрее стал погружаться в тину вместе с конём…
Он натужно вскрикнул, рывком выдернул из сапог ноги, мешком упал с седла в грязь и, цепляясь за какие-то ветки, пополз… пополз прочь от жеребца…
Он добрался до твёрдой земли, встал, обернулся назад и встретился взглядом с глазами обречённого животного, глядевшего на него из трясины. Затем он увидел, как, медленно погружаясь, в тине сначала скрылись попона и седло из алого бархата с золотой оправой… На какое-то мгновение на поверхности ещё задержалась морда жеребца… Но вот и она, жалобно заржав, исчезла под зелёной ряской.
Князь Дмитрий всхлипнул, отвернулся и потащился босиком по болоту. На другой его стороне он долго плутал по сырому кустарнику, поободрался и изранил ноги. Наконец он вышел в светлый березнячок, свалился на шелковистую ярко-зелёную траву и долго лежал.
Отдохнув, он поднялся и поплелся лесом, держась на восход солнца.
Версты через три он наткнулся на крестьянскую деревушку. Опасливо оглядев её с опушки и не заметив ничего подозрительного, он направился к крайнему двору и подле избы-бильдяги [21]21
Изба-бильдяга – изба из неотёсанных брёвен.
[Закрыть]столкнулся с приземистым мужичком.
Тот, увидев его, испуганно замер.
Одетый в дорогой, алого цвета кафтан, поверх которого отливала стальным блеском кольчуга, измазанный с ног до головы болотной жижей, с воспалёнными глазами и всклокоченной бородой, с засохшими в ней комками грязи, он был страшен, жалок и в то же время смешон.
– Хлеба!.. – прохрипел князь осевшим голосом.
Но мужик не двигался, стоял, открыв рот, ничего не соображая от страха.
Князь Дмитрий широко, по-бабьи, размахнулся и влепил ему оплеуху. И мужик сразу же исчез в избушке. Оттуда он выскочил с большой краюхой хлеба. Князь Дмитрий вырвал у него из рук краюху и жадно вцепился в неё зубами.
Прожевав кусок, он схватил мужика за рукав драной рубахи и пихнул к сараю:
– Коня, быдло! Коня! Зашибу!..
Из сарая мужик выбежал со старой лошадёнкой, сноровисто седлая её, буквально на бегу. Подбежав к незваному гостю, он подал ему повод уздечки.
Князь Дмитрий, взяв уздечку, попробовал было усесться на лошадку, но не смог.
– А ну, помоги! – крикнул он мужику.
Тот проворно подтащил к лошадке колоду.
Князь Дмитрий взгромоздился на колоду, ухватил лошадёнку за костлявую холку и закинул на неё одну ногу: «Да помоги же, быдло!»
Мужик подсадил его в широкий зад, и он уселся на лошадёнке. Порывшись в гамалейке на шее и не найдя мелочи, он вытащил золотой[22]22
Золотой – монета достоинством примерно в один рубль.
[Закрыть], кинул его на землю: «На, бери!»
Поддав голыми пятками по худым бокам лошадёнки, он выехал со двора, не видя, как мужик схватил монету, зажал в кулак и стал истово кланяться вслед ему.
К ночи он добрался до монастыря Пресвятой Богородицы под Можайском. Монастырская братия встретила его холодно. Но он, окончательно сломленный, уже не замечал таких тонкостей. Суетливо, ругаясь, он раздобыл в обители хорошего коня и сапоги, почистился и приободрился.
Здесь-то его и разыскали Голицын и Мезецкий. И вместе с ними он выехал в Можайск.
При въезде в город Шуйского и его воевод плотным кольцом окружили посадские.
– Князь, что нам-то будет?!
– Дмитрий Иванович, – обратился к Шуйскому какой-то дьяк, – как быть, скажи, народ просит? Ворота закрывать или с хлебом-солью выходить?
Сотни глаз жадно устремились на него, на князя Дмитрия. Он же ничего не мог сказать им. Ему, по натуре мягкому и сердобольному, было жаль этих людей. Говорить же им правду он опасался, зная, на что она может толкнуть их, простых, чёрных, ослеплённых страхом.
– Милости просить, милости и сострадания… – негромко пробормотал он, сам не заметив, как это слетело у него с языка.
– Кого?! – вырвался воплем крик из толпы.
– Сильному поклониться, гетману поклониться!..
За городом его отряд наткнулся на московских стрельцов. Впереди них он увидел сокольничего, искренне обрадовался, что тот здоров и невредим.
– Гаврило Григорьевич, дорогой ты мой! Жив, жив! А то я уж, грешным делом, думал, не увижу более!
Он помнил, как в суматохе сражения пытался удержать от развала войско и послал сокольничего к шведам. Те уже шатнулись к гетману. А дальше?..
– Ох! Дмитрий Иванович, знал бы ты, что пришлось вытерпеть! Такого и врагу не пожелаю!
Князь Дмитрий, подбадривая, участливо сказал ему:
– Ничего, Гаврило Григорьевич, терпи, терпи. Я тоже терплю…
– Тут болит! – стукнул Пушкин себя кулаком в грудь. – За неё болит, за матушку! – всхлипнул он и мотнул головой, показывая вокруг. – Доколь же это будет?!
Князь Дмитрий посочувствовал ему и тому, что пришлось перенести и чудом, точнее своей расторопностью, остаться в живых. Однако он никак не мог взять в толк, почему его беспокоит всё государство. И вместо того чтобы радоваться, что остался жив, он бьёт себя в грудь и плачет о том, о чём следует плакать ему, Дмитрию Шуйскому.
– Полно, Гаврило Григорьевич, казнить себя, в чём нет вины!
Сокольничий вытер слёзы. Он не стеснялся их: ни сейчас, ни раньше, часто видя, как люди выше его рангом тоже не утруждают себя скрывать свои слабости.
– Хорошо, Дмитрий Иванович, хорошо, – вздохнул Пушкин. – Ты куда сейчас? Не на Москву ли?
– Домой, – коротко ответил Шуйский и, чтобы сразу всё прояснить, добавил: – Одному мне надо, одному, к себе на двор. Со мной опасно. Ты московских людей знаешь. Не к добру еду… Ты уж сам о себе порадей…
Гаврило Григорьевич понял всё. Ещё минуту назад готовая было сорваться с языка просьба добираться вместе до Москвы улетучилась. Сейчас князю Дмитрию было не до него. Он сам был в большой опасности. Ему нужно было думать о том, как выпутаться из этой страшной ямы, в которую может затянуть весь род Шуйских.
– Счастливой дороги, Дмитрий Иванович! И да поможет тебе Господь Бог! Смилуется и отведёт беды, попомня наши страдания!
Князь Дмитрий безнадёжно махнул рукой, горько улыбнулся, тронул коня и на прощание бросил: «Спасибо на добром слове! За последние дни впервые слышу!»
Они разъехались в разные стороны.
Гаврило Григорьевич спохватился, крикнул Шуйскому, что Барятинский жив, что он видел его. Но тот уже не услышал этого. И он повернул в стан русского войска, чтобы захватить там своих холопов с обозом и выбираться к себе на двор.
А князь Дмитрий не рискнул показаться в полках. С небольшой группой дворян и холопов он свернул за городом на лесную дорогу, обогнул стороной войсковой лагерь и направился к Москве.
Разбитые полки Шуйского простояли под Можайском два дня. Ушли по своим дорогам замосковные люди[23]23
Замосковье – районы севернее Москвы, в современной Московской обл.; десятни (дословно) – списки городовых дворян и боярских детей, т. е. дворяне и боярские дети, призванные в данный момент на службу. Понизовье – район по Волге ниже Казанского ханства.
[Закрыть]. За ними двинулись вологодские и новгородские десятни. Следом ушли понизовые. Войско расползлось по волостям и исчезло.
Путь на Москву Жолкевскому стал открытым.
Домой, на свой двор в Китай-городе, князь Дмитрий пробрался ночью, тайком, с пятницы на субботу, боясь гнева московских чёрных людей.
* * *
Войско королевского гетмана Жолкевского, разноликое, как орда кочевых народов, медленно двигалось к Москве, нигде не встречало сопротивления и в середине июля 1610 года подошло к Можайску.
Весть об этом мгновенно разнеслась по городу. И за посад, на большую Смоленскую дорогу, высыпали горожане. Явились и белые попы в золотом шитых ризах, и купцы гостиной сотни. Люди волновались, настороженно всматривались в даль, где темнел сосновый бор, за которым исчезала дорога на запад, на неспокойную тревожную окраину Московского государства.
Последним подошёл, бесцеремонно растолкал всех и встал впереди воевода города Иван Матвеевич Бутурлин, средних лет, внушительных размеров мужчина, неулыбчивый и серьёзный по натуре. Рядом с ним сразу же пристроился, как будто прилип, дьяк Патрикей Носонов, серый лицом, с припухшими глазами, назначенный сюда городским дьяком вот только что из Поместного приказа.
За воеводой же, притаптывая сапожищами пыль, переминался на месте плотного сложения купец гостиной сотни Афоня Микунков, с окладистой бородой и белым полотенцем через плечо, караваем хлеба и солью, красный от волнения и стопки водки, которую махнул для храбрости поутру.
По толпе, не выдержавшей тягостного ожидания, забродил смущающий говорок.
В этот момент из-за леса показались передние ряды конных. И в толпе зашевелились, затолкались, сдавленно вскрикнули: «Идут!»
Бутурлин заволновался тоже, как и все в толпе, загудел басом, стал приободрять и выстраивать мужей города, пряча в крике свои страхи от неизвестности, что надвигалась сейчас на них на всех и на его город.
– Подтянись, подтянись, славяне! Что животы распустили? Чтоб вас зараза поела…!
А навстречу им уже пылила отборная рота гусар. За ней покачивалась на ухабах карета. Подле неё гарцевали два ротмистра, а далее бесконечной вереницей выползали и выползали из-за леса полки.
Карета гетмана подкатила к толпе и остановилась. Пахолики распахнули у неё дверцу и откинули ступеньку. Из кареты вышел Жолкевский. К нему тут же подошли полковники, молодцевато соскочившие с коней.
Бутурлин, не ожидавший такой большой свиты полковников, что окружила гетмана, поначалу замялся было…
Жолкевский уловил это, понял его состояние и, чтобы поддержать его, кивнул головой ему, как старому приятелю: «Доброго здравия, пан воевода!»
Бутурлин прокашлялся: «Кха… Кха», – скрывая за этим своё минутное замешательство. Затем он солидно обратился к гостям:
– Его королевского величества гетмана Станислава Станиславича с товарищами приветствую я, Иван Бутурлин, воевода города, и все жители Можайска!
Он легонько подтолкнул плечом стоявшего рядом Микункова. Тот шаркнул сапожищами в пыли, шагнул вперёд на негнущихся от слабости ногах и поднёс хлеб-соль гетману.
Жолкевский дружески подмигнул растерянному купцу, мол, не робей, отломил небольшой кусочек от ржаного каравая, пухлого и тёплого, только что вынутого из печки, приятно пахнущего. Обмакнув его в мелко размолотую соль, он с удовольствием съел его.
И он поклонился в пояс им, горожанам. Заметив, что это понравилось им, он широко улыбнулся и свободно заговорил на сносном русском языке, чтобы этим ещё больше расположить их к себе:
– От наияснейшего господаря Сигизмунда III, короля польского и великого князя литовского, я, польный гетман Станислав Жолкевский, приветствую вас как моих приятелей! Его королевское величество, как государь христианский и наиближайший родич государя московского, вспомнив братство, с прадедов наших идущее, и сжалившись над гибнущим в раздорах Московским государством, пришёл к вам королевским могуществом не для того, чтобы воевать или проливать вашу кровь! А дабы с Божьей помощью оборонить от всех недругов и избавить от конечного разорения! И вы, Можайского города всякие люди, встречая нас хлебом-солью, положили общему делу добрый почин! Наияснейший господарь Сигизмунд III милостиво принимает вас под защиту державы своей! И согласен дать на Московское царство королевича Владислава, уступая великим просьбам боярина Михаила Салтыкова и митрополита Филарета с товарищами! И быть ему на Руси, как прежние природные государи были! И править во всём, как и они правили!
Он закончил свою речь, взглянул на воеводу и стоявших с ним людей, предоставляя им возможность действовать дальше.
Жолкевский улыбнулся воводе и учтиво предложил ему сесть в свою карету:
– Иван Матвеевич, прошу, прошу сюда!
Он считал Бутурлина уже своим приятелем. Тот первым из воевод приехал к нему в Царёво Займище с челобитной о мирной сдаче города после Клушинского сражения. Он принял его, любезно выслушал, угостил напитками. Ещё молодой, неглупый и уже умудрённый жизнью воевода понравился ему.
С кавалькадой всадников его карета подъехала к воротам крепости и остановилась. Он вышел из неё, чтобы, по уже выработанной привычке, самому осмотреть крепостное сооружение, подошёл к глубокому рву подле каменной проезжей башни… Через ров был перекинут из брусчатки мост, а за ним тёмным провалом зияли ворота с поднятой решёткой. Окружённая валом и невысокой бревенчатой стеной, обмазанной глиной, крепость была похожа на обычный замок: большой, серый, какого-нибудь худородного феодала. Её можно было принять и за монастырь в глухом русском городишке, каких он насмотрелся под Псковом…
«Ещё в походах с Замойским», – подумал он.
– Станислав, пожалуй, удобнее места для ставки не найти, – прервал его воспоминания Парыцкий.
Жолкевский, у которого перед мысленным взором мелькнуло было лицо канцлера, его друга и покровителя, машинально кивнул головой:
– Да, да!.. Все свободны, устраивайтесь! – Затем он спохватился: – Да, панове! Учтите, будут жалобы горожан на ваших людей – буду наказывать, и строго!
Он сел в карету и въехал в ворота крепости. Карета прокатила с десяток саженей и остановилась подле воеводских хором. Он вышел из кареты. За ним из кареты вышел Бутурлин.
Жолкевский в это время внимательно рассматривал внутри крепость: её большой двор, застроенный жилыми избами. Над ними, в центре крепости, возвышался каменный храм. На другом же конце двора виднелась зелейная изба, а около съезжей стояли амбары.
– Пан гетман! – обратился Бутурлин к Жолкевскому. – Ты не будешь знать нужды в стенах этого города! Посадские и всякие приказные без лиха примут, как желанного гостя, если пришёл оберегать от сицевых воров и шкоды гулящих!
Жолкевский улыбнулся, поблагодарил его за это доверие, попрощался с ним. Он прошёл в воеводскую избу, отведённую ему под ставку, и облегчённо вздохнул, уже устав от надоедливых хозяев.
А в это время за воротами крепости уже вовсю шло устройство полков. Григорий Валуев разместился с войском в походных палатках около Васильевской слободы, близ устья Можайки. Заруцкий с донскими казаками получил от квартирмейстеров гетмана место подле Алексеевской слободы. В походе его казаки сторонились даточных и стрельцов Валуева, не доверяли им, поэтому расположились и сейчас подальше от них. Отдельно встал и Урусов. Рядом с ним устроился Ураз-Мухаммед с касимовцами: они раскинули шатры вдали от стен города. Наёмники же полковника Линке выпросили себе место ближе к гетманским ротам.
На следующий день в ставку к Жолкевскому явился ротмистр Борковский.
– Пан гетман, к вашей милости добивается на приём поручик моей роты Маржерет, – доложил тот ему.
– А-а, этот ваш француз?!
– Да, пан гетман! Он служил государю Борису, потом царю Димитрию. Он просит выслушать его по личному делу. Под Клушино он показал себя с самой лучшей стороны. Редкий удалец! Среди наших равным ему будет разве что Лисовский.
Жолкевский вспомнил уже немолодого, подвижного, крепкого телосложением человека, каким он увидел Маржерета в битве под Клушино. Тогда он мотался со своей ротой с правого крыла, от Зборовского, на другое крыло, в полк Струся, пятигорцы которого топтались на месте и никак не могли выбить шведов из укреплений. И дважды он столкнулся с тем самым поручиком, запомнил броское выразительное лицо с живыми светлыми глазами.
– Хорошо, я приму его.
Ротмистр вышел от него, и тут же в комнату вошёл Маржерет, молодцевато вытянулся: «Доброго здравия, пан гетман!»
– Проходите, поручик, – пригласил его Жолкевский. – Я слушаю вас.
– Ваша милость, как вы знаете, я долго служил при московском дворе. И у меня остались там добрые приятели. Искренне желаю быть полезным вашей милости: в чём сочтёте нужным, – кивком головы выразил Маржерет полную готовность служить ему.
Ещё до Клушинской битвы Жолкевский начал засылать в Москву своих агентов. Но то были мелкие сошки. А ему нужен был человек, хорошо известный наверху, в среде бояр. На русских же, которые шли с ним в войске, он не полагался в тайных делах. Правда, в Москву отъехал из-под Смоленска Михаил Салтыков с особым поручением Сигизмунда. О чём его осведомили письмом из королевской канцелярии. Но то был человек короля. Ему же нужен был свой, для переписки с Мстиславским. Маржерет подходил для этого как нельзя лучше. Мысль использовать его появилась у него раньше. Но он выжидал, чтобы тот первым сделал шаг.
– Хорошо, поручик. Я подумаю о вашем предложении, – ответил он, намереваясь испытать его.
Глава 8
Григорий Волконский
Поражение под Клушино повергло Василия Шуйского в такой шок, что он несколько дней не показывался на людях. Ожил и снова засуетился он, когда дьяки донесли ему, что пришли крымцы и стали табором на берегах Оки, под Серпуховом. Злой и с какой-то сумасшедшинкой в глазах, он уже цеплялся за всё, чтобы выкарабкаться из положения, в какое угодил по вине своего брата. И он велел немедля послать крымцам дары, подвигнуть их выступить против самозванца и Жолкевского.
А дьяки подсказали ему отправить туда, к крымцам, князя Григория Волконского: тот-де известен Крыму по прошлому…
– Да отрядите с ним крепкого воеводу! – разозлился Шуйский на то, что дьяки не могут решить без него даже это.
– Может быть, Пожарского? – робко предложил Буйносов, последнее время торчавший всегда в его государевой комнате.
Шуйский махнул рукой: а, мол, всё равно…
Вот так князь Дмитрий Пожарский оказался в одной связке с Волконским. И уже через день они были далеко от Москвы…
– Шишка!
– Здесь я, Дмитрий Михайлович! – откликнулся из подлеска голос, и к Пожарскому подбежал стрелецкий сотник, средних лет малый с задубевшим на ветру и солнце лицом.
– Поднимай людей, пора!
Сотник молча кивнул головой и побежал выполнять распоряжение. В подлеске сразу всё ожило: заскрипели колёса, забегали возницы, покрикивая на лошадей. И на разбитую просёлочную дорогу выкатился обоз. За ним из подлеска выметнулись конные и ускакали вперёд разъездом.
Пожарский и Волконский с десятком стрельцов двинулись в голове обоза. Позади же, прикрывая обоз с тыла, пристроились казаки, а на телеги уселись пешие стрельцы с самопалами.
До Серпухова оставался один дневной переход. И Пожарский надеялся в этот же день, к ночи, добраться до войска Лыкова, которое стояло под Серпуховом. Затем, разведав обстановку, им предстояло переправиться через Оку и идти с Волконским в стан к крымским татарам.
– Дня через два будем у татар. Придётся поклониться. Не так ли, Шишка? – спросил он сотника.
Этого сотника ему дали в Посольском приказе. Человеком он был для него новым. Поэтому он исподволь понемногу присматривался к нему: кто из себя таков и можно ли на него положиться в опасном деле.
Шишка хмыкнул:
– Хм! А что? Татарин как татарин! Нам ли его бояться!
– Мы крымцу ни к чему, – заговорил Волконский. – Ему нужен полон. А с нами хлопот не оберёшься… Если продать куда, так государь затребует прежде всего. Не так ли, Шишка?
Сотник скромно промолчал. По снисходительному тону князя он понял, что тот не ждёт от него ответа.
– Три года назад в Крым посольство не дошло: под Валуйкой казыевцы [24]24
Казыевцы – Казыев улус; малые ногаи – Ногайская орда в середине XVI в. распалась на Большую Ногайскую орду и Малую Ногайскую орду, называемую ещё Казыевым улусом – по мурзе Казыю, основателю этой орды.
[Закрыть]пограбили, всех побили, – сказал Волконский, легонько погоняя своего коня, чтобы не отстать от Пожарского.
– Так то же малые ногаи! – пробасил Пожарский под мерную рысь аргамака.
– Да, верно, – согласился Волконский. – Сам-то Селамет-Гирей [25]25
Селамет-Гирей – крымский хан в описываемое время.
[Закрыть]заверяет Шуйского: «Другу государеву другом быти, а недругу – недругом!»
– Выходит, одна рука не знает, что делает другая? – спросил Шишка, держась позади него из-за своего неказистого Савраски. Он стеснялся его, понимая, что и сам через него, через Савраску, похож на обнищавшего степняка. Савраска же хотя и был неказист, но был уж больно вынослив. Он мог бежать день-деньской без остановки и уже загнал нескольких аргамаков на дальних переходах… «И откуда у него такое!» – удивлялся он и дорожил им в такие минуты…
– Знают, хорошо знают, и обе гребут!
– От донцов это. По низу воруют, раздор чинят меж государем и Крымом, – рассудительно заявил сотник и глянул на Волконского.
Но князь Григорий промолчал, ничего не ответил. Он потерял интерес к разговору. Докучливые мысли о нынешней поездке и о своих семейных делах сами собой лезли в голову, мешали, вытесняли всё остальное. К татарам он ехал уже не первый раз. Нравились ли ему эти поручения?.. Да, наверно. Хотя он ясно не мог бы ответить на это даже самому себе. Это было государево дело, и его надо было делать. Первый же раз на посольские дела его сняли указом Годунова с воеводства в Ново-Беле-Городе, где он был вторым воеводой при князе Григории Петровиче Ромодановском. Прибыв в Москву, в Посольский приказ, он получил назначение послом в Крым, с повелением немедленно ехать в Ливны, на разменное место. Получил он и грамоту с росписью посольства. Неожиданностью это для него не было. Такому повороту его службы во многом содействовала его сестра Анна, по мужу Клешнина, комнатная боярыня царицы Ирины Фёдоровны, в бытность той в миру. Хлопотала и другая сестра, княгиня Козловская, тоже комнатная боярыня у той же царицы.
Князь Григорий, высокого роста, подтянутый, светловолосый, с небольшой русой бородкой и голубыми глазами, от которых лучиками разбегались морщинки, на государевой службе ходил уже более четверти века. Да вот до этого он бывал только вторым воеводой или приставом у послов. Ему шёл сорок пятый год, и волнами в нём плескались ещё желания сильной жизни, когда его отправили в 1602 году первый раз послом в Крым, и, возможно, благодаря тому, что Годунов знал его лично.
То, что он везёт сейчас татарам, это не поминки [26]26
Поминки – дарственное приношение, гостинец.
[Закрыть]– подачка.
Тогда же, восемь лет назад, он вёз такие поминки, какие Москва не давала до того ни разу Крыму. В обозе из ста подвод только в ефимках [27]27
Ефимок – русское название талера, серебряной монеты, чеканившейся во многих странах Западной Европы и использовавшейся в XVI–XVII вв. в качестве основного монетного сырья.
[Закрыть]было тридцать пять пудов серебром да полтора пуда денег золотом: золотыми угорскими и московскими. Часть, и весьма немалую, везли мягкой рухлядью. На два десятка подвод загрузили сто тридцать мешков с мехами: везли куниц и бобров, лисьи и собольи шубы. На остальных подводах разместилось посольское хозяйство.
Началось же с того, что в Москве обеспокоились переговорами Польши с Крымом, о которых доносили тайные агенты. Откупаясь и подталкивая Крым на опустошительный поход по окраинам своей соседки Московии, Польша выложила крымскому хану Казы-Гирею [28]28
Казы-Гирей – хан в Крыму во времена царствования Бориса Годунова.
[Закрыть]большие деньги.
И князь Григорий оказался тогда перед непростой задачей: провести такой обоз через воровскую степь и доставить в Крым. Но ещё сложнее было получить от этих поминок то, чего хотел Годунов, после провала у хана посольства князя Фёдора Барятинского.
* * *
Дело же было так. Барятинский находился тогда с посольством в Крыму. И вот как-то раз его, князя Фёдора, и дьяка Дорофейку Максимова ясаулы [29]29
Ясаулы – личная охрана хана.
[Закрыть]взяли в посольском лагере, привели в замок и поставили перед ханом.
– Царь Борис, брат наш, прислал вас сказать о дружбе и любви, говорили вы… И то мы в грамоте вычли, – перевёл бакшей [30]30
Бакшей – простой переводчик.
[Закрыть]слова Казы-Гирея. – Но следом за вами пришли на Каросан казаки с Дона, погромили Татарский и Черкасский улусы, людишек пограбили, в полон взяли…
– То очень худо, – хмуро сказал Барятинский, ещё более насторожился.
– Великого Крымского улуса хан Казы-Гирей думает, что брат наш, царь Борис, прислал вас, холопов своих, с раздратьем! – резко бросил в лицо послу афыз [31]31
Афыз – писец, ханский дьяк, может быть приставом или переводчиком при послах.
[Закрыть]и низко поклонился хану. – То меж нас какой тогда мир?!
Князь Фёдор растерялся, не знал, что ответить. В послах он ходил первый раз, и такой оборот дела поставил его в тупик. До этого он служил по небольшим городкам и крепостишкам. При царе Фёдоре он ставил по его указу Сургут вместе с Аничковым и там же был первым воеводой. Потом на воеводство туда угодил его брат Яков. Все государевы наказы он выполнял исправно. Придерживался этого он и сейчас. В посольской же росписи указано было вести с ханом переговоры только о мирной шерти[32]32
Шерь – присяга, совершаемая по мусульманским религиозным установлениям.
[Закрыть]. И он торопился, подкупал его ближних, надеялся, что не сегодня, так завтра это произойдёт, и держал наготове гонца в Москву. А там ожиданием томили крымского посла Мустафу, чтобы только после хана Годунов дал крестное целование на Библии: дабы не нанести урон чести государю московскому.
Из этого замешательства его вывел Дорофейка. Он легонько толкнул его в бок и тихо прошипел: «То беглые воры, от смертной казни утекли…»
Князь Фёдор громко повторил это за дьяком, оправился от смущения, добавил уже и от себя: «Эти воры приходят и на государевы украины! Людишек грабят и в полон тоже берут!»
– Великий хан Казы-Гирей верит брату своему, царю Борису, что приключилось то неведомо ему. И остаётся в прежней любви и дружбе… Но тебе бы, холопу брата нашего, ехать к тем воровским казакам и говорить, чтобы впредь на улусы наши не хаживали, людишек бы и рухлядь сыскивали…
– Да не послан я унимать воров-то! – отмахнулся князь Фёдор от афыза.
Хан смерил неприязненным взглядом широкоплечего посла, но ещё сдерживался и настаивал на своём:
– Пошли служилых, наряди гонца в Москву. Ян-Ахмет-чилибей пойдёт с ним к брату нашему…
Но Барятинский, окончательно оправившись, отрезал:
– К ворам я не поеду и людей своих не дам! Нет того в наказе государя!
– Князь Фёдор, то делаешь непутём! – громко зашептал дьяк. – В темницу попадём! За что же будем маяться?!
– Отстань! Дьяк ты аль баба? Кого боишься? Татарина!
– Что он сказал – переведи! – крикнул Казы-Гирей замешкавшемуся афызу. – Немедля! На кол иначе попадёшь!
– Князь Фёдор сильно лает… К ворам своих людишек не пускает, – испуганно пролепетал бакшей вместо афыза.
Казы-Гирей даже опешил от такой наглости посла московского князя, того князя, который платит дань и которого он считал ниже себя.
Давно, очень давно шла изнурительная борьба между Москвой и Крымом о праве: кому быть выше, кто должен первым кланяться, с какими титлами писаться. И много посольских пострадало из-за этого в Крыму, когда отстаивали честь великого князя, которую принижал Крым, считая себя наследником Золотой орды…
На шее у хана вздулись вены, он побагровел и в гневе взорвался: «Отрезать нос и уши! Набить живот соломой!»
К Барятинскому и дьяку подскочили ясаулы, заломили им руки, выволокли из палаты, протащили по лестницам замка и бросили в глубокий каменный мешок.
Через неделю хан отошёл сердцем: смилостивился и выгнал посольство Барятинского из Крыма назад на разменное место.
А в Москве Барятинского ожидал гнев Годунова – и не меньший, чем хана. На князя Фёдора наложили опалу и, за простоту и глупость в посольских делах, сослали на воеводство в дальнюю крепостишку.
Вот после того-то и направил Годунов его, Волконского, выправлять оплошку предыдущего посла… Тогда, восемь лет назад, до разменного места князя Григория сопровождали окольничий Иван Михайлович Бутурлин с Иваном Уткиным и дьяком Григорием Клобуковым под охраной трёх сотен боярских детей и стрельцов. Окольничий, человек степенный и солидный, пришёлся по душе князю Григорию. И они как-то незаметно, мало-помалу, сблизились за долгий совместный путь. А путь этот оказался нелёгким. Такого необычно дождливого лета никто из них не мог и припомнить. За дорогу они потеряли много коней и в Ливны добрались только к концу лета. Через неделю после их прихода на разменное место пришёл из Крыма от Ахмет-паши Сулеш-бика, амията [33]33
Амият – друг, приятель; здесь – посредник в дипломатических сношениях. Амият принимал и передавал послов на «размене» (под Валуйками), представлял московских послов крымскому хану и т. п. Амиятство в сношениях Крыма с Москвой было привилегией рода мурз Сулешевых, в сношениях с Польшей – привилегией рода мурз Куликовых.
[Закрыть]московского государя, его дворовый человек с сотней воинов и поставил шатры у Кирпичного брода, на другом берегу Сосны. С их появлением у старого князя Тимофея Романовича Трубецкого, первого воеводы большого полка, стоявшего в Мценске, в Украинном разряде, прибавилось забот: первым делом предстояло объявить конную и пешую рать, как то предписывалось государевым указом. И в ливенском гарнизоне потянулись из своих станов конные стрельцы и боярские дети. Добротно одетые, при оружии и в доспехах, они засновали челноками по обеим сторонам посольской дороги, близ берега реки Сосны, на виду у крымцев. Те, у кого лошади и кафтаны были поплоше, держались вдали, чтобы татары не смогли как следует рассмотреть их. Пешим же было наказано ходить вдоль дороги врозь, а не строем, сменять одну сотню другой, чтобы так казаться большим числом. А по ночам запылали костры. Их раскладывали на две версты по обе стороны от Ливен, перекрывая татарам огнями весь горизонт.
– Крымцев пугают, – усмехнулся Бутурлин, развеселился от этого.
– Да разве этим проймёшь степных волков-то! – с сомнением в голосе отозвался князь Григорий…
В стан к татарам он и Бутурлин приехали с толмачом и посольским дьяком Михалкой Огарковым. Они спешились и вошли в шатёр гонца.
Гонец хана Аксай, средних лет, ничем не примечательный, но с живыми умными глазами, сидел на подушках, поджав под себя ноги. Рядом с ним сидел Тораз-аталык, уже в возрасте, коротконогий и полуседой, гонец от князя Араслана Сулеш-бика, младшего брата Ахмет-паши. По другую сторону от Аксая сидел копычейский сотник Мустафа, худой и, видно, злой.
При появлении послов крымцы встали и первыми поклонились. Гостей усадили на подушечки и поднесли кумыс.
Волконский пригубил пиалу с кумысом и спросил гонца, когда же придёт Ахмет-паша.
Аксай смачно и шумно почмокал губами и затараторил:
– Казы-Гирей, славный Гирей, в сильном гневе! И слышать не хочет о шерти! Нет, нет! Пока в сердце хана кипит кровь от Федьки, не даст шерть, не придёт Ахмет-паша!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































