Текст книги "О литературе и культуре Нового Света"
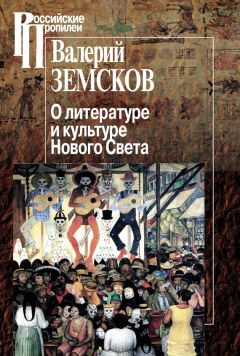
Автор книги: Валерий Земсков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Есть и другая сторона в этом процессе одичания: индивидуум на вершине индивидуализма утрачивает индивидуальность, а это означает распад человека, превращение его в ничто. Дважды в романе заходит речь об имени диктатора. Первый раз, на вершине власти, он отказался от имени (я – это я!), так и неизвестно, действительно ли имя (Сакариас) было его. Во второй раз он вспомнил свое имя, не называя его, когда за ним пришла смерть. Теперь уже смерть зачеркивает имя диктатора, называя «Генерала Вселенной» древнегреческим именем Никанор, – так, как она называла тысячу лет назад античных тиранов, приходя по их душу. Никанор – это значит «видящий победу», в этом случае не свою, а победу смерти, а это значит победу времени, истории, жизни.
Важно и то, как умирает диктатор. Здесь все пронизано мотивами, суммирующими идейные смыслы романа. Убийство тирана происходит именно так, как однажды ему приснилось во сне с сюжетом смерти Цезаря, двадцать три окна дворца, в которые он видит город, лишенный моря, но дышащий жарким дыханием непостижимого народа-океана, – это двадцать три кинжальных удара, нанесенных диктатору жизнью, историей, временем, народом.
Как и в «Сто лет одиночества», тиран, потомок полковника Аурелиано Буэндиа, взглянув в зеркало смерти, перед гибелью понял свой тайный порок – неспособность к любви, вместо нее одинокая страсть к власти. Но изменить ничего нельзя, и ему остается только, вцепившись в лоскутья паруса (ладья Харона!), нестись в небытие.
Старик умер в затасканной одежонке, но в «исторический понедельник» робко проникшие в его дворец анонимы нашли его в генеральской форме с золотой шпорой на сапоге – в той позе, в какой он должен умереть согласно преданию. Такова сила мифа.
И здесь важна еще одна тема – тема посмертных отношений народа с диктатором. Диктатор предстал после смерти в генеральском величии потому, что над народом довлеет инерция порочного времени и он, не проснувшись от «тысячелетней спячки», все еще верит в миф. Это народ обрядил диктатора в форму и в растерянности толпится вокруг «банкетного стола истории», ожидая, воскреснет старик или нет. Более того, народ скорбит «неподдельной скорбью». Беспрекословно подставлявшие себя под клюв петуха анонимы теперь не знают, как жить без него: иными словами, люди, не имевшие другой истории, кроме той, что творил диктатор, не умеют ее делать. Миф, созданный народом на основе тех басен, что внушались ему диктатором и его пропагандой, липкой массой стискивает сознание народа. Вот опасная сторона мифотворчества «Блакаманов от политики», продавцов фальшивых чудес, которые могут направить мощную силу сознания и воображения народа в роковую для него сторону.
Но в финале народ предстает все-таки иным. Боготворивший диктатора, «любивший его с неиссякаемой страстью» и ненавидевший его, народ находит свой «берег жизни». «Бессчетное время вечности» кончилось, а значит, кончилось время мифа, и время теперь должно пойти вперед.
Смысл этого финала станет ясен, если понять, почему смерть назвала латиноамериканского диктатора так, как называла древнегреческих тиранов. Заложив в образ диктатора черты древнего тирана, писатель тем самым предельно раздвинул временные и смысловые рамки своего произведения. Мысль писателя вышла за пределы Латинской Америки и за ее возраст в глубь истории мира, к его «началам». Вот почему на «банкетном столе истории» перед народом, который пробудился после «тысячелетней спячки», лежит существо «древнее доисторического животного». С его смертью умирает измеряемая веками доисторическая эпоха «предыстории» человечества и начинается его подлинная история, творимая на основах народного коллективизма, но коллективизма нового, не того, что объединял людей в стадо быков.
Возможно, образы «Осени патриарха» утратили ту «дымку» поэтической загадочности, что придавала особую прелесть образам «Ста лет одиночества», но зато здесь художник выиграл в ясности философской мысли и мощи художественного обобщения. В «Осени патриарха» коренная для Гарсиа Маркеса идея необходимости для человечества прощания с прошлым – «предысторией» – и вступления в принципиально новую социально-духовную эпоху подлинной истории и новой гуманистичности приобрела окончательную ясность. В сравнении со «Сто лет одиночества» прибавился и новый мотив – мысль об опасности, таящейся в самом народе-мифотворце, предупреждение против опасности мифов, душащих народную жизнь, историю…
Роман «Осень патриарха» – порождение зрелого сознания художника. Именно в этот период Гарсиа Маркес стал все больше времени уделять общественной деятельности, участвовать в кампаниях солидарности с кубинской революцией, с чилийским народом, ставшим жертвой контрреволюционного переворота 1973 г., выступать с политической публицистикой о борьбе народов Вьетнама, Анголы, о подвигах никарагуанских революционеров, боровшихся с диктатурой Сомосы, а затем сальвадорских патриотов. В 1970-х годах Гарсиа Маркес – виднейшая фигура патриотического движения латиноамериканской творческой интеллигенции за демократию и суверенитет.
Глубокий смысл кроется в ярком жесте Гарсиа Маркеса – принесенной им своего рода публичной клятве не публиковать художественных произведений и все время уделять политической журналистике до тех пор, пока не падет чилийский диктатор Пиночет. И действительно, с 1975 г., когда вышел роман «Осень патриарха», до 1981 г. новых художественных произведений Гарсиа Маркеса в печати не появлялось. Открытый вызов, брошенный диктатору писателем, приобретшим к тому времени уже мировую славу, по-своему воспроизводил в жизни тот сюжет, что разыгрался в «Осени патриарха» между тираном и Рубеном Дарио – неоднократно возникавший универсальный сюжет мировой истории и литературы: противостояние тирана-царя и поэта-мудреца. Две фигуры, максимально воплощающие враждебные начала жизни – антигуманизм и гуманизм. В интервью журналу чилийской эмиграции «Араукария» Гарсиа Маркес рассказал, что однажды совсем близко увидел своего противника Пиночета в исполненной символического смысла континентальной дуэли. «Я не испытывал к нему ненависти, и это меня обрадовало, – говорил писатель, – у меня было только чувство жалости». Той самой, что испытывал поэт к загубленному человеку, плакавшему в одиноком патриархе, а вернее не к человеку, а существу, еще не ставшему вполне человеком…
Впоследствии, в 1981 г., на состоявшейся в Гаване Первой встрече представителей интеллигенции в защиту суверенитета Латинской Америки чилийская делегация во главе с политическим деятелем и писателем Володей Тейтельбоймом выступила с просьбой о прекращении «забастовки» Гарсиа Маркеса, ибо публикация его новых художественных произведений станет эффективным вкладом в борьбу с тиранией. С этим суждением прямо перекликаются слова самого писателя, сказанные им вскоре в одном из интервью: «Те, кто нападает на меня как на политического деятеля, мало что понимают в литературе. Им следовало бы осознать, что я более опасен как писатель, нежели как политик».
Образец «опасного» творчества Гарсиа Маркеса – повесть «История одной смерти, о которой знали заранее» (1981). В ее основе – мало что сама по себе значащая история любви с убийством в колумбийском городке Сукре, где когда-то жили родители Гарсиа Маркеса и куда он приезжал к ним на каникулы. После выхода повести журналисты побывали в Сукре (он послужил прототипом городка и в повести «Полковнику никто не пишет» и романе «Недобрый час») и убедились в том, что в ней точно воспроизведены топография городка и история, которая произошла там в 1951 г.
Имена и фамилии персонажей писатель изменил, но все в повести происходит именно так, как было. Справлялась свадьба, но в первую брачную ночь Боярдо Сан-Роман вернул в родительский дом Анхелу, которая оказалась не невинной. Анхела указала на Сантьяго Насара как на «автора» того «чуда», что произошло с ней, и ее братья, Пабло и Педро Викарио, пошли его искать, чтобы убить. Его друзья, возвращаясь со свадьбы, потеряли Сантьяго из виду, и тот остался без защиты. Обычно открытая, дверь его дома, где он пытался укрыться, оказалась запертой. Убийство воспроизведено точно. При этом Сантьяго не понимал, за что его убивают (умирая, он сказал Гарсиа Маркесу, что не виновен). После убийства зачем-то производилось вскрытие трупа.
«Произошла эта история, – по словам Гарсиа Маркеса, – незадолго до того, как я понял, что станет делом моей жизни, и я почувствовал тогда такую острую потребность рассказать об этом, что, возможно, это событие и определило раз и навсегда мое писательское призвание». Тридцать лет образ убитого друга жил в памяти писателя, так и эдак обдумывавшего эту историю. Сложилась она окончательно в сознании уже зрелого писателя – на почве концепции фантастической действительности. В новой повести она претерпела дальнейшую и столь существенную эволюцию, что возникает вопрос, можно ли теперь ее определить понятием «фантастической действительности». Ведь в повести нет ни фантастики, ни неизменно сопутствующего ей травестийно-смехового начала. И тем не менее родовая глубинная связь между мирами предшествующих произведений и новой повестью налицо. Именно поэтому столь органичны здесь герои со знакомыми фамилиями Игуаран, Буэндиа, с которыми в родственных связях находится и участвующий в действии под своим именем и фамилией автор. Фантастика и смех не исчезли, но ушли на периферию писательского сознания, отбрасывая блики, или, пользуясь определением М. М. Бахтина, «рефлексы» на трагедию, что и определяет принципиальную многотоновость, тончайшую нюансировку художественного целого.
Перед нами случай, когда карнавализованное по своей природе сознание переносит акценты с фантастически-смехового на жизненно-серьезный план жизни, но сохраняет главный свой принцип: лобовое столкновение жизни и смерти, замыкание их полюсов, в результате все бытие оказывается просвеченным словно мгновенно вспыхнувшим мощным источником света до глубинных его оснований. Перед нами снова повествование, построенное вокруг смерти, убийства, и снова труп провоцирует самоизъяснение жизни перед лицом смерти, и снова герой, исповедующийся у трупа, – это весь народ, а коллективная исповедь народа вновь порождает речевую полифонию. Это значит, что писатель вновь обратился к поэтике античной трагедии, к главному ее принципу – всенародности действия и речевого самовыражения (хор в античной трагедии – хор народных голосов в повести). Но, в отличие от «Осени патриарха», началом, провоцирующим народ на исповедь, выступает автор, сам Гарсиа Маркес, он говорит от первого лица и берет на себя роль дирижера хорового народного гласа.
Гарсиа Маркес построил новое произведение, использовав метод обнажения приема, а именно – конструкции своей творческой истории. Так же, как в каждый приезд в Сукре, писатель в книге расспрашивает о роковом дне родственников, друзей, жителей городка, участников событий, выясняет детали, указывает момент вступления в хоровую полифонию того или иного персонажа со своими воспоминаниями и дополняет хоровую версию своими сомнениями, размышлениями, воссоздавая ход событий. Коллективная исповедь – это одновременно и расследование, которое ведет автор, не только как дирижер хора, но и как следователь, реконструирующий картину убийства с расстояния в тридцать лет. Главная его цель – восстановление «разбившегося зеркала памяти» народа, а следовательно, установление истины и виновников трагического происшествия. В критике отмечали (и это действительно следует из названия произведения, в оригинале «Crónica de una muerte anunciada», в буквальном переводе – «Хроника объявленной смерти»), что повесть содержит элементы газетной уголовной хроники. Но как в заглавии элемент газетной хроники сочетается с философско-поэтическим планом (заголовок можно перевести: «Хроника возвещенной смерти»), так же и образ автора-хроникера соединяется с образом взволнованного (так, словно расследование ведется не через тридцать лет, а по следам событий) лирического героя-поэта, осмысливающего события в универсальных категориях художественной философии.
Гарсиа Маркес как-то заметил, что лучшим детективом мировой литературы он считает «Царя Эдипа», где ищущий преступника Эдип в конце концов обнаруживает, что им является он сам. Нечто подобное случилось и в «Истории одной смерти…» – коллективной исповеди народа. Он здесь на первом плане, и жизнь его предстает в избытке изобразительности, движения, яркости красок и звуков – человеческие голоса, шум праздничной толпы, музыка, крики петухов, гудки парохода. Действие вынесено из домов на улицу, а если даже какой-то эпизод происходит в доме, то двери в нем распахнуты. Разверстые дома, улицы, площадь – словно открытое пространство сцены античного театра без стен, где ставится трагедия, в которой участвует весь народ. Главное вершится среди снующего народа, во взбудораженной толпе, вчера праздновавшей свадьбу, а сегодня встречающей епископа и, наконец, получающей возможность стать очевидцем (и только ли очевидцем?) убийства, происходящего принародно, на площади. И хотя действующих, вспоминающих и комментирующих персонажей не так уж много (в сравнении с иным романом), возникает ощущение множественности, людской плотности, многонаселенности, благодаря чему произведение объемом в небольшую повесть обретает статус романа – произведения, воссоздающего эпическую цельность мира.
Есть и другая особенность, определяющая жанр новой книги Гарсиа Маркеса, – народная жизнь взята в вершинные моменты человеческого существования: любовь и ненависть, жизнь и смерть, честь и бесчестье, свадьба и погребение, праздник и несчастье, насилие и гуманность. При этом народ Гарсиа Маркеса – не муравьиная масса, а индивидуализированная толпа. Это интимно близкая писателю среда, стихия, частью которой является он сам, разделяющий полностью и образ жизни народа, и его культуру, и его речь, а потому относящийся к народу без ложной помпезности и без фальшивого народолюбия. Пожалуй, ни в одном своем произведении писатель не был так близок к первоисточнику творчества – к народной поэтической стихии.
Вернувшись к истокам своего писательского призвания, Гарсиа Маркес словно вернулся и к народному слову, той языкотворной стихии, которая питает большую литературу. Язык книги, в которой говорит народ, – это элементарный в своей простоте язык живого общения, он лишен литературного лоска, метафорической изобильности, отличавших язык романа «Осень патриарха», поэтика которого восходит к изысканному стилю Рубена Дарио. Здесь поэзия рождается из обыденности. Из нее же вырастает и манера трактовки происшествия, особенности его толкования, т. е. народное «зеркало памяти». И выясняется, что собираемое по осколкам-версиям каждого из участников событий, оно дает неясную, туманную картину. Из того, что рассказывает народ, складывается не истина, а противоречивая легенда, миф, создаваемый народной молвой, – так, как это и происходит в действительно народной истории.
Молва – основа основ, она обкатывает известие, удаляет из него все лишнее, выбирает суть и интерпретирует его в соответствии с представлениями народа. Так рождается народная поэзия – в книге Гарсиа Маркеса происходит нечто похожее. В самом деле, история любви и убийства, рассказанная колумбийским писателем, – типичный сюжет для латиноамериканской баллады – корридо, потомка и кровного, хотя и далекого, родственника испанского романса. Если присмотреться к тому, как рассказана история, на каких нравственных основах она строится, то мы обнаружим ее близость народному искусству. Вот главные координаты фольклорно-поэтической нравственности: над человеком довлеет судьба, распорядившаяся так, что Сантьяго Насара убили «несчастные ребята», братья-близнецы Педро и Пабло, которых постигло несчастье судьбы, вложившей в их руки ножи. Идея убийства как судьбы, рока, типична для корридо, где убийцу постигает «несчастье» убийства. В народном романсе в конечном счете все невиновны, виновен рок. Нечто подобное мы улавливаем и в тройке образов, участвующих в самом убийстве: Сантьяго Насар – в его фамилии словно звучит тема невинно убиенного Христа (из Назарета; с темой Христа связывает и упомянутая в одном из эпизодов рана на ладони Сантьяго); Педро и Пабло Викарио – они носят имена и фамилию, связывающие их в сознании читателя с темой небесных сил. Можно сказать, так рождается народная версия происшествия, которая складывается из сбивчивых и противоречивых рассказов о дне убийства, где все, расходясь в частностях, сходятся в главном – то была рука судьбы, рок.
Конечно, не стоит обманываться – и элегантная простота языка, и метафорика, и изобразительность, и система нравственных оценок в произведении не совпадают с народно-поэтической стихией. Тема рока соткана из ряда символических образов, которые если и близки народному творчеству, то все-таки переработаны литературной традицией: заимствованный из поэзии португало-испанского драматурга начала XVI в. Жиля Висенте и связанный с народным искусством образ любовной охоты, где мужчина предстает соколом, ястребом или коршуном (эстетически возвышенный вариант мужчины-петуха); пророческие сны с птицами и деревьями; дождь как символ небытия и забвения; потрошеные кролики, собаки, лижущие кровь; петухи, забитые для любимого епископом супа из петушиных гребешков; закрытая дверь…
Сама идея рока связана не только с народным мировосприятием, но и с другим, традиционным для Гарсиа Маркеса источником – уже упоминавшейся античной трагедией. Убийство происходит по воле рока на площади при стечении народа – хора. Но народ – не только хор, он действующее лицо, и где-то здесь надо искать ответ на главный вопрос, который ставит перед нами писатель: «Кто убил Сантьяго Насара?»
Если писатель и согласен с тем, что всему голова – рок, то все-таки есть и иная система оценок, рассеянная по всему произведению; она ненавязчиво подвигает нас к иному ответу, а следовательно, снова – как в «Осени патриарха» – разоблачает миф одновременно с его воссозданием. Указать на исполнителей убийства – значит ничего не сказать. Они ведь не хотели убивать и ждали Сантьяго там, где он обычно не ходит; не таясь, рассказывали всем о своем намерении, словно в надежде, что кто-то отнимет у них ножи или упрячет их самих на время в каталажку, или предупредит Сантьяго Насара, чтобы он не шел той дорогой, где его ждут, или даст ему оружие для самозащиты…
Однако они были исполнителями, но чьей воли? Анхелы Викарио, которая указала на Сантьяго Насара как на своего «автора», как на «святого», совершившего с ней «чудо» (мы так и не узнаем с достоверностью, сказала ли она правду)? А может, матери Анхелы, которая вынудила ее к признанию? А может, Байардо Сан-Романа, который вернул Анхелу в родной дом? А может, силы инерции обычаев, предрассудков?
В заголовке книги содержится важное указание: «История одной смерти, о которой знали заранее». Его можно перевести и буквальнее – «Хроника одной смерти, о которой было объявлено заранее». Объявили о том, что предадут смерти Сантьяго Насара несчастные братья-близнецы, но кому они объявили заранее? Всем жителям городка, всему народу. Здесь-то, пожалуй, и коренится секрет: в этой провинциальной драме в число героев входят не только стороны любовного и криминального «треугольников» (Анхела – Сан-Роман – Сантьяго и Пабло – Педро – Сантьяго), но весь народ, и это превращает провинциальную любовную драму в народную трагедию. Наверное, можно бы назвать книгу и так: «История убийства, о котором народ предупредили заранее».
Гарсиа Маркес далек от морализирования, как и вообще от прокурорской позиции в суждениях о народе. Да и за что судить? Здесь просто все произошло в соответствии с представлениями, которыми живет народ, с тем, как течет обыденная жизнь.
Сантьяго Насар в отношениях с женщинами воплощает метафору ястреба-курохвата (петуха), холодную ненависть к нему питает Викториа Гусман, в свое время невольная любовница его отца; Сан-Роман покупает себе поначалу равнодушную к нему Анхелу и строит свое счастье на несчастье вдовца Ксиу, которого деньгами соблазняет продать свой дом, а с ним свое прошлое и память; свадьбу он превращает в балаган, чтобы поразить народ богатством, и Сантьяго Насар подсчитывает, во сколько Сан-Роману обошлась свадьба, чтобы потом не ударить в грязь лицом самому…
Среди жителей городишки добрая половина – родня по крови, но, как и в Макондо из «Ста лет одиночества», – те же отношения отчуждения. И так же итогом таких отношений становится катастрофа. А в результате оказывается, что судьба, рок – это логика народной жизни; она зиждется на определенных устоях и морали. Что же, эта мораль освящает чистоту народной жизни и заставляет братьев мстить за поруганную честь семейства? Нет, скорее это инерция того, что было когда-то моралью.
Вот два мира с различными ценностями: мир драмы Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» и мир «Истории одной смерти…» Гарсиа Маркеса.
В первом случае и герои, и автор живут извечными ценностями народной нравственности. Чистота невесты здесь – один из устоев; рухни он, рухнет мир. Поэтому убийство нравственно оправдано, и все, что происходит, – это высокая трагедия и исполнено высокой поэзии.
Совершенно иная позиция у Гарсиа Маркеса. Знакомая по «Сто лет одиночества» и «Осени патриарха», она направлена против традиции и инерции общества, живущего извечными законами отчуждения и индивидуализма. Мир у Гарсиа Маркеса рушится не оттого, что инерция морали, изжившей себя, оборачивается наточенными ножами, которыми забивают свиней. Смерть здесь – и это, пожалуй, главное – скомпрометирована эстетически. Это не парадная смерть, героически утверждающая нравственность, и не «несчастье» народной поэзии, а безнравственное преступление.
Отметим еще раз: Сантьяго Насара убивают ножами для забоя свиней. Автор акцентирует внимание на этом: братья выбирают ножи, точат их в мясных рядах на рынке, потом носят с собой завернутыми в газету. Когда у них отбирают ножи, они повторяют тот же церемониал вновь, чтобы потом этими ножами убить человека.
Сцена убийства – одна из самых жутких в мировой литературе, и она намеренно замедлена, чтобы сконцентрировать наше внимание на кромсании плоти, на боли. Еще ужасней вторая смерть Сантьяго Насара – вскрытие, неизвестно зачем проведенное местным священником. Зачем это второе кромсание плоти? Это убийство после убийства, причем убийство еще более страшное, ибо оно искусственно и противостоит народному пониманию естественности смерти, пусть и в результате убийства или несчастного случая. Особый смысл придает этому второму убийству то, что вскрытие делает священник. Тот, кто должен воплощать гуманное начало, выступает в роли убийцы, и в свете этого особый смысл приобретает образ-символ петухов, забиваемых для любимого епископом супа из петушиных гребешков. Ведь они – епископ, священник – воплощают и освящают мораль того мира, который не просто убил человека, но и уничтожил его. Перед нами финал «истории смерти».
Из всех возможных способов показать смерть писатель выбрал изображение ее как безнравственного уничтожения жизни, как катастрофы, крушения мира. Происшедшего по чьей вине? Напрашивается один ответ: по вине народа. Он убил Сантьяго, а потом еще и уничтожил его окончательно, стер с лица земли. Кто-то хотел смерти Насара, кто-то, напротив, стремился спасти его, но так и не сообщил ему о намерении близнецов, которые направо и налево предупреждали народ. С дистанции времени детали событий путаются в памяти людей, опрашиваемых писателем, и практически ничего достоверного в истории убийства нет. Непреложно лишь одно: никто ничего не сделал, чтобы действительно предотвратить убийство. Более того. В книге ощутим тошнотворный запах самопоедания – желание народа увидеть кровавое зрелище, которое будет разыграно перед всем миром на площади. Люди валом валили на площадь, зная о предстоящем, и Сантьяго с трудом пробирался сквозь толпу, чтобы успеть сыграть свою роль в кровавом спектакле… убиения народа, ибо Сантьяго Насар – это не только один из народа, но и сам народ…
Вот на этом уровне размышлений художественная идея выводит провинциальную драму в контекст всеобщей жизни. «Дайте мне предрассудок, и я переверну мир», – записывает молоденький судья, расследовавший это дело и поразившийся роковому стечению обстоятельств, предопределивших убийство, о котором всем было известно заранее. Никто не хотел убивать, а убийство свершилось, рухнул целый мир в одном человеке. Не зовет ли писатель народ, весь и всякий, к ответственности за жизнь? Не мистическая предопределенность, не рок, а сам народ вершит свою судьбу. Или, иными словами, рок народной жизни – в самом народе…
Писатель говорил, что не мог закончить давно сложившуюся книгу из-за того, что не хватало одной «ноги» у «треугольника» любовно-криминальной истории. Он нашел ее, когда получил сообщение, что по прошествии многих лет, состарившись, соединились Анхела и Байардо Сан-Роман. Нить времени, которой расшивала несложный узор своей жизни на швейной машинке Анхела, все-таки привела к ней человека, любовь к которому, замешенная на крови убийства, вспыхнула в ней пожаром. Вроде бы писатель разомкнул круг рока, как он это делал в каждом из предыдущих произведений. В «Сто лет одиночества» его размыкала утопия города из прозрачного стекла, который вырастает на месте Макондо, в «Осени патриарха» по-оперному праздничный финал увенчивал конец эпохи тиранического индивидуализма, здесь преступление должна искупить тема любви… Но этот мотив утешает мало. У всех, кто стал невольным зрителем – нет, не зрителем, а участником трагедии, – перед глазами стоит образ рухнувшего, «перевернутого» мира. Напоминание и суровое предупреждение об ответственности народа за свое будущее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































