Текст книги "О литературе и культуре Нового Света"
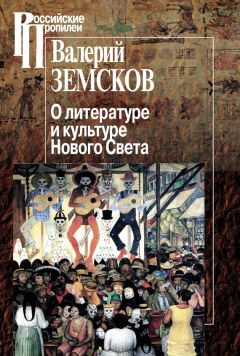
Автор книги: Валерий Земсков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Но и этот уровень, на котором «просматривается» образ истории всего континента, – не последний. Читатель «прощупывает» сеть ассоциаций и образов-символов, которые выводят историю Буэндиа на еще более высокий уровень – уровень всеобщей культуры и истории. Сто лет – это не просто хронологические сто лет и даже не размытые рамки истории Латинской Америки, это, как в детском счете, неопределенное число, вроде «тысячи лет», т. е. необъятное, сакральное, сказочное время.
Наше сознание прощупывает эту сеть образов-символов на протяжении всей истории, начиная с сюжета об основателях рода, живших в мире, словно до грехопадения, юном, свежем и влажном, где огромные камни напоминали яйца доисторических животных и никто еще не умирал. Потом, с рождением детей и потомков, история разрастается на ветви-сюжеты, отходящие от основного корня и ствола, чтобы закончиться с последними потомками в Макондо, гибнущем в последнем апокалипсическом вихре. Пал Вавилон… Не акцентируя этого, писатель выстроил сюжет с библейской структурой и библейского масштаба.
На что, как не на Библию, ориентируется автор небылицы-анекдота о роде, кончившем тем, что породил ребенка со свиным хвостом? Этот анекдот мог быть разыгран в ярмарочном вертепе для публики – носительницы сознания народного католицизма. Библейская сюжетная канва – естественная основа для такой истории, в то же время ее сюжетная структура – дальний родственник структуры семейной эпопеи, также избранной Гарсиа Маркесом в качестве ориентира.
В «Сто лет одиночества» семейная эпопея словно возвращается к далекому жанровому предку – мифологической истории рода и архаической генеалогической хронике, происходит их слияние и взаимопроникновение. Для этого есть все основания. Отдаленная на тысячелетия от древних эпосов семейная эпопея сохраняет главные черты жанрового предка в плане композиции, сюжетного времени, пространства… Все они, как правило, имеют сходную структуру: начинается род с благополучия, активной деятельности физически и морально крепких родоначальников, затем постепенно мельчает, деградирует, истощаясь и вырождаясь в последних слабых потомках, с ними и кончается его история. При всех различиях таковы, в сущности, общие черты структуры «Ругон-Маккаров» Золя, «Будденброков» Томаса Манна, купеческих семейных эпопей Горького, элементы той же логики типичны и для фолкнеровской саги об Йокнапатофе.
То же произошло и у Гарсиа Маркеса, только здесь слились две стихии – социально-историческая и фантастическая, и, слившись, породили удивительный сплав.
Если балаганный фокусник Мелькиадес – один из авторов романа, вспомним теперь и о другом – о юном Габриэле Маркесе, уехавшем в Париж. Он овладел всем арсеналом западного литературного искусства, всеми «играми» различных течений, в том числе и мифологизмом, и любит направлять читателя по ложному следу, сбивать с толку. Как и Гарсиа Маркес, который, в частности, в одном из интервью сказал, что «на самом деле» Габриэль Маркес уехал в Париж не с Рабле, а с его, писателя, любимой книгой – «Хроникой чумного года» Даниэля Дефо, а он в последний момент заменил ее на Рабле, чтобы сбить с толку критиков. Гарсиа Маркес любит сбивать нас с толку, говоря, что не читал Фолкнера, Камю, Хемингуэя… Он любит прикинуться простоватым ярмарочным Мелькиадесом. Но мыто знаем, почему на вид простодушная байка о Буэндиа имеет совершенную литературную архитектонику романа-мифа.
Наивные россказни и фокусы Мелькиадеса имеют глубокие корни в западных интеллектуально-философских исканиях XX в., в западной мифологической прозе, открытия которой воспринял и по-своему блистательно развил Гарсиа Маркес.
Попытка прочтения «Ста лет одиночества» как романа-мифа, конечно, не нова. В западной критике не раз предпринимались такие, хотя и частичные, попытки, но, пожалуй, наиболее удачное определение книги Гарсиа Маркеса в этом аспекте дал Е. М. Мелетинский, который, не анализируя роман детально, определил его как роман-миф, сочетающий в себе черты семейной эпопеи и мифа, основанного на библейском сюжете[41]41
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 368.
[Закрыть]. В качестве параллели книге Гарсиа Маркеса Е. М. Мелетинский приводит жанрово близкие ему, с одной стороны, «Будденброки», с другой – «Иосиф и его братья» Томаса Манна. Но, добавим, в отличие от «Иосифа и его братьев», перед нами роман, ориентированный не на конкретные легендарные сюжеты, Гарсиа Маркес замахнулся на структуру «книги народа», вольно используя обобщенные мифосхемы, мифообразы, ассоциации не только библейского, но и античного происхождения, образующие самый глубинный пласт образно-символической структуры романа. Назовем некоторые из них.
Прежде всего, это образ мирового и одновременно генеалогического древа жизни – гигантский каштан, он растет во дворе дома Буэндиа еще со времен набросков к роману «Дом» (только там было миндалевое дерево).
Далее, это идея и образ земли обетованной – земного рая, в котором живут поначалу безгрешные, как Адам и Ева, первопредки. Рай до познания и падения, и потому здесь никто еще никогда не умирал. Далее совершается первое убийство (сюжет Каин – Авель) и происходит грехопадение. Типичны для мифологии инцестуальный брак основателей рода – двоюродных брата и сестры Хосе Аркадио и Урсулы, первопредков, живших сначала как брат и сестра, затем – переселение и поиски нового места для основания родового дома (мотив изгнания познавших запретный плод Адама и Евы и одновременно наказание Каина). Типичен мифомотив вещего указания во сне на место основания дома, как и мотив «нерасслышанных слов» – Хосе Аркадио слышится неясно звучащее название, вроде бы «Макондо», так он и называет селение.
У Мелькиадеса – роль дьявола-искусителя, носителя знания (фаустовский сюжет) и Прометея – культурного героя, дарителя знаний о мире. Черты Прометея и в «соблазненном» Хосе Аркадио; в наказание за жажду познать мир (самая дерзкая его затея – увидеть Бога) он прикован к древу-каштану. Тема наказания за познание дублируется в судьбе Мелькиадеса и его племени: они исчезли с лица земли, ибо превзошли пределы познаний. Хотя Мелькиадес, искуситель и носитель знания, воскресает.
Другая мифосхема очевидна в образе Пилар Тернеры, в которой потомки Буэндиа познают женщину, благодаря чему они до поры до времени избегают инцеста. Пилар (основа, подпора) Тернера (телица) выполняет роль заместительницы матери – так первый сын Хосе Аркадио в момент познания Пилар Тернеры видит лицо матери.
Наконец, мотив инцеста. Типичный для мифологий и широко разработанный западной литературой XX в., он определяет сюжетно-композиционный «механизм» романа-мифа Гарсиа Маркеса. Все Буэндиа тяготеют к инцесту, а значит, к повторяемости родовых черт и зеркальному воспроизведению черт первопредков, что акцентируется повторяемостью родовых имен, особенно мотивом близнечных пар. Мотив инцеста – это механизм, структурирующий роман-миф, для поэтики которого, согласно Е. М. Мелетинскому, типичны циклическая повторяемость на основе мифологических архетипов и упорядочивание с их помощью жизненного или легендарного материала, воссоздающего образ коллективной истории и коллективное сознание. Цикл жизни рода завершается тем, что последние в роду, подобно первопредкам, не избегнув инцеста, рождают мифологическое хвостатое чудовище, завершающее историю рода.
Итак, роман-миф. Более того, наиболее полный роман-миф, будто выстроенный по готовым литературным рецептам, азбука романа-мифа, энциклопедия, собравшая сумму фрейдистских и мифологических клише западной художественно-философской традиции XX в. Здесь и инцест, и эдипов комплекс, и рок, и архетипы, и мифообразы.
Прежде всего, о соотношении мифологического и жизненно-исторического контекстов в «Сто лет одиночества», где жизненный материал собирается по силовым линиям и вытвердевает в мифосюжеты, мифообразы и в обобщающую мифоструктуру. В традиционном мифоромане мы чувствуем себя скованными костяком заданной идеи-структуры, у Гарсиа Маркеса ничто не довлеет, ибо он исходит не из архетипов, а напротив, словно просвечивает реальные конфликты до их «изначальных» основ. Вспомним хотя бы, что дедушка и бабушка Гарсиа Маркеса были двоюродными братом и сестрой, дед убил человека и был вынужден переселиться. Миф оказался жизнью. Писатель двигался не от схемы к истории, а от конкретной истории – к обобщению, чтобы просветить рентгенограммой общее бытие до «скелета» закономерности.
Но и эта операция не самодостаточна. Реально-историческое и мифопоэтическое не «сливаются» у Гарсиа Маркеса в недвижимое единство, а находятся в состоянии постоянного отталкивания и сближения, потому что, как отмечалось, если реально-исторический пласт дается в серьезно-драматической ипостаси, то фантастическое, а следовательно, и мифическое – в комическом аспекте. Поэтому закономерность, обнаруженная с помощью архетипа, – вовсе не подлинная истина. Смех растапливает «холод» мифа и архетипа, отрицает их неполную, ограниченную «мудрость», утверждающую одномерность жизни и отношений, судьбы мира и человека, и противопоставляет этой ложной мудрости идею их поливариантности, не поддающейся однозначному определению и всегда хранящей в себе возможность иного будущего.
Ведь если итогом жизни рода Буэндиа стал получеловек-полуживотное, то у него всего-навсего… маленький свиной хвостик; если Мелькиадес был дьяволом-соблазнителем, то он ведь… и просто цыган. В «Сто лет одиночества» нет ничего, что вышло бы из пределов травестийно-смехового поля. Карнавальная стихия носит всеобъемлющий характер, отрицая все, тяготеющее к неподвижности, однотоновости, односторонности, т. е. к догматизации бытия. Она захватывает в равной степени как философские, миросозерцательные, так и художественные источники и идейно-художественную природу романа-мифа, вывернутого смехом «наизнанку». Перед нами смеховой роман-миф, который травестирует, высмеивает, отрицает сам себя, сами свои источники. В «Похоронах Великой Мамы» была предварительная репетиция карнавальной ревизии. В «Сто лет одиночества» перед нами своего рода карнавальный похоронный балаган, в его огне сгорает и прежний Гарсиа Маркес, тот, что зашел в сумеречный тупиковый мир.
Глобальность смеховой ревизии очевидна, если увязать между собой два основных структурных идейно-художественных элемента – инцест и одиночество, константы западного модернистского искусства XX в.
В названии романа «Сто лет одиночества» одиночество – вот главный фокус внимания писателя, главный мотив, организующий образную сеть романа и его философию. Что сделал Гарсиа Маркес? Он это итоговое положение модернизма, эту «задушевную» идею и ключевую позицию экзистенциалистского сознания, философии одинокого, отчужденного индивидуума, онтологизировал, т. е. увековечил, превратив в изначальную и главную черту своего рода, всех его представителей, отмеченных печатью этого проклятия, как и печатью другого тяготеющего над ним проклятия – рока инцеста, приводящего к катастрофе. Объектом травестии стал не только миф как жанровая структура, которая воплощает абсурдное кружение бытия без качественных изменений, но и весь репертуар идей, утверждающих триаду «насилие – отчуждение – одиночество» как константу истории человечества. Философию сумерек человека и человечества, ведущую к идее смерти, он оспорил фантастической действительностью, где действуют возрождающие силы, источник которых – полнокровное народное бытие.
Противостояние идеологии одиночества и идеологии коллективистского бытия, из столкновения которых и рождается смех, – вот главный конфликт романа. Здесь полемика идет по принципиальным вопросам бытия человечества, в рамках «больших смыслов» истории, в рамках великого спора о жизни и смерти человечества в XX в. Это спор между силами бытия и энтропией.
И смех в фантастической действительности Гарсиа Маркеса высекается не только на полюсах жизни и смерти, но и на полюсах индивидуалистического и коллективистского начал. Смех здесь, как хирургический скальпель, препарирует трагизм, чтобы выявить его корни и истоки. И направлен он точной рукой в самый центр той опухоли, от которой гибнет род Буэндиа: «недоброе сознание», «недобрая ситуация» мира. Но что в корне? Одиночество? Да, все Буэндиа одиноки, и их история – это история одиночества. Но все-таки это не причина, а следствие. А в чем корни?
Обратимся к завязке трагедии. История рода началась, как в мифах, с инцестуального брака Хосе Аркадио и Урсулы. Урсула знала об его опасности, но Хосе Аркадио не хотел обращать на это внимания. И брак осуществился путем насилия. Как это было? На гальере петух Хосе Аркадио победил петуха Пруденсио Агиляра, и тот, уязвленный, оскорбил Хосе Аркадио, поставив под сомнение его мужские достоинства, поскольку он живет в девственном браке с Урсулой. Хосе Аркадио, возмущенный, пошел домой за копьем, убил Пруденсио, а затем, потрясая тем же копьем, заставил Урсулу выполнить свои обязанности жены. Так было положено начало роду.
Род начался с убийства, насилия, инцеста и с… петухов. Снова петухи, как в «Палой листве», «Полковнику никто не пишет» и «Недобром часе». Но там были не вполне ясные сигналы, теперь метафора обрела философский смысл.
Авторы статьи «Петух» в «Мифах народов мира» – В. Н. Топоров и М. Н. Соколов – поясняют универсальное содержание мифообраза петуха: он связан и с солнцем, и с подземным миром, поэтому с петухом во многих мифологиях ассоциируется «символика воскрешения из мертвых, вечного возрождения жизни»[42]42
Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 310–311.
[Закрыть]. Он символизирует и плодородие в его производительном аспекте (начало солнца-жизни), сексуальность, храбрость, мужское начало, в сниженном варианте – эротическое влечение, вирильность и агрессивность (начало смерти). Петух возвещает и восход солнца, и его закат.
Все эти смыслы присущи и образу петуха у Гарсиа Маркеса; писатель обращается не к книжным источникам, а к народной культуре. Связанный с распространенной по всей Латинской Америке традицией петушиных боев, петух – важная тема народного песенного и пословичного фонда, откуда он перешел и в профессиональное искусство (например, известный кубинский художник Мариано Родригес создал целую живописную мифологию петуха), и в сферу общественно-политической символики (петух – политическая эмблема). Петушиные мотивы и в мировой мифологии, и в латиноамериканской народной культуре двоятся: начало плодородящее, героическое, с одной стороны; с другой стороны, символ человека «мачо», т. е. «самца», самоутверждающегося голой силой, – символ виоленсии. Победа в петушиных боях – символ победы обладателя петуха, символ его мужского превосходства, чем вызваны порой кровавые развязки петушиных боев, обычно в крестьянской среде. Как в начале истории рода Буэндиа. Перед нами бытовая, реальная ситуация. «Ишь, петухи распетушились» – можно было бы сказать о стычке Хосе Аркадио и Пруденсио Агиляра. И в то же время перед нами ситуация, исполненная глубокого мифологического символизма, проясняющего корни преступления инцеста.
Теперь об инцесте. Как уже отмечалось, это универсальный мифологический мотив. С ним в мифологии связывается начало рода: «Первопредки, первые люди во многих мифологиях предстают в качестве брата и сестры»[43]43
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 200.
[Закрыть]. Но впоследствии в мифологических сказаниях по мере разрастания рода инцест запрещен и если он происходит, то вызывает в мире беспорядок, влекущий за собой космические нарушения, катастрофы[44]44
Там же. С. 214.
[Закрыть]. Мифологические мотивы – это фантастическое преломление и интерпретация реального хода социогенеза. Общественно-биологическая эволюция неразрывно связана с отрицанием инцеста, и запрет на него стал важнейшей нормой гуманистической традиции. Это нашло отражение в трагедиях Софокла о царе Эдипе, где инцест порождает беспорядок в природе – мор – и воспринимается как тягчайшее нарушение человеческой нормы. Инцест – это шаг назад от социума, попятное движение за пределы социальности и гуманистичности к «одиночеству» животного мира, к петухам.
Петух – Хосе Аркадио, возбужденный петушиной кровью, убил человека своим клювом-копьем, потом, потрясая им же, заставил Урсулу исполнять супружеские обязанности. Петушиное, животно-эгоистическое насилие стало истоком рода, и ему предстоит, выйдя из сферы социальности, вернуться в холод животного начала. Сначала были «петухи» и насилие – такова формула библии, создаваемой Гарсиа Маркесом.
Что сделал Хосе Аркадио после двойного насилия – убийства и инцеста? Убил всех своих бойцовых петухов (а вначале в аркадической обстановке земного рая он только тем и занимался, что «пас» своих петухов), зарыл во дворе дома копье (клюв) – и, мучимый призраком Агиляра, ушел с женой и селянами и на новом месте запретил разводить бойцовых петухов. Но если от разведения петухов можно отказаться, то невозможно уйти от проклятия насилия и порождаемой им верховной силы – смерти, которая в жизненном проявлении выступает как одиночество, лишающее человека целостности бытия. Все Буэндиа будут вести себя в отношениях с мужчинами и женщинами, в исторических событиях, как первые Буэндиа: подобно бойцовому петуху, птице, ведомой первобытным бездумным инстинктом, – и все они, как это обнаруживает последний Буэндиа, листая Британскую энциклопедию, будут иметь татарские скулы, удивленный взгляд и одинокий вид. И не то чтобы Буэндиа были злодеями, автор далек от ригоризма в отношении к ним. Это обычные, нормальные люди, более того, это замечательные в своей жизнестойкости и мощи типы, писатель любуется ими, их жаждой познания, необузданной энергией, яркими вспышками страстей; мотив бойцового петуха имеет и явно выраженное, хотя и с комическим оттенком, героизирующее начало. Но их норма человеческого обужена, ограничена петушиным – животно-эгоистическим – началом, находящим выражение в разнообразных формах индивидуализма. Не внеземная сила определяет роковую судьбу рода в мифе Гарсиа Маркеса, а сам человек, своими качествами создающий мир, в котором он живет, своей сущностью детерминирующий течение событий и их исход.
Самое высокое и символическое проявление ограниченности истинно человеческого в роду Буэндиа – их неспособность к любви, той высшей форме единения, что не известна животному миру. Это осознает родоначальница Урсула, которая с самого начала знала, чем грозит ей брак с Хосе Аркадио, и с беспокойством наблюдала за безумствами своих потомков. Ослепшая, совсем древняя старушка, она прозревает внутренне и понимает, что все беды из-за неспособности Аурелиано любить.
Любовь среди Буэндиа – это грубый произвол эгоистической плоти (как у тех, кто носит имя Хосе Аркадио), самопожирающая страсть (как у тех, кто зовется Аурелиано), равнодушное петушиное насилие (и у тех, и у других) или холод, страх, трусость, самопоедание (как в судьбе Амаранты и Фернанды). Итог один – не объединение, а разъединение людей, погребенных в подземелье своего одиночества.
Наиболее полно концентрирует в себе тему любви Ремедиос Прекрасная. Казалось бы, она создана для воплощения идеала любви. С естественностью невинной Евы в раю она бродит по дому нагишом, но эта обнаженность лишь символ неспособности к любви. Ремедиос вообще не ведомо это чувство, поэтому ее красота несет всем вокруг нее «не дыхание любви, а губительное веяние смерти». И понимает ее лишь равный ей в своей опустошенности полковник Аурелиано Буэндиа. Он вовсе не считает ее дурочкой, как другие, а видит в ней родственное существо. Одиночество – это бесплодие, и потому невинность и чистота Ремедиос Прекрасной сродни невинности Амаранты, которая отказывалась от любви всю жизнь из трусости, эгоизма и страха.
С Ремедиос связан и другой мотив. Ее красота – хоть и обманчивое, но все-таки воплощение идеала любви. Это и позволило писателю найти такой простой и выдающийся по красоте исход ее судьбы, как вознесение… на простынях, подхваченных ветром. И здесь писатель юмором высветил трагедию. Ремедиос вознеслась, а остальные Буэндиа остались блуждать в «пустынях одиночества» – один в пустыне животного инстинкта, другой – противоестественного влечения, третий – отчуждения, четвертый в пустыне одиночества войны, мятежей, убийств.
Тема одиночества наиболее полно воплощена в образе полковника Аурелиано Буэндиа. Его образ выводит центральные темы с уровня индивидуального и семейно-родового существования на уровень истории. Замечательна интуитивная логика развития образа Аурелиано, второго сына первопредков, она точно соответствует логике мифологического мотива инцеста. В первом сыне – Хосе Аркадио – преобладало физическое воплощение виоленсии, прежде всего в его агрессивной сексуальности, которая заставляла содрогаться Урсулу и думать о предсказанном свином хвостике. В образе Аурелиано воплотилась другая ипостась эдипова комплекса. С. С. Аверинцев, анализируя мотивы трагедий Софокла, писал: «Символ инцеста связан с двумя семантическими линиями: одна ведет к идее экстраординарной власти тирана, другая – к идее экстраординарного знания тайноведца»[45]45
Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 98.
[Закрыть].
Обе черты присущи Аурелиано, который плакал в животе матери (признак экстраординарности), родился с открытыми глазами, обнаружил качества ясновидца (естественно, в комическом преломлении), замкнутость, стремление к самосжигающему отчуждению, а на новом этапе своей жизни стал настоящим тираном. Темы насилия, одиночества, тирании в одновременно обдумывавшихся романах «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха» связывают эти две книги, из одной в другую перетекали идеи и символы. В образе Аурелиано жизненное, историческое содержание «просвечено», что характерно для Маркеса, до архетипа, а значит… до петуха.
Источник образа Аурелиано изначально двойственный – дед Гарсиа Маркеса и генерал Рафаэль Урибе Урибе, командующий войсками либералов. В историю Аурелиано из «Ста лет одиночества» вошли целые жизненные сюжеты из биографии генерала. Например, эпизод пленения Аурелиано, которого в заключении посещает Урсула. Урибе Урибе в аналогичной ситуации навещал отец, в ответ на замечание тюремного начальства о том, что его сын и в камере пытается организовать заговор, ответивший: «Таких, как Рафаэль, в тюрьме не держат, их расстреливают; расстреляйте его, ибо и у привязанного петуха растут шпоры»[46]46
Méndez, Lucila Inés. El general R. Uribe y Uribe como modelo del coronel Aureliano Buendia // Revista iberoamericana de bibliografía. Washington, 1975. Abril-junio. N 2. P. 120.
[Закрыть]. На такое замечание, вероятно, и Буэндиа ответили бы также.
С Аурелиано «петушиная» философия выводится за пределы семейно-родовых отношений, на простор истории. И это не фантасмагория, а увеличенная лупой фантастики историческая реальность Латинской Америки, ее мира виоленсии, бесконечных гражданских войн между либералами и консерваторами, которые, перемалывая народ в мясорубке войн, боролись каждый за свою тиранию: за то, в какой цвет красить дома, белый или в синий. Естественное порождение этой истории – рвущиеся к власти тираны – «мачо», каким становится Аурелиано. Пройдя круги братоубийственной войны и вывалявшись «в навозе славы», он заживо гниет, отделив себя от остальных меловым кругом в три метра, за который никто, даже его мать Урсула, не смеет ступить.
Наивный Херинельдо Маркес, дед Габриэля Маркеса, верил в то, что сражается «за великую партию либералов». Аурелиано, давно понявший бессмысленность свистопляски смерти, которую он развязал, знает, что сражается только ради своего «петушиного эгоизма». И теперь по-иному звучит шутка из повести «Полковнику никто не пишет» о том, что в лагерь к Аурелиано приводили молоденьких девушек, как кур к породистому петуху. Домой он вернулся с тремя наложницами и равнодушно «потребляет» их после обеда во время сиесты. И не случайно Урсула кричит сыну, когда тот, сжигаемый внутренним холодом одиночества, приговорил к смерти своего друга Херинельдо: «Ты делаешь то, что делал бы, если бы родился со свиным хвостом». Неспособность к любви – конечная точка в этом процессе одичания.
Зарыв во дворе оружие (как в свое время его отец – основатель рода), Аурелиано погрузился в полное одиночество, отрекшись не только от чужих, но и от своих, и никого не узнавая. Не случайно он не видит отца, умершего, но сидящего, как прежде, под родовым древом – каштаном (его видит и с ним беседует Урсула), не случайно он мочится именно на этот каштан, а выйдя в очередной раз помочиться на древо рода, умирает, прислонившись к нему и вжимая голову в плечи, как цыпленок. Круг замкнулся – петух вернулся к маленькому, беспомощному цыпленку, а затем и в небытие, откуда пришел. Одиночество не может продолжать род: все семнадцать незаконных сыновей Аурелиано от разных женщин мечены пепельным крестом одиночества и все гибнут.
Впоследствии мотив петуха не раз возникает в связи с другими персонажами. Так, словно походя, Гарсиа Маркес бросил, что один из последних в роду, вялый и томный, декадентского склада потомок Буэндиа, который учился в Риме «на папу», не любил петухов. А предпоследний в роду Аурелиано, от которого родился ребенок со свиным хвостиком, подобно основателю рода, разводил петухов.
Но, уже говорилось, в «Сто лет одиночества» архетипическое (а петух, хотя это и травестийно сниженный, с оттенками комического, но именно архетип) и реально-жизненное – это взаимоотталкивающиеся полюса. Персонажи обретают твердость и «окончательность» архетипа, но ощущается и проистекающее из их гуманистической глубины сопротивление жесткости схемы. Буэндиа обладают своеволием, которое ценил Достоевский, отрицавший сведение человека к формуле «дважды два», – своеволием, т. е. внутренней свободой, неограниченностью человеческого.
Внутренняя основа художественной стихии «Ста лет одиночества», одновременно романа и мифа, трагедии и комедии – динамическая противоборствующая гармония. Человек и «жесток», и внутренне свободен, он никогда не равен самому себе, он всегда больше себя самого, больше всякого архетипа, притчи, схемы. Заключенные в скорлупу одиночества, Буэндиа долбят ее страданием, страхами, отчаянием, в которых сокрыто их понимание своей трагической неполноты. За трагическим опустошением Аурелиано Буэндиа – плач о человеке, и это знак авторского начала, ведь автор сам один из них – тот самый Габриель Маркес из Макондо, который едва не породнился с Буэндиа. Поэтому некоторые из них хотя бы раз в жизни осознают свою беду, как, например, близнец полковника Аурелиано – Аркадио – перед расстрелом, или Амаранта, готовящаяся к смерти. Каждый из них думает, что жизнь надо было прожить по-другому, но озарение приходит в последний миг, когда вся прожитая жизнь предстает перед зеркалом смерти.
Мотив смерти как зеркала жизни получил обобщенное выражение в финальном эпизоде романа, где отец ребенка-свиненка, лихорадочно расшифровывая пергаменты Мелькиадеса, увидел в зеркале книги пророчеств всю историю рода и осознал причины его несчастий. В этом эпизоде, где жизнь рода смотрится в зеркало небытия, находит завершающее выражение основной внутренний принцип художественной стихии романа – сближение полюсов жизни и смерти, их притягивание и взаимоотталкивание.
Тем не менее мотив зеркала не однозначен, он обладает и иными смыслами. Помимо «зеркала истины», есть мотив, поясняющий тайное зерно болезни Буэндиа, – мотив зеркальной повторяемости родовых черт. Потому важно в каждом случае верное понимание мотива зеркала. Как знак потаенной болезни Буэндиа зеркало появляется в самом начале романа. Во время странствий по сельве в поисках места для нового поселения Хосе Аркадио видит вещий сон, слышит невнятно произнесенное Макондо и видит будущий шумный город с «зеркальными стенами» («саsas de paredes de espejo»). В русском переводе романа это звучит как: «Стены домов сделаны из чего-то прозрачного и блестящего»[47]47
Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества. Повести и рассказы / Перевод Н. Бутыриной, В. Столбова. М., 1979. С. 52.
[Закрыть]. Однако тут речь идет именно о «зеркальных стенах»; зеркальное и прозрачное имеют противоположные значения: зеркальное – символ повторяемости, это символ Буэндиа; прозрачное указывает на возможность иного мира, иных людей.
Об этом говорил Мелькиадес: узнав из Нострадамуса пророчество о судьбе Буэндиа, он пояснил Хосе Аркадио, что Макондо исчезнет, и на его месте вырастет «великолепный город с большими домами из прозрачного стекла», где не останется и следов от рода Буэндиа. Нет, спорил Хосе Аркадио, там всегда будет кто-то из Буэндиа, а стены домов будут изо льда! В сознании Хосе Аркадио, пораженного невиданным чудом – глыбой льда, которую за деньги среди прочих чудес показывали цыгане, совместились видение города со сверкающими зеркальными стенами и идеальное начало, которое он увидел в ледяной глыбе. В тропиках лед, как солнце для северян, наделен притягательными идеальными признаками. Не случайно впоследствии один из потомков Хосе Аркадио, словно выполняя сумасбродную мечту предка, попробует построить фабрику льда – проект, который лопнет, как и другие проекты Буэндиа.
Итак, Буэндиа выстроили город, но не изо льда, а с зеркальным принципом повторяемости бед и несчастий. Идеальное, мечтаемое, то, что они обнаруживают в момент истины в зеркале смерти, недосягаемо, ведь над ними довлеет рок, а он неодолим. Разумеется, «Сто лет одиночества» это не только миф, но и роман, но верна и иная постановка – не только роман, но и миф, т. е. сфера действия рока. А главное обличье рока в романе-мифе – это время. Именно в его образе полнее всего воплощается внутреннее противоборство сил, определяющих жизнь рода: неизменность – изменяемость, повторяемость (зеркальность) – вариативность, жизнь – смерть.
История времени в романе-мифе двойственна, как и все остальное. Противоречие в том, что время и развивается, и не развивается. Как всегда, Гарсиа Маркес создает мимикрию тщательно выверенной хронологии. Так, скажем, сообщается, что цыгане появлялись в Макондо ежегодно, в марте; Хосе Аркадио открывает, что земля кругла, как апельсин, в декабрьский вторник в обеденный час; жители Макондо теряют сон на заре в понедельник; Амаранта умирает в четверг. Время течет, взрослеют дети, стареют предки, рождаются внуки. Род растет, движется куда-то к своим пределам. Но что это за время? Март, вторник, четверг какого года, а год какого века? Как уже отмечалось, «Сто лет» – это «тысяча лет» детской игры, сказки. Псевдодаты создают впечатление движения жизни, но на самом деле иллюзия лишь маскирует истину: время кружит на месте. Ведь перед нами время мифа; оно замкнуто в границах мифа и не выходит за его пределы. Это время рока, время повторяющихся зеркал. В романе-мифе слились и взаимодействуют две взаимоисключающие концепции времени – хронологического, линейнего, исторического времени жизни и – кругового, циклического, мифологического времени вечности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































