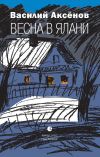Текст книги "Пламя, или Посещение одиннадцатое"

Автор книги: Василий Аксенов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Серёга говорит о них: «Семья – это не только бабушка и дедушка, семья – это ещё жена и муж».
Записывать не буду. Спросил про смысл его, а он и сам не понимает.
«Ляпнул и ляпнул он…»
«Кто – он?»
«Да кто… Вольноотпущенный».
Есть на кого всегда свалить – удобно.
Остальные – далеко от нас сидят, и всех не перечислишь, и перечислишь всех – тут же забудутся. Массовка. Здесь я без всякого пренебрежения. Просто про всех сказать мне слов и времени не хватит. Все они люди замечательные, скажу вот это, и достаточно.
Многие едут – иногда по чьей-то подсказке, в основном, конечно, по знакомству с Александром Евгеньевичем или с Надеждой Викторовной, по их же приглашению, я нынче никого сюда не зазывал, – вместо южного курорта, не в геологические, не в этнографические, не в какие-то ещё, а в археологические экспедиции. Модно. И к нам вот едут в том числе, прямо хоть доступ ограничивай. Добраться дёшево и просто – и поэтому. На электричке, на автобусе – до места, пешком по бездорожью не плестись. Ладно, пусть едут. Не жалко. Как умеют, помогают. Ну, вот и песни нам поют, играют на гитаре, концерты камерные устраивают. Рассказывают разное, о чём до этого мы и не слышали, не знали. И телевизора не надо. «Клуб путешественников», «В мире животных», «Вокруг света», «Очевидное – невероятное». Всё на одном «канале», переключателем нужды нет щёлкать. Гостил один, моряк военный, контр-адмирал, в отставке, на днях уехал – тот был для нас «Международной панорамой». Всем мировым буржуям доставалось от него с лихвой, и больше всех «алчной акуле империализма» – американцам. Тем поделом. Я не сказал ему, что я служил на флоте, – начал бы он меня, ничуть не сомневаюсь, строить. Мне это надо? «Долг оплатил». И своевременно. И добросовестно, как мог. Но что-то он подозревал, и не уехал бы он рано, добрался бы и до меня. Серёгу строил – тот в тельняшке. То и дело, прохаживаясь по бровке, повторял нам, копошащимся в раскопе: «Честный матрос любит спать, а не служить. А вы тут собрались все, вижу, честные. Так и хочется сказать вашим родителям, чтоб впредь предохранялись». Командир нашей лодки капитан первого ранга Вячеслав Фёдорович Врацких говорил про таких: «Командир корабля, надводного или подводного, только тогда вызывает заслуженное уважение, когда сумеет сделать жизнь своих подчиненных невыносимой». Этот бы сделал, поживи он с нами дольше, невыносимой нашу жизнь.
Провозгласили тост:
«За тех, кто в поле!»
«За археологов!»
Ну и хватило бы.
Время не говорить, а брать за жабры праздник.
Ирину, журналистку, понесло (не на начальство почему-то, а на Васю смотрит, Вася внимательно разглядывает кружку, как будто выкопанный артефакт):
Немало тайн в земле целинной
Хранят истории пласты:
Пусть руки Ваши часто в глине,
Зато намеренья чисты:
Неутомимейший искатель
В труде с наукой пополам…
С Днём археолога, приятель!
Находок интересных Вам!
От Ирины эстафетную (тостовую) палочку принял Александр, актёр из ленинградского Театра комедии, – продекламировал красиво:
Ты под прошлое
Копаешь
И о прошлом
Много знаешь,
Для тебя секретов нет,
Получай от нас привет!
Получили. Выпили.
Когда сюда поехал, из уважения к нам или из актёрской привычки стих вызубрил, тут ли кто-то накануне надоумил?
Выслушали мы. Внешне спокойно, внутри – с нетерпением. Понятно. С другого конца стола ещё кто-то собрался было пропеть нам дифирамб, его вовремя остановили – люди мы простые, не тщеславные, на лесть не падки. Руки у нас рабочие – в мозолях. Солдатам – в бой, нам – сразу к делу.
Громко зачокались: кружки эмалированные – не хрустальные бокалы – захочешь, их не разобьёшь. И настроение – как у гусаров перед схваткой.
Выпили. Женщины – шампанского, для начала, как говорит Серёга – для разгона; мужчины, те – кто что, давно уже негласно начали. Мы – Серёга, я и Вася – яблочного вина, черпая его кружкой прямо из ведра, на столе среди другой посуды величаво возвышающегося. «Славяно-финны» – кто коньяку, кто водки, noblesse oblige. А вы как думали? Археология, не хухры-мухры.
Поели с волчьим аппетитом макароны по-флотски. Дежурных по кухне и повариху, ту особенно, облизывая ложки, благодарно похвалили: угодили так уж угодили. Кто-то добавки попросил, кто-то стал чай пить с хлебом (без эклеров), кто-то отказался – «толку-то с чаю». Мы среди них. Ну, в самом деле.
Совсем стемнело. Луна ещё не поднялась, не показалась, или пока отсюда нам её не видно – низкая. Скоро появится – ни туч, ни облаков – нежными бликами, как рябью золотой, на тихом Волхове себя объявит. Какой бы ни была она, полной, ущербной ли, – всегда тревожит. Нынче уж вовсе – «юная, растущая». Ну, словом, месяц. Когда над Волховом повиснет – душа смутится духом Вечности, кто-то из русской древности в неё, душу твою, легонько постучится, может – твой предок. Что-то сказать в ответ ему захочется. Но что? Когда ни слова на уме, а на душе – одно томление. Кто как, не знаю, я – как немой. В такие ночи. Свет сотворён уже, мир сотворён, и Бог тебя творит – такое чувство. Помилуй боже. Мысли мои так разгулялись. С чего – понятно. Я им теперь уж не пастух.
Выйдя из-за стола, побрели все, кроме дежурных по кухне, разночисленными группами кто куда. «По своим стратам», – как сказал Серёга. Начитанный. Ещё бы русский подтянул, цены бы ему не было. Не устный – письменный. Устный – на уровне, «вольноотпущенный». В основном – поближе к раскладушкам. Не спать, а разговаривать и допивать то, чем кто заблаговременно запасся. А запаслись, судя по намёкам, перемигиванию и обрывкам разговоров, богато.
Один же раз в году… как день рождения.
И вот тут, вскоре, память моя как будто поняла – на это она острая, – что мне, хозяину её, не до неё, и перестала выполнять качественно и добросовестно свои прямые обязанности, стала историю фиксировать, как ей угодно. Возможно – и фальсифицировать, нещадно искажать. Давно замечена в дурных повадках, но не уволишь, так как замены не найти.
То тут себя вдруг стал я обнаруживать, то там. Включили – выключили – и опять включили. Будто.
Вот я в дальнем правом углу бывшей трапезной, в гостях у милых сердцу «славяно-финнов». Они приветливы со мной. Тут же артисты, журналисты и океанологи. Что-то налили мне, я что-то выпил. Скальд про диплом меня спросил. Ответил. Заговорили они, почему-то тихим шепотком, о норманнской теории. Кто за, кто против. Как обычно. Кто-то и говорит, что «крамола в ладожском сюжете. Северную и Южную Русь объединил норманн Олег», мол, что «Ладога и Новгород – альтернативный, европейский, путь России», дескать, но потом «при Третьем и Четвёртом Иванах путь России в Европу был закрыт» и направился, мол, «прямо в Азию, к ордынцам».
А я сижу на раскладушке моего начальника, с краюшку, бочком, и думаю: «И слава богу, что закрыли. А вовремя бы этого не сделали, и раскинулась бы по евразийскому пространству вместо радонежско-саровско-донской России Великая-превеликая и гордая-прегордая во всех отношениях Польша, от моря и до моря, и до Уральского хребта, а то и Дальнего Востока. Мне это надо? Нет, не надо. Паном бы в Великой Польше стать не довелось мне, лицом, русак, не вышел, был бы быдлом. Нет уж, спасибо». Сижу и думаю: «Шведы крестились на сто лет позже, чем мы, и они, дикари, государство нам построили? Куда там!.. Просто характер у нас такой, что договориться иной раз между собой не можем, ну и зовём в посредники кого попало, первого прохожего, последних шведов и других датчан… А после долго ли прогнать “строителей” при нашем нраве».
И Скальд, как будто между прочим, всем сообщает, что «жил в Киеве варяг по имени Феодор, языческое имя которого было Тур или Утор. На его сына выпал жребий быть принесённым в жертву языческим богам. Феодор, Фёдор ли, сына не отдал. Оба они погибли. А на месте их мученической кончины Владимир после крещения воздвиг Десятинную церковь. Феодор Варяг и сын его Иоанн почитаются как первые русские мученики».
Какие? Русские! А были кем? Варягами. Так мало ли кем были, а стали русскими святыми. Вот вам, жуйте.
Хоть и тонко, но о чём, понятно. Намёк намёков. Уважаю я Скальда. Да и ко всем остальным, не яростным западникам, а покладистым славянофилам с нашей кафедры, отношусь с почтением, сейчас – особенно глубоким. Умные собеседники, люди хорошие, отличные учёные. Не то что сказать – язык не повернётся, но и подумать о них дурно – мысли не мелькнёт. Таких бы больше.
И слышу – Конунг:
«Должны быть найдены следы словен и кривичей, они, скорей всего, здесь появились раньше викингов, в предустье Волхова. Уверен. Кольца височные к такому выводу меня склоняют. Славяне рядом где-то тут крутились, без них никак не обошлось бы – подвижный народ».
«Другое дело!» – я это, предок ли во мне с отцовской или с материнской стороны, оба ли разом возгласили.
Запели «славяно-финны» – один затянул, другие дружно подхватили, – пусть и нестройно, но приятно:
Мы по речке по Капсле идём,
Мы лапши в рюкзаки напихали,
И для бедных славистов несём
Норманизма седого скрижали.
В деканат, в партбюро, в деканат – в деканат
Археологи тащатся в ряд.
Это кто-то из наших, наверно,
Языком трепанул черезмерно…
Не про норманнское ли засилье и «строительство»?..
Задумался я на какое-то мгновение. О чём-то. О чём можно на мгновение потерять себя во времени и в пространстве. Может – о Мироздании. Об одноглазом боге Одине. Может, о девушке какой-то. Есть одна…
Нашёл себя тут, в трапезной. Опять внимательно слушаю:
Под крутым и свирепым норд-остом,
Тем, что дует сильней и сильней,
Не беда, что остался лишь остов
От бесстрашных варяжских ладей
В деканат, в партбюро, в деканат…
Мы храним свои мысли в ларе
За семью пребольшими замками
И лишь только на смертном одре
Сможем крикнуть: «Победа за нами!»
В деканат, в партбюро, в деканат…
Думаю: «Гимн оголтелого норманизма».
Уши себе не затыкаю, но и не подпеваю – бескомпромиссен.
Будь он, думаю, неладен. И этот гимн, и норманизм. Сколько с ним копий было сломано. А сколько ещё сломят?
Это уж точно я подумал, а не мой далёкий предок. Предок не слышал этой песни. К моему спокойствию и счастью. Напевали они, сидя возле костра или за вёслами на водных пространствах, совсем другие мотивы. И под другие инструменты – не под гитару. А если бы и услышал он, мой предок, эту песню, многого бы в ней не понял. Ясно. Норманизм, рюкзак, слависты, археологи… Долго пришлось бы объяснять. Ну и прибил бы мой предок меня, наверное, за эту глупость. Может, и правильно бы сделал.
И про себя пытаюсь выговорить: «Сами… саму… самоуничижаюсь… ненамеренно». «Вольноотпущенный» и тот не справился бы с этим словом. А мой вот смог. Я же туда пустым не заявился бы – без парочки гранат и без калашникова. В прошлое.
Вошёл с улицы Серёга, позвал меня.
«Одному, – говорит, – не в жилу».
Понимаю.
Сходили мы до ведра, оставленного в кустах. Звучит – как «до ветра». Нет, ветра нет, лист на акациях не шелохнётся, в ушах не свистит. Безветрие. Сходили до ведра. То, что стояло на столе, – то опустело.
За что-то выпили. Да, «за Мечту». С Серёгой ж выпили, не с кем-то.
Серёга говорит:
«Пойду на Волхов».
«Ступай», – говорю.
«А ты?»
«Песни послушаю… Пока поют».
Пошли. Идём.
На кухне сидят, видим, двое. Не рядом. С одной стороны стола и с другой.
Слышно:
«Нет, Саша, нет. Мы вместе, пока жива мама. Ты понимаешь. Я не смогу тебя простить».
«Лена, там – всё».
«Я же сказала, Саша: нет».
«Ну, дай мне время…»
«Не поможет».
«Дай, Лена, шанс».
«Уже давала».
Прошли мы. Идём. Я говорю:
«Лена и Александр».
«Театр – жизнь, – говорит Серёга, – мы в нём актёры».
«Молодец», – говорю.
«Я тоже, – говорит Серёга, – когда-то любил. В седьмом классе. Правда, вприглядку».
«Как это?» – спрашиваю.
«Ну как. Ну так. Сидишь на уроке, смотришь на улицу, а там, за окном, по тротуару, молодая бухгалтерша то на работу идёт в колхозную контору, то из конторы куда-то, начипуренная, в завитушках… Я и влюбился. По самые ухи в неё втюрился, по корни волос, спать не мог и есть не мог – о ней всё думал».
«И дальше что?» – интересуюсь.
«Потом, в марте того же учебного года, во время капели, она уехала… В Вологду, – говорит Серёга. – На повышение. Мне и учиться сразу стало скучно, на второй год чуть было в седьмом классе не остался. Мозги задеревенели от тоски. И спать не мог опять и есть не мог».
«Вот это повесть», – говорю.
«Скоро совсем уж в уксус превратится», – говорит Серёга.
«Повесть?»
«Какая повесть?.. Да вино».
«А-а. Не успеет».
И стали расходиться: Серёга – на берег Волхова. Я – в бывшую трапезную.
Слышу:
«…И слез с коня своего, желая взять главу коня своего, сухую кость, и лобзать её. И тотчас изошёл из главы из коневой, из сухой кости, змей и уязвил Олега в ногу. И с того разболелся и умер. И есть могила его в Ладоге».
Конунг. Много чего из летописей наизусть знает. Страницу за страницей перескажет, не запнётся. Это, кажется, из Архангелогородской. И как вмещает? Голова его не больше, чем моя. Размером. Нашёл сравниться с кем я, он же – Конунг. Он в основном там и живёт, в том времени, а я – туда наведываюсь изредка.
Налили что-то мне. Я – не отказываюсь. Память, чуть пристыдил её, пока при мне – повиновалась.
Думаю, вспоминая:
«Воистину солгали мне волхвы наши. Да придя в Киев, побью волхвов».
И думаю: «И так их!»
Скальд спросил у меня про мой диплом, как продвигается. Александр Евгеньевич его успокоил: «Пишет, пишет, не заботься, вовремя сделает».
«Сдохнет, но сделает!» – сказал грубым и повелительным тоном кто-то мне в левое ухо, я даже понял – кто. Кто-то.
«Сделаю, но сдохну, товарищ мичман!» – ответил я.
Кто меня слышал, брови только вскинул.
Выпили они, Конунг и Скальд, – меня как будто тут и нет. Не предложили, значит – рядом меня не было. Но вижу: другие тоже выпили. Запели:
По звёздам Млечного Пути лежит отцов дорога.
По звёздам Млечного Пути мой путь в морях лежит
От родового очага и от друзей далёко,
Туда, где лижет берега лазурная волна.
Здесь, на земле чужих богов, не властен грозный Один.
Здесь Тор меня не защитит, и Фрея прячет лик,
И только старый добрый меч да щит из бычьей кожи
Отважных викингов хранит от сотен вражьих пик.
Меха Гардарики лесной, коварных греков вина,
Янтарь балтийских берегов, арабов серебро –
Я положу к ногам твоим все украшенья мира,
Пусть только Фрея сохранит твоей любви тепло.
Но путь в Византию далёк под небом нелюбимым.
Ты, разлюбив меня, уйдёшь в чужой коварный род.
Тогда всё золото своё я замурую в глину,
И пусть один лишь скальд поёт о подвигах былых.
По звёздам Млечного Пути легла моя дорога.
По звёздам Млечного Пути, дракар, в морях лети,
Туда, где нежный юг заснул, не чувствуя тревоги,
Где тускло золото блестит, где смерть мужей косит.
Туда, где слышен брани клич, где жизнь полна тревоги,
Где можно вволю вина пить и королев любить.
Чуть вразнобой поют, но всё равно – до слёз меня пробрало. Боюсь, не разреветься бы – нахлынуло. Не первый год почти уже в профессии – вжился, как в собственное.
Последняя строка, про вино и королев, – и в дрожь иной раз от неё бросает. Но нынче выслушал спокойно.
А потом стою я, хоть и месяц яркий с неба светит, перед кромешной темнотой, вплотную к ней и ею обволакиваюсь. Новое, не испытанное до сего момента ощущение. Но кое-как соображаю, что это вовсе и не темнота, а – гурия Наташа. И у неё в руке кружка, и у меня в руке такая же. Чокнулись. Выпили. «За археологию». За что ж ещё? Не День архитектора или строителя. Даже не рыбака.
«Что это?» – спрашиваю.
«Наливка, – отвечает. – Вишнёвая».
«Ох ты!»
Потом – нет уже в руках наших кружек. Руки наши заняты другим.
Смотрю я на Наташу – как в ночь.
Обнимаю – как ночь.
Целую – как ночь.
Не отстраняется – окутывает меня бархатно. Гурия.
Перебираю в памяти: доселе неизведанное.
Амбра, шафран и… как его там… мускус.
Ещё и так: теперь что прозрачная, что нет, всё равно одинаково непроглядная – перед ней густая темнота, за ней такая же, ну и сама она – только на ощупь.
Пуговицы рубашки на Ночи расстёгиваю, из петелек тугих их ловко извлекаю. Пересчитываю. Одна, две, три, четыре, пять… Тело прохладное. А там, чуть выше пояса, на пояснице, в глубокой и крутой ложбинке, горячо. Ну, думаю. Ещё три мелких пуговицы – выше, выше по ложбинке, смело, дерзко…
Студенточка…
Пленился я навек тобой
Под серебристою луной.
И тут вдруг, среди этой ночи, возникает перед глазами другая рубашка; тело – и то другое будто под руками… И имя крутится на языке другое – Таня… Не называю вслух, а то Ночь спугну, наступит утро – рано ему пока, и мне встречать его пока не хочется… ночь хороша. Ох, хороша!
Зовёт меня Серёга, слышу. Зачем-то я ему понадобился.
«Жди, – говорю, – Темнота, меня здесь».
Не отвечает Темнота. Молчит – согласна, значит. Руку мою не сразу отпустила.
Вышел я на зов.
«Финн и Тувинец, – говорит Серёга, – на берегу сцепились, надо их разнять».
«А что, – спрашиваю, – они не поделили?»
«Да кто их, монголоидов, знает?»
Молодец, думаю, терминологию осваивает.
«Молодец», – произношу.
Пока шли мы с Серёгой до берега, не останавливаясь и никуда вроде не отклоняясь, там уже, между «монголоидами», полный мир установился. И из-за чего у них до этого случилась распря, осталось тайной. Причину ссоры и они уже забыли. «Чё тут у вас? Вы чё не поделили?» – спросили мы. Они ответили: «Ничё, нормально». Только Финн всё голову вверх запрокидывает – кровь у него из носа сама по себе, мол, пошла; что-то бормочет – кровь, наверное, заговаривает. «Сосуды, – объявляет вдруг, – в носу слабые, с детства». А у Тувинца? А у того все сосуды, дескать, не только в носу, но и во всей башке прочные, хоть нефть через них из Уренгоя в Ужгород перекачивай. Не прихвастнул, чувствую, не приукрасил. Ладно. Я, Серёга, Тувинец и Финн чуть погодя уже сидим рядком на бревне – как викинги, глядим на тёмный Волхов. И они, Финн и Тувинец, запаслись. Пришлось нам с ними выпить мировую. Их мировую. Мы ни с кем ещё не ссорились, я и Серёга. И у них вино яблочное. И у них такое же оно по вкусу. Не мускус, а почти уже уксус. У тех же куплено хазар.
Опять я где-то.
Опять не там.
Перемещаюсь в пространстве, не погружаясь при этом, как мистер Уинстон Найлс Румфорд и его пёс Казак, в хроно-синкластический инфундибулум, материализуюсь без всяких хитростей и приспособлений то там, то тут запросто.
Опять вот в трапезной. Слышу, поют:
Пусть не спорят потомки…
Вася подступил ко мне и шепчет на ухо:
«Ирину не видел?»
«Журналистку? Нет, – говорю. – А что?»
«Домогается», – говорит Вася.
«Так радуйся, – говорю. – Сама в руки идёт».
«Настойчиво. На берег тянет. Я и прячусь. Мне Катя нравится. С Катей хочу побыть. Самая гарная».
«Ну, – говорю. – На вкус и на цвет товарищей нет. На девушек – тем более. Ищи, – говорю, – свою Катю».
«Она где-то с Какту… нет, с Хер… кусом».
«Кактус-Херкус, – говорю, – не опасен, с тем только под руку ходить да про литовских рыцарей, при Грюнвальде всех победивших, разговаривать».
«Про злых гэбистов и про ласковых лесных братьев, то есть – фиалках… Кто его знает, – говорит Вася. – В тихом эсэсовце… не зря же кукарекает».
«Глубоко копаешь», – говорю.
«Мой дед, – говорит Вася, – бандеровцев в Карпатах крошил».
«Понимаю».
Пошли искать Херкуса и Катю. Мало ли…
Остановился Вася, начал какой-то металлический прут из земли вытаскивать. Не поддаётся тот, только шатается.
«Шо цэ такэ?» – спрашиваю.
«Это – Экскалибур», – говорит.
«Нет, – говорю, – Вася, это кусок какой-то арматурины».
«Не может быть!»
«Нет, Вася, может».
«Жаль», – говорит Вася.
«Тебе, – говорю, – обычных мечей и фальшионов мало?»
«Мало, – говорит Вася. – На диплом не хватит».
«Время ещё есть, – говорю, – накуёшь».
«Наковал бы, – говорит Вася, – да кузню создатели нашего государства, знаешь же, сожгли».
«Ты настоящий, Вася, археолог».
«Дякую», – говорит.
И переводчик мне уже не нужен – понимаю, что что-то доброе сказал мне Вася. Большей ещё к нему симпатией проникся. Доброе слово – и берите меня тёпленьким. Много ли человеку надо, как и кошке. Кот какой-то, лёгок на помине, от нас метнулся быстрой тенью, трава высокая – в ней скрылся. Кот или кошка, разбери их.
«Кит», – говорит Вася.
«Кто?!» – спрашиваю.
«Кит», – повторяет.
Ну, думаю, перебрал хлопец.
«Вася, – интересуюсь, – ты на проливе Лаперуза не бывал?»
«Нет, – говорит, – не доводилось. Даже во сне. А что?»
«Да так, – говорю, – мало ли».
Пошли мы дальше.
Нашли. Я – Катю, Вася – Херкуса. В разных местах.
Сошлись мы все возле Южных врат. Стоим.
Кого же мне, упорно думаю, напоминает этот Херкус?.. Вспомнил. Страшилу из «Изумрудного города». Вот! Краска с него пока не слезла. Да ночью-то… все краски ночью серые. Кроме одной – чёрной.
Слышу:
«Скажи, – говорит Херкус Васе, – что-нибудь по-вашему, по-человечески».
«Шёл хохол, – говорит Вася, – наклал на стол, шёл кацап, зубами цап».
«О-о-о», – застонал Херкус.
Появляются из темноты Финн и Тувинец. Мимо нас проходят, не узнали. Или чем-то так увлечены, что ничего и никого вокруг не замечают. У Финна под мышкой – кровь заговорил, наверное, за нос не держится, голову, как Херкус, не запрокидывает – доска шахматная. Тувинец руками размахивает, словно демонов перед собой разгоняет.
«Где-то у них припрятано, – предполагает Вася. – Как пить дать».
Выслеживать не стали. Своё имеется.
К столу идём. Есть что в ведре? Да нет, давно уже пустое. Ведь проверяли, да не раз. Пошли в кусты. Серёга нас догнал.
За Серёгину Мечту выпили. За счастливые и важные для науки находки тоже. Пошли куда-то.
За столом уже сидит кто-то – не один – несколько. Девушки-чертёжницы, похоже, артисты из Ленинграда и Ирина, журналистка из Москвы. Ирина и поёт:
Четвёртые сутки пылают станицы,
Потеет дождями донская земля…
«Вот оно что! – думаю я. – Откуда гонор!»
– Белогвардейщина! – говорит Серёга.
– Засада! – паникует Вася. – Надо обходить.
К ведру опять, потом – через кусты…
Опять я в трапезной.
Надежда Викторовна спрашивает:
«Наташа где, её не видел?»
«Видел», – говорю.
«Давно?»
«Сегодня, – говорю. – Недавно».
«Иди, Олег Николаевич, – говорит Надежда Викторовна, – поищи».
«Что ей сказать, если найду?»
«Найди сначала. Что ей сказать, она подскажет».
Просят – пошёл искать Наташу.
В активном поиске… попался, влип.
И я уже на сопке Вещего Олега. Я, Вася, Катя, Серёга, Наташа и Херкус. Если кого-то и не разглядел, то не со зла, и пусть не обижается тот кто-то. Но вроде всех, кто здесь присутствует, чётко именовал и верно перечислил.
Вид с сопки сказочный, великолепный. Один из красивейших в России. Насмотренный. Намоленный. Можно сказать так? Я сказал. Мне сейчас можно… Глядя на это, многие молились. А в состоянии таком – как через лупу. Или телескоп. Всё словно сильно увеличено. Я здесь про чувства, ощущения. Ясно становится, как оды сочинялись. А как молились – можно догадаться.
«Там, – говорю, как будто лекцию читаю, – церковь Святого Георгия и Дмитрия Солунского. Вы видите? А в другую сторону – Любша и Велеша. Место вокруг называется Морьещина, протекал здесь когда-то ручей Морев, то есть Мёртвый. Не так всё просто, господа потомки. Олега, моего тёзку княжеского роду, положили так, чтобы и после смерти стеречь ему было сподручно дорогую его сердцу Ладогу… А Рерих, – говорю, – даже не удержался от восторга – взял и картину написал».
Вася вставляет:
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
Херкус – как будто только что проснулся:
«Могила Вещего Олега, – говорит он не чисто по-русски, а опять с каким-то генетически и исторически противным для нашего славянского уха акцентом, – не здесь, а в Киеве».
«Ага! – говорю. – В Киеве! Как бы не так! Не съем, так надкусаю… Это киевский монах, редактируя “Повесть временных лет”, перенёс князя вместе с могилой на кончике пера в Киев, как кляксу поставил. А ты сидишь тут и её размазываешь. Мне не веришь, спроси у Александра Евгеньича».
И говорю:
«Скандинавская сага об Орваре Одде сообщает, что посмертное имя Олега Вещего было Орвар Одд, что означает “Наконечник Стрелы”».
Сказал, а Херкуса не вижу. Кому я только говорю?
Скатился тот с сопки, тихо шелестя травой, затих там. Не от моего ли, думаю, важного сообщения о киевском монахе низвергся – так его это огорошило. Ну, пусть узнает горечь знаний, пусть хорошо подумает внизу, поразмышляет о бесспорном.
И Серёга голос свой продемонстрировал:
…Каждый волхвов покарать норовит, –
А нет бы – послушаться, правда?
Олег бы послушал – ещё один щит
Прибил бы к вратам Цареграда.
Волхвы-то сказали с того и с сего,
Что примет он смерть от коня своего!
Молодец. Тоже только один куплет, наверное, из песни вспомнил. Ладно. С него хватит.
А потом – Наташа. Тут не совсем она – как ночь. Как ночь, но не совсем чёрная, а месяцем олунённая. Поёт арию Магдалины из оперы Jesus Christ Superstar, сама себе подыгрывая на гитаре. Красиво поёт, ладно подыгрывает:
I don’t know, how to love him,
What to do, how to move him,
I’ve been changed,
Yes, really changed.
In these past few days,
When l’ve seen myself,
I seem, like someone else.
«Вещий Олег. При чём тут Магдалина, – думаю, – и заграничный современный мюзикл или рок-опера?» В мыслях мелькнуло у меня, но тут же вытеснилось острым осознанием опасности.
Чувствую, что голову теряю, всю целиком, не только память. Это же – как удар. Вот вроде не было – и получай. Как вспышка молнии – бац! – и сразило. Надо мне что-то срочно предпринять, чтобы её, головы, не лишиться. Без головы мне будет трудно. Ещё диплом не дописал. Хоть во хмелю, но это понимаю. Инстинкт сработал. И сам себя предупредил: «Наташа – гурия! Запомни!»
Наташа – гурия. Я помню. Связать с ней жизнь – значит пропасть!
Херкус опять, вижу, появился. Торчит, как древко без сучьев и веток, возвышается над всеми. Как флагшток. Флаг на него только поднять. Тем, кто по Волхову плывёт, сигналить будет. Нет уж. Знаем, кому он знак подаст. Отыскал его, Херкуса, кто-то, Серёга или Вася, привёл к нам, на маковку сопки. И всё равно мы ему, было утерянному, рады несказанно.
«О! – говорим. – Херкус!»
Он – руку вскинул вверх, от сердца оторвав: узнал нас вроде. Так поприветствовал, как будто с кем-то спутал. Что-то сказать хотел, продекламировать, но покачнулся, чуть не упал и чуть опять назад не укатился. Серёга с Васей задержали. Усадили Херкуса на землю. Вася молчком, Серёга:
«Как там тебя?.. Сиди, не ерепенься».
Затих Херкус, склонил голову с «эсэсовской» чёлкой себе на колени.
Месяц всё выше и выше поднимается. Бежит по Волхову дорожка лунная – влечёт. Куда же может заманить она? Да только в омут. Будем осторожны.
Ещё и гурия тут… не забыл.
Херкус, голову с колен подняв, запел вдруг арию Иуды из той же, выше упомянутой, оперы.
«По-английски? – спрашивает меня Серёга. – Я, – говорит, – учил немецкий».
«По-английски», – говорю.
«Значит, он не эсэсовец – союзник».
«Да, – говорю. – Ещё нашего вина отведает, “Ой, мороз-мороз” споёт или “Катюшу” и другом закадычным станет. Во всяком случае – до завтра, пока кукарекать пора не настанет».
И говорю:
«Раньше, ещё в пушкинское время, раскопал частично эту сопку некий Зориан Доленга Ходаковский…»
«Ох уж и имя», – говорит Херкус, арию прервав на середине.
«Твоего не хуже», – говорит ему Серёга.
Херкуса уязвило это – замолчал.
Я продолжаю:
«…Но нашёл лишь этот самый Доленга золу, угольки да гигантский двушипный дротик. Или и до него кто побывал, “пограбил”…»
Рассказал я, почувствовал себя многознающим Конунгом. И запел:
Я потомок хана Мамая,
Подо мною гарцует конь.
Сколько душ загубил, не знаю,
В азиатской груди огонь!
Кровь прольёт заря на востоке,
Как один, всколыхнётся рать,
Много стран, я не знаю сколько,
Нам придётся ещё покорять!..
Чудо. Невероятно. Дивлюсь сам на себя. Все куплеты пропелись будто не мной – магнитофоном. Завтра и половины вспомнить не смогу. Нельзя её, память, вечно ругать, иногда и похвалить следует.
Слова Серёга попросил переписать – ему как будущему археологу. Что оставалось мне – пообещал.
Опять я в трапезной. Ну что такое?
Разговор ведётся, слышу, о Высоцком. Как проходили похороны. Как вела себя милиция. О смерти барда, о которой мы тут, в Ладоге, узнали рано утром двадцать шестого июля. Надежда Викторовна чуть ли не всю ночь слушала радиоприёмник, уже за завтраком сказала нам об этом. Ошеломило нас известие. Переживали после долго.
Кто-то, явно из гостей московских (в самом углу сидит, лица не различу, свечка его не освещает):
«Зубоскал. Другое дело – Галич. И тот же Визбор».
Ну, думаю, я так не думаю, так не считаю. А «Кони привередливые»? А «Райские яблоки»? – будто себе в пример их привожу.
Я когда-то умру – мы когда-то всегда умираем, –
Как бы так угадать, чтоб не сам – чтобы в спину ножом:
Убиенных щадят, отпевают и балуют раем, –
Не скажу про живых, а покойников мы бережём…
Сгину я, меня пушинкой ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту…
А в школе слушали про Тау Кета. Тогда нам было не наслушаться, не насмеяться. Крутили и крутили, пока магнитную ленту можно ещё было как-то склеивать с помощью ацетона или уксуса, пока вся лента не оказывалась в склейках. Про «баньку» слушали и пели. И про «польский город Будапешт»…
Как резало тогда не нейлоновые сердца наши: «Если друг оказался вдруг…»
А военный цикл. Мороз по коже.
На братских могилах не ставят крестов…
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Всё теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя…
И это:
Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,
Значит, нужные книги ты в детстве читал…
Читали нужные мы в детстве книги. Смотрели нужное кино. Мы создали свой, правильный, кодекс чести.
Улица в деревне, двор в городе – вот наша школа жизни, наши университеты. Мы не терпим предательства, презираем трусов и не приемлем фальши. Ещё наши старшие братья и сёстры учили наизусть «книжки пионера». Мы отказались. Потому что написанное в них не соответствует жизни. Мы с первого взгляда определяем своих и чужих. Мы поступаем так, как вычитали из нужных книжек и увидели в нужных фильмах. В наших, не нейлоновых, сердцах возник конфликт с моралью системы, мы перестали её принимать. Но мы не перестали любить Родину.
И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный клич принимавшие вой,
Тайну слова «приказ», назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц…
Измождённые матери; работающие за «палочки» с раннего утра до позднего вечера, а то и сутками отцы. Прошедшие тюремными коридорами старшие братья и дядьки, жестокий футбол, когда нельзя струсить и убояться сломанной руки или ноги, крови из носа. Нельзя заплакать от ссадины и увильнуть от неизбежной драки, в которой побеждает тот, кто бьёт первым, а бить лежачего считается позором. И самое-самое страшное, что можно представить, это – доносительство, стукачество, ябедничество. Такое не прощается. Ни при каких обстоятельствах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?