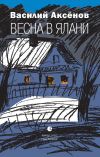Текст книги "Флегонт, Февруса и другие"

Автор книги: Василий Аксенов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
6
Разбудил меня петух.
Горластый. Чтобы такого слышал где-то и когда-то, сколько живу, и не припомню. Перепонки чуть не лопнули. Кричал в ограде, под окном, а будто рядом, прямо в ухо.
Всё у них не так, думаю. И думаю ли? Эхом чужим откуда-то доносится и в голове моей, как в полой бочке, отзывается. Если не так, то очень уж похоже.
Всё у них не так, как у нас, думаю. Не параллельно даже – поперёк. У староверов. Вот и петух.
Не петух – труба иерихонская.
В лицо его пока не видел, а догадаться не могу, хоть и пытаюсь, какой он, белый, чёрный или разноцветный. Выплывает медленно в воображении – под влиянием не выветрившихся окончательно паров вчера употреблённой настоясчей, не иначе – даже ощипанный; но не в горшке, будто стоит в ограде, оголённый.
По крику – грозный.
И никто иной, а он, неистовый, шумел при этом крыльями. Не сомневаюсь.
Пусть только подлетать умеют иногда невысоко и неуклюже, а не летают над деревней, как вороны, и не парят над ней, как коршуны, но вот махать и беспокоить воздух крыльями они большие мастера.
Да наскочить сзади на тебя, запрыгнуть на голову, оцарапав спину, и тюкнуть в темя – горазды тоже. Чуть зазевайся.
В детстве мне постоянно приходилось сталкиваться с ними, чаще всего в своей ограде. Но со мной у них, у петухов, подобная атака никогда успехом не заканчивалась – был я бдительный и вёрткий. Как стрекоза. И бегал быстро. Как кулик.
От гусака удрать сложнее. А зачастую невозможно. Опыт. Вся моя задница была в отметинах – щипались больно. Кто в детстве пас гусей, поймёт.
За мной, как за младшим в семье, заскрёбышем, была закреплена эта нелёгкая обязанность. И не отвертишься – так строго. Не брат, не мама, не сестра меня заставили, их и ослушаться бы мог, – отец, попробуй не исполнить. Лето любил, но из-за этой тяжкой и опасной службы ждал с нетерпением зимы. Зимой гусей пасти не надо было: её пернатые переживали у кого-то прямо в доме, в курятнике, отдельно от куриц, у нас – в тёплой стайке, отдельно от телят. Кормили, помню, их овсом, пшеницей, сеном, листья капустные, как кроликам, бросали им, картошку отварную. Это уж не моя была забота, к счастью. Старших. Я заходил к ним в стайку, чтобы только подразнить, мстя им за летние обиды. Тогда, когда меня никто не видел, то от отца бы получил. Прутом грозил – не очень-то боялись. Из безопасного, конечно, места: перегородка там была из досок – из-за неё. Признаюсь честно, откровенно: этим же прутом, безрезультатно погрозив им, я стукал и по спинам водоплавающим. Звук раздавался необычный – как по резиновому надувному чучелу, приманке: бум, бум. Добавлю снова честно и специально для экологов и пацифистов: не сильно стукал, не стегал. И всё равно гуси воинственно вытягивали шеи в мою сторону, но без ущерба для меня – мне это радость доставляло. Такая получалась сатисфакция.
А вот Пётр Николаевич, тогда ещё мальчишка Петька, бесстрашно входя к нам в ограду, ловко – хоть он и в детстве был, как и теперь, нерасторопным – хватал двумя руками нападающего на него и грозно шипящего гусака за вытянутую шею, раскручивался с ним вокруг своей оси, как олимпиец со спортивным молотом, и забрасывал воинственную птицу за забор или ворота, ближе к чему совершалось нападение, ему и силы доставало.
Я вот, несмотря на то что был, как белка, шустрым, так не мог. Как-то попробовал – в лоб клювом получил, что даже искры прыснули снопом из глаз, и больше не пытался.
Петьке ничуть я не завидовал. Напротив, в эти мгновения я искренне им восторгался.
Оговорюсь на всякий случай: в итоге этих не единожды происходивших действий ни одна птица не пострадала. Я свидетель.
Медленно прихожу в себя. Как после общего наркоза. Не как, а так оно и есть. Пришёл в себя: моё сознание – будто внутри дивана ночевало, под ним ли, прямо на полу, и постепенно в голову вскарабкалось.
Веки не разомкнуть. Лежу.
И думаю. И уже так: будто не я думаю, а другой кто-то. Думает за меня этот другой кто-то и мне думы эти пересказывает – мне только слушать.
Ну а петух…
И что вдруг раскричался?
Расхайлакался, сказал бы Артемон Карпович. Так же сказала б и Улита Савватеевна. И все, пожалуй, жители Колдуньи. Хайлать – по-местному – кричать без повода и бестолково.
Кто-то опять мне будто пересказывает.
Хайло. У русской печки и у человека, как у русского, так и нерусского.
Лукавые да простофили, из коих первые хайло разевают, а вторые в разинутое хайло сами лезут…
Русское вроде слово, не татарское и не немецкое. Хотя в Сибири-то… Особенно у староверов. Пока, сорвавшись с родных мест и убегая от нас, отступивших от веры истинная, как от прокажённых, и от отступнической, ненавистной им власти, добирались они своим ходом – сначала до Урала, а после и до этой вот, когда-то Натцко-Пумпокольской волости, и не один же год потратили на это, – чего только на свой язык, как подмаренник на штаны, не нацепляли, обогатили свою речь.
Или принизили.
И мы не лучше. И не хуже. Мы раньше их, но тот же путь проделали, ни от кого при этом не скрываясь, а зачастую лезли на рожон, и в результате: Дальний Восток, Байкал, Камчатка и Чукотка – землица чья? Российская. Такой прибыток. Они нам в этом не были тогда помощниками. И там особенно – в далёком зарубежье. В Канаде, Турции и в прочих заграницах, куда сбежали.
Я не сужу, пытаюсь рассуждать. А тут уж так – как получается.
Сие да будет сказано не в суд и не во соуждение, однако ж nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.
Вот наше слово «чуручок» – оно откуда? Есть это слово и у них, но и его они переиначили: наш чуручок у них стал тюручком. Катушка ниток. Подобных слов у нас немало. Ну и достаточно у них. Дичь вот у нас, к примеру, обрабатывают, а у них – чередят. У нас – полка для посуды, у них – заблюдник. У нас…
Всё тут в пример не приведёшь, не хватит времени и места.
Глаза открыл, смотрю в потолок. Плахи потолка, отмечаю, как и во всём доме, струганые, но не белёные. Не белёные и стены. Пазы между круглых снаружи и ровно и гладко стёсанных изнутри брёвен – иголку не просунешь. И холод не проникнет, и тепло не выйдет, клоп не протиснется. Крепость.
Лиственницы в окрестностях мало. Какая и была поблизости когда-то, вырубили. В советское и досоветское ещё время. Да и добираться до неё, где она есть, далеко, и вывезти её непросто до деревни, разве что сплавом. Не как у нас. Кругом сосновые бора. С еловыми и пихтовыми языками-клиньями. И дома в основном из соснового леса. Стоят вот, не падают. В Ялани больше лиственничные, как говорят у нас – листвяжные. Век отстоит такой и только разохотится. Следи за кровлей – чтоб не протекала, и он два века простоит, а то и дольше.
Кстати, и полы́ они не красят. Водой облил, песку на пол насыпал, ногу босую, чтобы держалась, не соскальзывала, поставил на кусок корявой берестины и давай туда-сюда скоблить-елозить. Серый был пол, а после зажелтеет.
И у нас так раньше было. Сестра моя, помню, скоблила. Теперь все красят. Обленились. Крашеный – мокрой тряпкой обмахнул – готово дело.
Рассвет, судя по залитой солнцем спальне, давно канул в прошлое. Значит, нашлась кричать ему какая-то причина. Не с дуру же. Хотя и станет с петуха, умом не блещет – не гусак. Может, и без причины. Может, причина и была: жучка́ какого разглядел в мураве, червячка, букашку ли диковинную увидал, россыпь зёрнышек ли обнаружил – и поспешил курицам своим, а заодно и всему миру объявить об этом. Объявил. Кукарекал, кукарекал, ещё и крыльями себе аккомпанируя, сорвал голос и умолк. Не знаю, крылья отвалились, нет ли. Пусть бы. Хоть и плохого он мне ничего пока не сделал, разве что оглушил. А разбудил – так это кстати.
Он, петух, наверное, и о рассвете в своё время возвестил, сделать это был обязан по своей природе, но я не слышал – словно чурбан осиновый, так дрыхнул.
Обломов вспомнился, его Захар.
Петра Николаевича нет. Постель его образцово-показательно заправлена. По всем негласным правилам.
Всё Пётр Николаевич – разве что рюмку водки махом опрокидывает, как и стакан, – делает медленно, не торопясь. Копуша. Так его и называли в детском садике. Все уже проснулись после тихого часа, оделись и готовы идти на прогулку, а наш Петя-копуша только ещё одну штанину натянул, сидит на стульчике, зевает.
Наблюдать за ним порой бывает муторно. Смотришь иной раз, как он, впустую тратя бесценное время рыбалки (мне его ждать приходится, а не плыть вместе с ним к новому, не обрыбаченному ещё, сулящему диковинные трофеи месту), распутывает, навесив очки на кончик носа, забородившуюся или заузлившуюся леску, вместо того чтобы, решив вопрос категорично, работать вёслами или кидать блесну, и чувствуешь, как нетерпение в тебе вскипает. Если не в лодке я, то ухожу подальше от греха, чтобы с мучением не видеть, нервы зря не трепать и, как сказал бы Артемон Карпович, не я́роститься. Прошу ли высадить меня на берег.
Я же на это дело скор: когда запутается вдруг, распутываю леску, будто путний, минуту, две ли, три минуты в лучшем случае, а потом сознание моё вдруг затуманивается, меркнет белый свет перед глазами, вырываю нож из ножен резко, ать – и готово. Ни узлов, ни целой лески. Уже спокойный, как сытый и отдыхающий в грязной жиже бегемот, при абсолютном самообладании новую наматываю на катушку. Когда, конечно, она, леска, есть. А когда нет, всё же прошу благоразумно и подобострастно Петра Николаевича о помощи. Всегда соглашается, надо отдать ему должное, не отказывает. Я в это время, пока он кропотливо и кротко справляется с узлами на моей леске, издали и искоса поглядывая на товарища, готовлю чай. Рыбачу с берега ли. А то и рыбу потрошу. Чем-то заняться надо непременно – чтоб не взорваться. Вулкан – тот терпит, терпит и…
И вспомнилось:
В смиренномудром никогда не бывает поспешности, торопливости…
Можно ли это к другу отнести, не знаю. Да и ко мне. Смиренномудрые из нас… не в ризе Божией.
Но не об этом.
Покрывало лежит ровно, без бугорка малейшего и без морщинки малой, подушка взбита, пухлая, возглавляет постель треуголкой, ещё скатёркой тюлевой накрыта.
Куклу приставил бы ещё к подушке.
Не знал бы я с детских лет Петра Николаевича, решил бы, что постель его, пока я спал, заправляла горничная или Улита Савватеевна.
Видел бы кто, как он, Пётр Николаевич, с полиэтиленовым пакетом, завязанным на тугой узел, разбирается, чтобы достать заварку, например, или крупу. Прям как Никита Михалков. Или как спальник собирает он на берегу после ночёвки. За это время…
Об этом, может, в другой раз.
Одно скажу:
я и с пакетом вопрос разрешаю ножом или, что ближе окажется, ножницами: ать – и готово. Если не крепкий он, то и руками в клочья разорву. Как тузик грелку. И тут горюю, а не хвастаюсь. Хочется – как Никита Михалков. Вот не дано. Хоть расшибись. Настраиваюсь, настраиваюсь, думаю о Никите Сергеевиче, как образце, но всё равно заканчиваю так: раз – и… пакет после этого только сжечь или выбросить. А мог ещё и послужить бы. Спички в нём спрятать от дождя, к примеру, права водительские, телефон ли.
И что за характер? Натура ли. Никак не исправить, не улучшить. Но совершенствоваться есть куда. Бог бы мне в помощь.
У меня так красиво заправить постель не получится. При всём старании. Хоть и три года шконку заправлял. В тесном отсеке. Перед вахтой. Тридцать шесть месяцев. Чуть даже больше. И получалось. Разучился. То ли археологические разведки и экспедиции меня испортили, в палатке-то, то ли жена меня избаловала. Вот и виновную нашёл. Жена, конечно!
И уже сам я думаю, не кто-то за меня:
голова и не болит вроде, не кружится и не раскалывается, но порядку в ней никакого. Будто царь её покинул, а мозг, оставшись без правителя, всеми своими многомиллиардными нейронами-клетками во все стороны разбрёлся по-сиротски: ни о чём толком не поразмышляешь. Мысль – будто рубит кто её на входе, не развернуть и не собрать в едино. Факты лишь вяло отмечать: петух кричал, подушка взбита и потолок… и староверы…
Дошло до слуха:
дверь с улицы, вернее, из сеней хлопнула – вошёл в дом кто-то. И не один – двое. За стол сели. Разговор завели. Или продолжили.
– Этого хватит нам… пока?
– Пожалуй, хватит.
– Пятилитровый.
– Ну, нормально.
– Ночью собаки лаяли, не слышали? – говорит Артемон Карпович. Узнаю его по голосу. – В третьем часу, наверное, не пожже. По всей деревне от конца до края… Ну, чё, давай. Чтобы не выдохлась. Так говорится?
– Так.
И этот звук я моментально узнаю: кружки глиняные стукнулись глухо одна об другую – ни с чем не спутать.
Ага, думаю.
И через паузу недолгую:
– Нет, – голос Петра Николаевича, – не слышали. По крайней мере, я не слышал. Спал как убитый.
Подумал я: и я не слышал.
– Дак после бани-то – канешна…
– И медовухи выпили – снотворное.
– Ну, это да, способствует и медоуха, оно такое… Медведь расквелил их, к деревне близко подошёл.
– Расквелил – как?.. Расквелил – разорвал?
И Пётр Николаевич не всё, оказывается, знает и понимает, не весь лексикон родственников ещё освоил. Ну, впитает, наверстает. Ребёнок – с молоком матери, как говорится, а Пётр Николаевич – с медовухой.
– А разорвал-то как, коль отогнали-то, подумай! Городишь чё-то… А, и забыл. Вы же не русские и русских слов не понимаете. Французы. Англичане. Басурмане. Ну, растревожил, ваши скажут.
– А растревожил что, не русское? Тревога…
– Русское, русское. Поди что русское. Тревога. Не латынянское и не немецкое. Не стану спорить. У тех дер фатер унд ди мутер. Тут до войны работал фердшал – тот так картавил. Немец. Абрам Акивыч. Ссыльный. Кляйн. Вот, паря, мастер. Специали-и-ист, на удивленне. И человека мог поставить на ноги больного, и скотину посмотреть. Принять телёнка, жеребёнка. На все руки. У Сулиана, брата моего двоюродного, царство небесное, собака костью глухариной подавилась – спас. Расквелил – правильнее и русее.
– Может, какой-то человек? – голос Петра Николаевича.
– Зверь. Зверь. Без всякого гадання, чё тут, – голос Артемона Карповича. – Зверь. И не сохатый, а медведь. Собак, паря, не омманешь. Чуют. На запах и нутром. От страху-то, от нелюбви извечной… как появились – те и этот, – всё и враждуют.
– Ну, это да.
– Ну, это да… И кто ночью, скажи-ка мне на милость, в потёмках-то таких, хошь и поблизости с деревней, на виду, станет бродить, шарахаться по лесу? Никто. Найди такого полудурка. Глаза оставить на суку… На человека лают по-другому. Хошь и похоже.
– Это я знаю.
– А знашь, дак спрашивашь пошто?
– Да я не спрашиваю. Так, предположил.
– Предположил он… Похоже вроде, но не так. Похожи рожи, как по притче-то, похожи-то похожи, да разные – одна Матрёны, а другая грязная… Взяли здесь, погнали в позаречьи. Точно докуль, и не скажу. Лай-то после откуль доносился – оттуль, где ближе к нам, из позаречья, – говорит Артемон Карпович. И говорит: – Лонись, так же вот, однако, в августе, об эту пору, с сеном уже отставились, такое тут у нас доспелось: медведица с двумя пестунами средь бела дня в деревню заявилась и прямиком на детскую плосчадку. Дож шибкий лил, как из ведёрка, – детей-то, слава богу, не было на улице, сидели в избах, по домам. Качу́ля там – пестун на ней качался. Как ребятёнок. Едва их вытурили – криком-стуком, пугали всяко, а стрелять не стали. Ну и ничё себе, пообнаглели, людей уже ни в чё не ставят. К себе домой будто идут. Раньше такого не водилось. До снегу где-то тут шаталась. Убил, нет, её кто после, не слышал. Убил, поди, раз больше-то не приходила.
– Залегла, может? – предполагает Пётр Николаевич.
– Может, и залегла, – говорит Артемон Карпович. – Нас не спрашивала. Сама себе хозяйка. Дак в сентябре есчё, до снегу, как ей залечь-то, не показывалась. Завалил кто-то, значит. И никого не оповестил, что завалил. Ободрал, разделал, тайком мясо вынес, в ямке спрятал. Оповестишь, беды потом не оберёшься – накажут, мало не покажется. Известно. А донести кому, найдётся. Медведь человека загубит, с медведя спросу никакого, человек убьёт медведя – штраф яму няимоверный. Это чё, паря, справедливо? Медведь дороже человека. Куда годится… Законы ваши, все оне такие. И не законы – произвол. А чё, не так? Да так, канешна. Давно испытано, не тока нами.
Пока вставал, скрипя диваном, и одевался, не разобрал я, о чём дальше говорили Пётр Николаевич и Артемон Карпович.
После, постель, стараясь, прибираю, слышу:
– Лето было годявое, а вот сенцо поставили с трудом. Да и не полностью. Случатса. Год году рознь. До весны-то, может, и дотянем. Давать надо будет економно, навильниками шибко не раскидываться, по половине. Веников берёзовых и крапивных навяжем. С голоду не сдохнут. Снег сойдёт, на проталины выгонять станем – прокормятся. Нонче травёнка-то не угодилась, нигде путёвой не было, ни на полянах, ни в колка́х, ни на поли́нах, всё стрень-брень, а то и вовсе голо на покосе, выжгло, где не в тени, а на открытом. Да одне дудки. Дягиль, пучка. Июнь-то был – такое пекло…
– Да и июль…
– Июль не лутше. На сонце хошь блины пеки…
Вышел я к трапезничающим. Сидят они на тех же местах, где вчера сидели. Моё свободно.
Глазами вскинулись ко мне.
– Ого! Явленне-то како! Взошёл на небо месяц ясный, – поприветствовал меня радостно Артемон Карпович. – Вот это соня дак засоня. Так и заспаться, паря, можно. Солнце на подступах уж к полдню. Скоро уж па́ужин. Шучу… Долго валяетесь на мягком, а потому так и живёте.
– Как? – спрашиваю.
– Как. Да как попало, – отвечает.
– Всё же?
– Всё же! Да без порядку и живёте, – говорит Артемон Карпович. И говорит: – Ступай помойся – и к столу. А то вдвоём мы тут – друг другу опостылели… ну, это так я, несурьёзно. Умный-то еслив, не обидится. И ты поймёшь, коль не дурак.
Пётр Николаевич, улыбаясь, отсалютовал мне, как римлянин:
– Аве, – и руку левую в приветствии поднял. Правой – за дужку кружку держит.
На автопилоте, смотрю, бывший лётчик – как трезвый. Но глаза-то выдают – добрые-добрые. Как у капибары. Или как у Дукалиса, актёра. И улыбочка такая же, как у того. Но внешне он, Пётр Николаевич, не похож на капибару, не похож и на Дукалиса, похож он на другого актёра, на Вячеслава Тихонова. Только с хохляцкими, висячими усами. Тот не носил таких усов. Отец – казак кубанский у него, военнопленный. Мать – сибирячка коренная. Когда тётя Маша, мама Петра Николаевича, отказывала Николаю Петровичу, отцу Петра Николаевича, выдать ему нямедленно три рубля на бутылочку, он, Николай Петрович, называл её не Маней, как обычно, а проклятущей сибирячкой. Внешне при этом был спокойный. Тётя Маша была менее спокойна в таких случаях, так как знала, что у него, у Николая Петровича, заначка обязательно имеется, а потому он и не настаивает, не пристаёт как банный лист. Где скрывает он свою заначку, неизвестно. В тайничке каком-то. Ну а жили они, вся многочисленная семья Головачей, в любви и согласии. Свидетельствую.
Ну, думаю, глядя на чрезмерно подобревшего Петра Николаевича, порыбачили.
Умылся, освежился я водой холодной, висящим возле рукомойника полотенцем, выделенным каждому, мне и Петру Николаевичу по отдельному, вытерся.
Иду к столу. Занимаю своё место.
– Будешь? – спрашивает Артемон Карпович, указывая на кувшин объёмистый бровями. – Будешь не будешь, паря, следует. Надо поправиться, а то… не шутят с этим. Мало ли. Тут помосчь скорую не вызовешь. Удар-то хватит.
«У?» – тоже бровями спрашивает Пётр Николаевич.
– Только одну – поправить голову.
– Одну! Хошь десять. Еслив сдюжишь, – говорит Артемон Карпович. – Оно не жалко. А для чяво ж она варилась – не корову ж ей поить. И не ямана. Тот, угости его, и выпил бы – дурной-то. Потом яво тока стрелять. А так не свяжешь. Всех забодат, всех укокошит.
– Ну и не нас поить, никониан, – говорю я. – Помню.
– Помню… Ну, вы ж идь гости дорогие, – говорит Артемон Карпович. И говорит: – Чё сам пью, то и вам предлагаю. Как по-другому? Тут никак. Я не бесчинник, не жадюга.
– Ясен пень, – говорит Пётр Николаевич.
– Верю, – говорю я.
Выпили. Я первую. По какой зять с тестем – не скажу, не проследил. Что не по первой, ясен пень, и мне понятно.
– А может, ну её, рыбалку, – говорит Артемон Карпович. – Медоухи исчё много… Да и три причины проти.
– Какие? – враз спрашиваем – я и Пётр Николаевич.
– Сулой – одна. Луна не в той статье, не на иманье – два. И три: жаравь в урёмисче кричал всё утро, – говорит Артемон Карпович, выставив ладонь и зажимая по очереди толстые и короткие пальцы со свиловатыми ногтями.
– Жаравь – журавль? – спрашиваю. – Правильно?
– Правильно, правильно, – отвечает Артемон Карпович. – По-вашему – журавель.
– А – сулой? – спрашиваю.
– Сулой… А ветер. Встречный. Всё вам и надо разъяснять, нерусским, – отвечает Артемон Карпович. – Как раз тут, от песка, где лодки чалят… Петлю-то делает река – туда плыви, сюда сплавляйся – ветер всё в морду. Рыба не любит такой ветер – на дно ложится, прячется, не ходит. И ни на удочку, ни в сетку. В корчажку разве, да и то…
– Ей, что ли, в морду? – спрашивает Пётр Николаевич.
– Рыбе-то?.. И ей. Ну вот не любит рыба, хошь ты тресни, и не любит такой ветер. А вот пошто, спроси ты у яё! – говорит Артемон Карпович, как будто сердится при этом. – Сто раз проверено… Вы – огурцом вон, свежие – имя хошь закусите. Это не магазинные, свои. На песке и на гамне коровьем чистом выросли, поспели. А то сидите… как в гостях, – сверкнул глазами, засмеялся.
Ну а иманье – ловля, и не спрашиваю, можно догадаться.
Окно распахнуто. Настежь. Занавески раздвинуты.
В ограде люди. Разговор.
Мужчина:
– Вышел из избы, тётка Улита. Дó свету ишшо. По малой. Вызвездило. Смотрю: знаменне в небе всполыхнуло…
Голос Улиты Савватеевны:
– Ага. Како ишшо знаменне? Ты чё туру́сишь?
– Тётка Улита, кружечку налей. То эндофрины вымыло, поистошшился. Башка – как бубен. А уж во рту – в ём будто кто-то ночевал, вонючий шибко. Вдыхаю сам – и чуть не падаю.
– Сразу бы так и говорил. А то како-то там ишшо знаменне. Больше ничё не видел в небе?.. Болони над тобой, чудной ты, надорвёшь.
Через какое-то время.
– Ну, спаси бог тебя, тётка Улита. Ублажила.
– Быстро. Всё уже выдулил, ли чё ли?.. Ты Бога всуе-то не поминай… Вижу, что голова твоя как бубен, глаза вон лезут в разны стороны… Чё-то уже до этого, гляжу, отведал? Утро, уже и подтурахом.
– Вчерась. Не сёдни. Было бы чё, и сёдни выпил бы, опохмелился.
– Вчерась бы тока – протрезветь уже успел бы. Стоишь – качат вон, как траву. И не дыши ты на меня, то угорю и завалюсь тут… еслив уж сам-то чуть не падашь.
– Ещё одну, тётка Улита… Пришёл бы в норму.
– О, нет, нет, нет. Достаточно. Неча тебе, ендовочнику, потакать. То наповадишься. Не напасёшься. Совсем запился уж и обносился – в ремуге ходишь, бич и бич… Пришёл бы в норму. Нос сизый – норма для тебя. Вот-вот отвалится, поспет, как мудушка…
– С пяти утра на улице, прохладно было, дак и сизый… Нет, не отвалится. Сидит вон крепко, как прибитый.
– Не дерьгай шибко-то, а то на самом деле… Следи, то так и потеряшь, безносым станешь, как налим… Мне, паря, некогда стоять с тобой, пойду-ка.
Смотрим в окно.
Улита Савватеевна с расшитым петухами полотенцем на плече, цинковым подойником в руке и в красной, поверх двух тонких платков, мотоциклетной каске.
– Улита Савватеевна куда-то собралась? – спрашиваю.
– Это пошто? Да ей куда?.. Корову вычиликать собралась, – говорит Артемон Карпович, как будто испугавшись. – Рано пошла, та не далась. Вымя припухло чё-то, воспалилось. Солидолом дойки ей намазала, дак и ждала, пока отмякнут. Где-то ушиблась им, наверно, выменем-то. Мало ли. Перелезала через чё, и зацепилась. Их жа идь где тока не носит. Рога вперёд – и без оглядки. Такие твари. Хошь и Божие. Не то сказал? Да то, канешна… И сама, скотина, мучится таперича, и хозяйку свою мучит. Переживат жа, как иначе, жалет кормилицу. Дак это…
– А в каске-то? – недоумеваю.
– А-а, в этой-то, на голове… От петуха, – объясняет Артемон Карпович. – Тот Асмодей. Куриц топчет пока, дёржим. А так давно б в печи томился… Тока сядет под корову на скамеечку, а он ей на спину и ну долбить её в макушку… будто отбойный молоток. Кто надоумил, подсказал, или сама уж сдогадалась… Февруса ей и одолжила. Шлём-то яё, племянницы моёй.
– А, ну понятно.
Прокричала на улице, за воротами, какая-то женщина:
– Чтоб у тебя клопы, тараканы и черти завелись! Ведьма уже есть!
Смотрим мы на Артемона Карповича молча. Тот понял наш немой вопрос и отвечает:
– Соседка наша. Тут, наискосок. Избёнка старая, без палисадника. Наталья. С крашеными волосами. Будто не вылиняла полностью, как белка, – концы белёсые, а корни – чёрные. Приезжая. Из ваших. Мужу своему бывшему, сожителю ли, Гришке. Ушёл от няё, с новой, молодухой, снюхался, – говорит Артемон Карпович. И говорит: – И эта из ваших. То разругаются, то вместе пьют, в одном сообсчестве – и он, и старая, и новая, – тогда им ладно и вольготно. Как разругаются – война в Крыму и всё в дыму, сойдутся где, и ну собачиться. Это она яму, мимо-то шла, в окошко проорала. Сидят, наверно, за столом, возле окна-то, Гришка и новая яво. Набрал брусницу однобокую, она кого есчё, незрелая, съездил, продал простофилям, купил чяво-нибудь, дак и сидят вот, угосчаются. А ей, поди, Наталье-то, не предложили, она и в штопор… дак обидно.
– А это Флегонт, – предупреждая мой вопрос, говорит Пётр Николаевич. – Троюродный племянник Улиты Савватеевны.
– И твой, – говорю, – выходит, родственник.
– Ну, получается, – говорит Пётр Николаевич. – Далёкий.
– Куда уж дальше, – говорю.
– Но всё равно…
– Четвероюродный, а не троюродный… Флегонт, – говорит Артемон Карпович. – Флегонт Маркелович по-путнему-то. Этот из наших. Непутёвый. Я уж и епитимью на яво накладывал, да и не раз, а толку… Горбатого, как говорят, могила исправит. Флегонта и могила не исправит – во всём он поперешный, как пила. Ты яму так, а он вот эдак.
Как-то рассказывал мне о Флегонте Пётр Николаевич. Что я запомнил, повторю.
Из кержаков, старообрядцев. Про себя говорит: «Я – агностик». Вычитал где-то, не иначе. Раньше книги и журналы разные – «Техника молодёжи», «Знание – сила», «Вопросы истории естествознания и техники», «Вопросы истории КПСС» и другие – доставляли ему, по его запросу, вертолётчики. Читает. Когда не пьёт. Прочитал – вернул. Другие заказал. Книг и журналов новых теперь нет. Вертолёты залетают в Колдунью редко, и в основном пожарные. А тем, пожарным, не до книг, не до журналов. Зато есть радио и телевизор запресчённый, – и когда пьёт – вполуха слушает, вполглаза смотрит. Там и источник обширных познаний Флегонта. Где же ещё – не в институте это почерпнул. Оттуда же, наверное, и эндофрины. Эндорфины, надо полагать. С пяти лет без родителей. Медведь задрал их на покосе. Сначала отца. Кинулась мать на спасение мужа с литовкой. И её задрал медведь. На глазах у пятилетнего Флегонта. Возле костра сидел в то время, запекал картошку. Его медведь не тронул. Года три не говорил. После начал. Когда собака попала в капкан, кем-то на озере неспущенным оставленный, – кто-то ондатру промышлял. В деревню прибежал, стал, удивив всех, во весь голос звать людей на помощь. Вызволили. После восьмилетки в Маковском поехал в Енисейск. В ГПТУ. На водителя. Выучился. Устроился на работу. Хлеб из пекарни развозить по магазинам. Думал до армии там проваландаться. Подрался на танцах. Ножик складной в кармане обнаружили. Хоть он его и не вытаскивал. Хлеб где нарезать, плавленый сырок. Отсидел год. За хулиганку. В армию с судимостью не призвали. Вернулся в Колдунью. Заселился в своём, родительском доме. С тех пор – как бич. Сошёлся с такой же, бичихой. Вместе квасят, жарку́ вселенной поддают, как будто в бане. Собирают грибы, ягоды, орехи – не ленятся. Так-то трудяги. Сдают набранное в Томск или в Катайгу. На это зиму и живут. Если, канешна, сразу всё не промотают. А промотают – побираются. Добросердечных людей много – умереть не дают. Рыбалкой не занимается. Перестал. Один раз, вывалившись – не на трезвую, разумеется, а подтурахом – из лодки, чуть не утоп и после этого только по берегу, как куличок, гуляет, в реку, во глыбь-то, не суётся. Худощавый. Небольшого роста. Про таких и говорят: метр с кепкой.
В хромовых офицерских сапогах не по размеру, потрёпанных, давно не чищенных и свяным жиром и кремом обувным не мазанных, с загнутыми вверх, как у восточных башмаков, носками. В застиранном, проношенном на локтях и на коленках до сита, горном штормовом костюме, «горке». В сдвинутой на затылок камуфляжной бейсболке. Волосы – как у хиппи. Только в хвостик не завязаны. Русые, прямые.
– Ну чё, давайте, – говорит Артемон Карпович.
– Давайте, – говорит Пётр Николаевич.
– Мне пока хватит, – говорю.
– А точно хватит?
– Хватит, хватит.
– Чё-то ты, паря, удивляшь! Не заболел ли?
– Нет. Как бык… После, за ужином, добавлю.
– А за обедом?
– Ну, и за обедом.
– Мы поглядим… то чё-то это… как-то ты это… напрягашь.
– Ну, извините.
– Твоё дело.
Выпили Артемон Карпович и Пётр Николаевич, крякнули, как утки, усы от перги вытерли, отщипнув от испечённой нынешним утром Улитой Савватеевной ковриги оржаной, кусочком хлеба закусили.
– Чё, прокатилась? – спрашивает Артемон Карпович у зятя.
Зять отвечает:
– Прокатилась.
– Ну, перерывчик надо сделать, отдышаться.
– Надо так надо.
Смотрю – добреет Пётр Николаевич. И ладно.
Вышли на улицу. Стоим.
Погода хорошая.
Здесь говорят: погодье. Ещё здесь говорят не выговор, не говор, а – говорьё. И заодно уж: быть подтурахом – быть навеселе, выдулить – выпить, ендовочник – любитель бражки, а ремуга – старая, драная одежда. Это что вспомнил.
Белые мелкие облака на горизонте, над самым лесом, на востоке. Плывут на север – с юга ветерок. Сулой, не знаю, не сулой ли? Не резкий, тёплый. Лицо ласкает.
Флегонта нет уже в ограде.
Улита Савватеевна в хлеву, по-нашему и по-местному – в стайке, корову чиликает – слышно: струйки звонко тычутся в подойник.
Посреди ограды стоит воинственный петух. Вытянулся – будто по команде «смирно!». Выправка – как у гусара. На нас глядит неотрывно и строго: ну, мол, и что тут скучковались, янычары?
– Я те! – говорит Артемон Карпович. – Тока мне вздумай, сразу же в горшок… Меня боится. Уважат. Больше-то никого, даже ямана. И на хребёт тому заскочет. И стоя там – закукарекат. Яман рогами лишь мотат… никак не скинет.
– Какой рыжий, – говорю. – Огненный.
– Жарко́й, – говорит Артемон Карпович.
Открываются ворота. Входит в ограду мальчишка. Видели мы его вчера, как только прибыли, с велосипедом.
Перешагнул лишь подворотню и кричит:
– Дедушка Артамон! А дедушка!
– С цапи сорвался? Чё тебе?
– А у тебя завёртка есть?!
– Чё так орёшь? – говорит дедушка. – Глухих тут нет.
– Завёртка есть? – подступая к нам и уже тише повторяет мальчишка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?