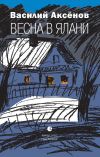Текст книги "Флегонт, Февруса и другие"

Автор книги: Василий Аксенов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
И медовуха не мешат, тока подначиват.
– И Верхоянск.
– И Благовещенск.
На этом остановились – достаточно, решили.
Вороны потянулись на ночёвку. В сосновый лес. Не как в Ялани – в густой ельник. Где-то поодиночке, где-то стаей. Молча. Надсадили глотки за день, наорались. Силы наберут, свет чуть забрезжит, и по новой заскандалят. Ничего не боятся. Никого не стесняются. Без родителей будто выросли, будто никто их не воспитывал.
По всей Колдунье дизельки, споря с кузнечиками, застрекотали. Фонари возле домов зажглись – подступы к воротам освещают, чтобы гость какой, вдруг кто заявится, не тыкался вслепую.
Говорю, оглядывая небосклон:
– Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна.
Справа – запад тёмно-красный,
Слева – бледная луна.
– С неба звёздочка упала на прямую линию. Меня милый переводит на свою фамилию, – говорит, но не поёт Пётр Николаевич. – Это – Полярная.
– А где Ялань? – спрашиваю. – Если точнее. Где примерно, представляю.
– Там, почти что под Полярной, правее малость, – говорит Пётр Николаевич, указывая в сторону темнеющего на фоне неба скворечника. – Ниже, конечно, – говорит. И говорит: – Они Медведицу Большую называют созвездием Лося или Сохатого.
Кольнуло сердце тонко-тонко: Ялань там, отчий дом.
Глянул на друга. Смотрит тот на Полярную звезду, едва ли ниже. Но и ему, наверное, кольнуло сердце. Потому что и сам он, Пётр Николаевич, не деревянный, и сердце его не нейлоновое.
– Лося, Сохатого? Впервые слышу. Всё у них не так, как у нас, – говорю. – Поперёк.
– Не всё, но многое, – говорит Пётр Николаевич. – Несколько веков врозь жили. Не мы от них, а они от нас прятались. Вот и напрятались. Были родными, а теперь…
– Тебе ж они и до сих пор родные.
– Да уж кого… Ну, только Шура.
– А тесть и тёща?
– Эти тоже…
– А остальные?
– Ну не все же… Теперь не прячутся… Если и не троюродные, то двоюродные… А как? Где теперь спрячешься?.. Ну, может, кто-то где-нибудь и затерялся… Агафью Лыкову вон разыскали, как ни скрывалась. Кержачка тоже. Какого толку, не скажу… Пойдём, – говорит Пётр Николаевич, – под рукомойником сполоснёмся, хотя бы штоком погремим.
– Зачем?! – удивляюсь. – Мы ж после бани…
Подошли к столбу, лиственничной опоре навеса, к которому прибит старинный медный рукомойник.
– Баня у них считается поганым местом. После неё необходимо помыть руки, шею и лицо, – говорит Пётр Николаевич.
– Интересно, – говорю я.
– Не то слово. Но в чужой монастырь, сам знаешь…
– Знаю, знаю… В баню ходить, чтоб опоганиться. Ну, чудеса.
– Ещё какие. Но вот живут – не хуже нашего.
– И слава богу.
– Пусть живут.
Штоком погремели.
Постояли ещё, полюбовались тихим вечером. Воздухом, настоянным на запахах прикетских низменных еланей и безбрежной прикетской тайги, подышали.
Направились в дом.
Горит в горнице лампа.
– С лёгким паром! – говорит Артемон Карпович, резко поднимаясь со скамейки. – С лёгким паром, гости дорогие.
– С лёгким паром! – говорит Улита Савватеевна.
– Ох, спасибо, – мы дуэтом. – Ну, спасибо.
Я молчу. Пётр Николаевич добавляет:
– Как будто заново родился.
– Хотел идти уж, попроведать, – говорит Артемон Карпович. – То заждались мы тут с Улитой…
– Да это он всё, Пётр Николаевич… и до утра сидел бы в бане.
– Ну, до утра – уж чё там делать?.. К утру-то выстынет – и льдом покроетесь. Чуть отдышитесь да за стол… Я ненадолго убегу, – говорит Артемон Карпович. – Дизелёк тока заведу, а то совсем стемнят, потом и шарься там на осчупь – глаза оставишь на колу.
– Ну, до утра не до утра, но с полчаса ещё попарился бы… И натопил же ты, Артемон Карпович, – говорит зять тестю.
– Не я топил, Улита Савватеевна. Я тока дров ей наколол.
– Спасибо вам, Улита Савватеевна, – говорю я.
– Не за чё, – говорит Улита Савватеевна. – Печка топила, а не я.
Сходил Артемон Карпович на улицу, завёл электрогенератор, дизелёк. В доме загорелись лампочки – на кухне, в прихожей и в горнице. Энергосберегающие. Совсем уж от мирского убежать не получается. Ну и понятно.
Улита Савватеевна, поднеся к стеклу ладонь, задула в лампе пламя. Переставила её со стола на комод. Понадобится – далеко не убирает.
Вернулся Артемон Карпович, помыл руки на кухне в закутке, за занавеской, к столу подступил. Повернулся к образам, прочитал громко, пропел будто, молитву, поклонился низко и перекрестился трижды.
Я перекрестился. Пётр Николаевич – нет. Он не привышен.
Давно уже рукой махнул на зятя Артемон Карпович: «Дак чё возьмёшь с яво, еслив бязбожник: летал по небу, Бога не встречал. Ну не чудно́ ли?.. Так яму Бог и показался бы… Чудно, канешна».
И тут сейчас в укор ни слова не сказал он. Не отвечать ему за зятя перед Богом, не гореть в геенне огненной. Сам за себя пусть, дескать, отдувается.
Оно и верно.
Посадили меня и Петра Николаевича с почётом по разные стороны стола, – чтобы локтями не толкаться нам, – друг против друга, на лавки, застеленные самоткаными дорожками.
– Дак это чё… приступим, чё ли, – говорит Артемон Карпович, устроившись во главе стола на хозяйском, с высокой резной спинкой, стуле. – За всё благодарим Господа. Устроил. За приезд, за редкое посесчение. Сподобили. А то однем-то нам тут, старикам, тоскливо. – И так вдруг: – А для началу по мочалу, – сверкнул глазами, засмеялся.
Может, из песенки какой-нибудь эти слова, не знаю. Из строевой, солдатской. Или блатной. Но в армии вроде не служил он, Артемон Карпович. Отлынил. Как после и от фронта. Блатным не был, хоть и отсидел после, как узнал я позже. Песни в солдатском строю не пел. Государство это, говорит, не наше – ну и чё ему служить, мол. Радио не слушает, телевизор не смотрит. Где-то подслушал, сам ли изобрёл.
– Из песни? – интересуюсь.
– Нет, – говорит, – для ладу.
Ну, для ладу так для ладу. А для какого, и не спрашиваю.
Налил Артемон Карпович из глиняного запотевшего кувшина в кружки медовухи. Себе – в свою, нам – в для захожих.
– Уля, а ты-то чё, не будешь, чё ли? Хошь бы отведала да оценила. Это не старая, эту дён пять назад сварил, – повернувшись в сторону жены, спрашивает Артемон Карпович, зная заранее ответ.
– Ой, что ты, нет! – словно всполошившись и отмахнувшись рукой, как от глупости или от наваждения, отвечает Улита Савватеевна. – Хмельной от глотка сразу сделаюсь, язычишко, уд негодный, развяжется, – говорит шутливо, улыбаясь, – ночь им прому́млю, прострочу, а рано утром коровёнку надо будет вычиликать. Как она меня такую встретит!.. На рогах меня из стайки вынесет. Пока протрезвею, ждать не станет, на всю вселенную базанить примется, наскрозь деревню проорёт. И завалюсь ещё под ней, вот смеху будет… Пейте уж сами. Без меня.
Знаю уже: вычиликать – это подоить, мумлить – мямлить, а базанить – кричать. Ну, точно, будто за границей мы находимся, в какой-нибудь родственной нам славяноязычной стране.
– Уговаривать не станем, – говорит Артемон Карпович. – Нам больше достанется.
Сказал, искры глазами из воздуха высек, засмеялся, зубы обнажив.
– Дак ну, давайте.
Тут уж и нам – мне и Петру Николаевичу, русским, – всё понятно, как иногда понятно кое-что из сербского или болгарского.
Чокнулись. Выпили. По полной кружке.
Варёной лосятиной, удобренной жгучей горчицей, закусили.
– Не бобёр? – спрашиваю.
– Ни в коем случае! – говорит Артемон Карпович. – Наскажешь тоже. Этот – с копытами, тот – с лапами, когтями.
– А если с лапами?
– Нельзя.
– А медвежатина?
– И медвежатину нельзя. Заказано. Отцами. Был бы с копытами, тогда бы… Медведь с копытами – смешно.
Улита Савватеевна сидит в сторонке, возле русской печи. Руки на коленях, смотрит на нас. И говорит, когда мы, выпив, замолчали:
– Надо чё будет, вы скажите. Может, запить чё, принесу.
– Спасибо, – говорю, – всего хватает.
– Есть всё, мама, – говорит Пётр Николаевич. – Стол ломится. Не беспокойтесь.
Родители у Петра Николаевича давно умерли, вот он теперь тёщу зовёт мамой и обращается к ней на «вы», ну а тестя, того только по имени и отчеству и обращается к нему на «ты». Рассказывал мне, что при первом знакомстве с тестем обратился к нему во множественном числе. Тот огляделся вокруг себя и спросил: это ты, паря, мол, кому? Пётр Николаевич ответил: вам, мол. Нас тут не много, сказал Артемон Карпович, не двое даже, я тут один. И, дескать, я не милицанер и не какой-нибудь начальник. Так что обращайся, мол, ко мне по-человечески. Ну, дескать, ладно.
В семье Петра Николаевича дети, сам Пётр Николаевич и его три брата и четыре сестры, к родителям обращались только на «вы».
Были в Ялани и ещё такие вежливые семьи. Наша невежливой была.
– Чё понадобится, скажем, – говорит Артемон Карпович. – Сиди уж, за день-то набегалась. Словно челнок – туда-сюда. Оно – хозяйство. – И говорит: – Медведь с копытами – представил. Лутше с копытами бы был, а не с когтями… пусть бы лягался, а не драл, и от копыта легче увернуться, чем от когтей-то…Ну, чё, давайте повторим…
И повторили.
– Как оно там, присловье-то, гласит: первую пить – здраву быть, вторую пить – ум веселить, утроить – ум устроить, четвертую пить – неискусну быть, пятую пить – пьяным быть, шестая – пойдёт мысль иная, седьмую пить – безумну быть, к восьмой приплести – рук не отвести, за девятую приняться – с места не подняться, десять – тут они тебя и взбесят. Господи прости, в чужую клеть пусти, пособи нагрести да и вынести… Давай по третьей, чё сидеть-то… Слабенькая исчё, – говорит Артемон Карпович, – не укрепилась. Квас квасом.
– Знаем мы этот квас, – говорю я.
– Ясень пень, – говорит Пётр Николаевич.
– Ясен так ясен. Полетели, – говорит Артемон Карпович. – И на десятой нас они не взбесят.
И полетели. То есть: утроили – ум устроили.
– Ну чё, счепёточник (щепёточник – так кержаки называют нас, никониан, за то, что крестимся мы не двумя, как они, а тремя перстами. – О. Н.), человек должен идти по узкому пути, как по ножу, от мира прятаться, – обращаясь ко мне, говорит Артемон Карпович, продолжая начатый ещё за столом, когда мы только перекусывали, разговор.
– Да как же, Артемон Карпович, – говорю, – прятаться! А машина вон у вас стиральная. Много чего… И холодильник. Да и – вот лампочки-то эти – дизелёк, как вы его называете. Как от него, от мира, спрячешься? Когда вокруг он.
– Согласен, – говорит Артемон Карпович. – Согласен: окружил. Оспаривать не стану. Осаждает. Со всех сторон. Еслив война-то нескончаемая. Не пальцем ткнуть в сметану и палец после облизать. Взял да тыкнул, взял да облизал. Сложно ходить рядом со стеной белёною и не испачкаться. Нет-нет да и заденешь, прислонишься. Или возиться с печкой вон и в саже не измазаться. Тут послабленне, признаю, – говорит Артемон Карпович. – Хошь и противно. Потому что бес в них сидит, работает, в машинах этих.
Я было начал:
– Ну так и…
– Не «ну так и», – перебивает меня Артемон Карпович. – Не надо нукать, не запряг… И телефон ваш, рация, имя мы пользуемся. Чё уж, приходится. Куда деваться. Как бы я вот про вас узнал, не позвони нам Шура?..
– Хорошо, что дозвонилась, – говорит Пётр Николаевич.
– Ну как не хорошо, – говорит Артемон Карпович. – Хорошо. – И говорит: – Кто в телефоне вашем пикат? Не человек жа. И слова с места на место на такое расстояние по пустому пространству, по воздуху-то, кто разносит? Не птицы же.
Пётр Николаевич молчит, всё это уже, наверное, слышал, и не раз. Знает, что спорить бесполезно. А я спрашиваю:
– А кто?
– Не комары и не стрекозы. Зимой какие комары… Зимой идь тоже звук разносится… А кто, – говорит Артемон Карпович. – Будто не знашь… твои дружки, твои товарисчи.
– Кто именно? – спрашиваю.
– Анчутки, – отвечает, – пакостники мелкие, что у больших на побегушках.
– А-а, – говорю. – Не знал.
– Чё ты не знал?
– Что у меня друзья-товарищи такие.
– Да всё ты знашь, – говорит Артемон Карпович. – Уж не юлил бы. А не знашь, дак догадывашься, дурень-то не законченный, с образованнем. Где-то учился жа, не тока в школе, – говорит Артемон Карпович. Глаза прищурил. Не смеётся. – Давно уж дружбу с имя водишь. Все ваши добровольно с имя якшаются, как тока вере изменили, отцы и деды. Исчё и с главным, с кем – не назову. Не за столом яво тут кликать.
– Ну уж! – говорю.
– Не ну уж, а да уж, – говорит Артемон Карпович. И говорит: – А послабленне… И те же спички в магазине покупам. Не послабленне? Послабленне. Исчё какое. Раньше-то делали и спички сами. Книги священные читам тока при лампе и от лучины зажигам, а не от спички. Ну, хошь читам исчё при лампе. Маленько в этом дёржим веру, малость и тут, канешна, пошатнувшись. Раньше-то, в старину, и при лампе, – говорит Артемон Карпович, – нельзя было читать, а тока при лучине. Таперича и лампу вот себе позволили – раско́шь у нас такой пошёл. А чё поделашь? Послабленне. Точней-то выразиться: расслабленне.
– Нельзя читать было при лампе? Как же читали? – говорю. – Если в потьмах-то, если ночью.
– Дак уж сказал жа – при лучине. Чем ты и слушашь? И были люди… да и есть, пальцем показывать не буду… на зубок всё помнили, от буковки до буковки. Тем и потёмки не препона. Книги полностью наизусть знали, не тока главки, – говорит Артемон Карпович. – А не лучина еслив, так жирницы были.
– Были… что?
– Жирницы, слушать лутше надо… Сала накладёшь в яё, запалишь – вот тебе и свет. И зажигать лампу можно было тока от лучины, таперича иной и зажигалкой вонькой подпалит фитиль – ему хошь чё тут. Из наших староверуюсчих путних уже мало. Правда. И водку пьют, и этот… сахар, и чай, и кохве, и какаву… и курют гадость всякую, и нюхают, и чё тока, озверевши и осатаневши, выродки, не вытворяют. Нас как не будет, пусть как хочут. Конец-то света, дак уж чё… Отец мой праведником был: вертолёт тока заслышит, на крючок в избе закроется. Ты вот слыхал об Аввакуме?
– О протопопе?
– Ну.
– Конечно.
– Слыхать-то, может, и слыхал, да вот услышал ли? Не удивительно. И уши есть, да оловом залиты, – говорит Артемон Карпович. И продолжает: – Так вот, вникай, за твёрдость в вере, за суровость характера и готовность душу свою положить за овец яво, отца нашего, люто ненавидели враги, бесы всякие и ваши прародители.
– Да мы к нему почтительно относимся, – говорю я. – Ценим как яркого…
– Ага, ага! Так заценили, что сгубили ярко, – говорит Артемон Карпович. И продолжает: – А помосчницей ко спасению яму жана являлась. Марковна. Уши-то распечатай-ка, вникай. «Доколь мучиться будем?» – спросит она. Он ей: «Марковна! До самой смерти, мол, до самой смерти». – «Добро, – она яму, – добро, Петрович, ино исчё побредем». Кто так таперича? Никто! – сверкнул глазами в сторону Улиты Савватеевны. Та головой ему в ответ кивнула: да, мол, ты прав, таперича уже никто так. – И мы уж выветрились и ослабли, скрывать не стану. И проти правды не попрёшь. Вот тебе и расслабленне. Оно – канешна.
– Ну, водка – ладно, – говорит Пётр Николаевич, поразмышляв. – Понять можно. А почему чай, сахар, кофе и какао-то нельзя, в толк не возьму? Они же из травы, а не из мяса.
– Три смертных греха здесь: от водки – чревобесие, от сахару – гортанобесие, от чая – тсчеславие. Чай приготовляют идолопоклонники – китайцы, водку – часто жиды, татары и другие неверные, – говорит Артемон Карпович. И заявляет: – Считаю чай и водку скверными, поэтому и употребление их – великим грехом. Заповедано: самоваров в доме не держать, яко шипясчую и дымясчую змею.
– Дракона, – говорит Пётр Николаевич.
– Дракона!.. И не дракона, а змею, – повторяет Артемон Карпович, даже глазами не сверкнув на зятя, не заслужил тот. – Всё начинается грехом, а ересью кончатся. Закон. И колбасу нельзя. Эту уж вовсе.
– Ну а какао-то и кофе? – настаивает Пётр Николаевич. – Мне интересно. Объясни.
– Сахар – от нечистей, французов или итальянцев, всё одно что от латынян. А эти, кохве и какава, пришли от муринов, от чёрных. Раз интересно, объясняю. Может от муринов быть чё-то доброе? Не может, – говорит Артемон Карпович. – Ты уж хошь чё тут говори мне. Скрытый, но вред в них точно есть. А твёрдость духа разжижает – не причина? Как не причина! Из одного из этого лишь надо отказаться.
– Ладно. А колбасу-то почему? В чём колбаса-то провинилась? – спрашивает Пётр Николаевич, закусывая медовуху отваренной без соли сохатиной, посыпав её прежде крупной солью и густо намазав горчицей.
– А почему, – отвечает Артемон Карпович, закусывая шанюжкой с зассыхой (она же по-местному сургучка, ягода такая, какая – так мне толком и не объяснили, но полагаю, водяника). – Да потому, что колбасу привёз Антихрист.
– Кто?!
– Да кто, кто, кто. Антихрист. Петька. Царь ваш бывший. Немец.
– А он не ваш? – спрашиваю.
– А наш с чего?!
– Он русский царь, он русский император.
– Он император, то-то и оно, не царь, а чистый супротивник! И колбасу привёз от немцев, от своих, – говорит Артемон Карпович. – А чё немцы туда, в вашу колбасу, вкладывают? Скажут они тебе, откроют, нет? Не скажут, не откроют. Всё проти русских, православных. Как извести, всё и пытаются. Не год, не два – тысячелетия. Господь пока исчё хранит нас… Вы-то уж русские какие? Так тока, но народец несурьёзный, порченый. Всё на ветру, на сквозняках – и выветрило вас, одно названне и осталось, пустое, как гнездо кокушки.
– Не скажите, – говорю я. – Русские. Ещё какие.
– Русские, – говорит Пётр Николаевич.
– Это вы бабке расскажите. Или яману моему, – говорит Артемон Карпович. – Тот, хошь и дурень твёрдолобый, не поверит.
– Так её, колбасу-то, давно уже делают у нас, без немцев, – говорит Пётр Николаевич.
– А руководство! А рецепт остался, сохранился! В ём-то и суть греховная, а не в самом, канешна, мясе, – говорит Артемон Карпович. – Еслив исчё говядина-то там…
– А что? – спрашивает, брови вскинув, Пётр Николаевич.
– А человечина. В ей, в колбасе-то, – говорит Артемон Карпович, глянув на божницу. – Им хватит дерзости и в этом, вашим немцам.
– Страсти какие, господи Исуси! – говорит со своего места Улита Савватеевна. И страстно крестится на образа.
– Если конина и говядина? – допытывается Пётр Николаевич.
– Ага, конина… Как по отцам-то, счас припомню, – говорит Артемон Карпович. Смотрит в упор на зятя колким взглядом, не улыбается и не смеётся. – Значит, вот так оно: не причинит тяжкого вреда, еслив находясчийся в плену бязбожников правоверный вкусил запресчённых или даже идоложертвенных снедей, – как по писаному вещает Артемон Карпович, как под диктовку, – по необходимости и телесной нужде, чтобы от голоду не помереть, и природа требовала питания, ибо Сам Спаситель рек: не входясчее во уста сквернит человека, но исходясчее. Понятно, нет?
– Понятно вроде, – говорит Пётр Николаевич. – Ну так…
– Ну так… еслив пленённые, удручаемые игом рабства, – не дослушав зятя, говорит Артемон Карпович, – прикоснулись к запресчённым снедям по недостатку дозволенной писчи, должны быть подвергнуты меньшей епитимии; а еслив ради пресысчения не воздержались от скверноядения, то они непростительно виновны и потому должны быть подвергнуты и епитимии строжайшей. Такое дело. Да вам-то, правда, в этом чё?.. И человечину сожрёте, отца и мать не посчадите. Давно и жрёте, кажен день – уж и объелись.
– Но свинью-то держите, – вставляю я. – И поросят вон сколько, видели мы.
– А на продажу. Тока на продажу, – говорит Артемон Карпович. – Ваши едят за милу душу. Закон не писан вам, как и яману моему. Такие ж… это…
– Ну а что? – говорю я. – Сами же только что вы процитировали: не то, что входит в уста человека, оскверняет…
– Не, ну а что, а ничаво, – говорит Артемон Карпович. – Входит-выходит. Это о другом. И не в застолье… Допустимо и нам употреблять свинину, сказать по правде, но в самом-самом крайнем случае, да приготовить яё для годного состояния сложно. Так, чтоб кровинки не осталось. Чё ж рисковать, и не рискуем – оскоромиться-то, оскверниться.
– А рыбу? – спрашивает Пётр Николаевич.
– Если без чешуи, нельзя, – отвечает Артемон Карпович. – Налима, стерлядь, осетра.
– Есть у них чешуя…
– Какая чешуя?!
– Но очень мелкая, – говорю я.
– А ты когда-нибудь их видел, таких рыбин?
– Конечно, видел. Не только видел, и ловил.
– Не знаю, чё ты там ловил, вшей водяных, наверно, да жуков-плавунцов… Нет никакой там чешуи, – возражает Артемон Карпович. – Какая чешуя! Из рук выскальзывают, их возьми-ка. Поймал ельца, ерша, язя, дак те шершавы. Этих зажал в руке – не выскочат. А те – как сопли. И где, скажи, там чешуя? Несёшь, чё в голову тебе надует… враг ли нашопчет.
– Мне кажется, – говорю я, – что Господь тебя не спросит, когда ты явишься пред Ним, что ты ел, с копытами, без них ли, с чешуёй, без чешуи ли…
– Тебя, быть может, и не спросит, а сразу в ад определит… Мне кажется… Перекрестись, – говорит Артемон Карпович. И говорит: – А ты откуда знашь, спросит не спросит?
– Спросит, любил ли ближнего, давал ли милостыню…
– Вот тут ты, паря, помолчи!.. А съели яблоко запретное, спросил? Спросил. Сказано, не вари козлёнка в молоке матери его? Сказано?
– Сказано.
– Запрет? Запрет. И, значит, чё-то можно есть, чё-то нельзя. Вроде и яблоко с виду обычное… Запрет нарушил, получи… И получали. Да исчё как. Живы остались, дак и ладно. Молитвенникам благодаря – те упросили. И милости, канешна, Божьей.
– Ну, я не знаю.
– И не знай… Раков нельзя. Их тут и нет. И хорошо – соблазну меньше. Гадов нельзя. И ни морских, и ни земных.
– И эти как-то провинились? – говорит Пётр Николаевич, хлопнув себя зачем-то по карману куртки. Скорей всего, что машинально.
– Да провинились-то – при чём? Нельзя, и всё тут. Без вины. Яблоко тоже вон ни в чём не провинилось. То, что в раю-то. Я говорю жа. Зайцев, белок, ослятину и собачатину нельзя. Нельзя ондатр. Этих полно у нас – лови, не выловишь. Ваши едят, – говорит Артемон Карпович. Разошёлся. Рукой с зажатым в ней ломтём хлеба, забыв про него, размахивает. – Сказал жа Господь Моисею и Аарону, что можно: вот животные, которые позволительно вам есть из всей скотины на земле, всякий зверь и скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, которые жуют жвачку.
– Коровы?
– И коровы…
– И у свиней…
– И у свиней. Скажу исчё и про свиней… А нельзя: из жуюсчих жвачку и имеюсчих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; тушканчика, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и зайца, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и свиньи вот… потому что копыта у неё раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жуёт жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте; а все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плаваюсчих в водах и из всего живусчего в водах, скверны для вас. В детстве нас заставляли это вызубрить…
– Сложная наука, – говорит Пётр Николаевич. – Запомни-ка всё…
– Да, – говорю я.
– Трудно всё это соблюдать, – говорит Пётр Николаевич.
– А чё тут трудного? Дозволено чё – ешь, а чё запресчено – не ешь, и вся тут трудность.
– Наука непростая, – говорю я.
– Это не наука. Какая наука… Наука – это у вас, – говорит Артемон Карпович. – Это – Закон. И хошь умри тут, но исполни. Не то – в поганцы.
– В науке тоже есть законы. И не учитывать их тоже…
– Ага. Болтай чё хошь, кто чё удумат – вот и все законы ваши.
– Ну, так…
– Не нукай, не запряг…
Долго ещё, недолго ли мы беседовали – медовуха время скрала. Но пришла пора и завершать застолье. Зевать все – и я, и Пётр Николаевич, и Улита Савватеевна – начали. Мы с Петром Николаевичем так, чтобы никто не заметил. Улита Савватеевна – чтобы заметили все. Только Артемон Карпович ни разу не зевнул. Тот говорил и говорил бы.
Не разругались – слава богу. И плохо было бы – в гостях-то.
Ушла Улита Савватеевна в горенку, вышла оттуда и объявила нам: постелено. Петру Николаевичу – на панцирной кровати, мне – на диване раскладном.
Лампочки стали тускнеть и помаргивать. Бензин в электрогенераторе заканчивается – так, наверное.
Артемон Карпович на улицу подался.
Вскоре в доме погас свет, а в ограде затих дизель.
Пошли мы спать. Голова вроде нормальная. Ноги заплетаются. Но добрались благополучно до постели.
Пётр Николаевич, вдруг что-то вспомнив, засобирался было в огород, но передумал почему-то.
– Ладно, – сказал вслух. Сам себе.
И я ему ответил:
– Ладно.
– Утром, – добавил Пётр Николаевич.
– Утром так утром, – согласился я. А что утром, выяснять не стал.
Разделись молча. Улеглись.
В щель между занавесками вижу.
Улита Савватеевна, переодетая в тёмный сарафан, зажгла лучиной лампу. Лучину тут же погасила, окунув её в сосуд какой-то, с водой, наверное. На голове у Улиты Савватеевны уже другой платок, похожее ли что-то на платок. Раскрыла на столе какую-то книгу.
Подошёл к ней и Артемон Карпович.
Скрестили на груди руки.
Глядя то на киот, то в книгу перед иконой, Артемон Карпович стал читать:
– Владыко Господи Боже, иже в вышних живый, и на смиренныя призирая, иже во святых почиваяй, хвала Израилева. Приклони ухо Твоё, и услыши ны молясчихтися. Подаждь милость Твоему рабу Артамону и рабе Твоей Улите, скверно ядшим и вкушавшим мяс нечистых по случайносте негодной, ихже вкуса отрекл еси в законе святем ти. И сие ведением или неведением соделавша, прости их Господи.
Постелили коврики, встали на колени…
Уснул я. В бездну будто провалился. Без сновидений.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!