Читать книгу "Школа жизни великого юмориста"
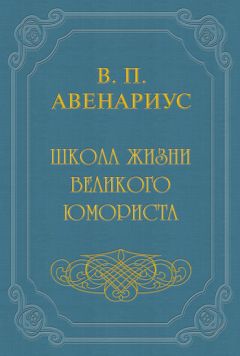
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава двадцатая
Грозная гостья
Немного дней – и царскоселькая идиллия лишилась двух своих членов: Жуковского и Россет; с временным переездом императорской фамилии в Петергоф они также покинули Царское. Оставался один Пушкин с женою; но слишком часто надоедать Наталье Николаевне своим присутствием Гоголь стеснялся, и, таким образом, большую часть дня волей-неволей проводил со своим слабоумным воспитанником. Между тем шаг за шагом надвинулась индийская гостья – холера морбус. Ни в Павловске, ни в Царском, правда, не было еще ни одного случая заболевания этой новою в то время и потому еще более ужасною болезнью; но до Петербурга она уже добралась и начала расправляться с народом, как лютый, беспощадный враг, косить без разбора и богатых и бедных. Как на грех, ягоды в 1831 году уродились в небывалом изобилии, продавались за бесценок – только бы объедаться; да что поделаешь с проклятою мнительностью, унаследованной от маменьки! Мухи вот, как ни в чем не бывало, разгуливают себе по тарелке с мухомором, обсыпанным сахаром, точно им смерть на роду не писана, хотя между сахаром тут же валяются уже десятками трупы таких же мух. Но человек – не муха, видит очень хорошо, как к нему подбирается эта загадочная грозная гостья, – подкралась и хлоп! – без ружья уложит!
«Нынешние всеобщие несчастия заставляют меня дрожать за бесценное здоровье ваше», – писал Гоголь матери, посылая ей несколько рецептов от холеры. Пушкин же более тяготился карантином, которым оцепили Царское и Павловск.
– Столица пошаливает, – говорил он, – а провинция отдувайся своими боками; совсем, как бывало при королевских дворах: за шалости принца секли пажа.
«Шалости» столицы, однако, принимали уже нешуточные размеры. Столичная чернь, обуянная ужасом от массы смертных случаев и от нелепого слуха, будто бы доктора для распространения заразы нарочно отравляют воду, ворвалась в холерную больницу, устроенную в большом доме Таирова на Сенной площади, и выбросила из четвертого этажа на улицу докторов; но император Николай Павлович, прибывший на пароходе из Петергофа, своим мощным царским словом разом успокоил обезумевших. Подробности об этом в Царское Село привез Жуковский, который возвратился туда уже во второй половине июля вместе с высочайшим двором. Сам Жуковский хотя и не был свидетелем холерных волнений, но слышал об них из первых рук – от царского кучера и от князя Меншикова, сопровождавшего государя из Петергофа.
– В самую критическую минуту народного помрачения молодой император наш выступил во всем своем царственном величии, – говорил он. – Прямо с парохода государь сел в открытую коляску, и по всему пути его до Сенной, центра беспорядков, народ несметной толпой бежал за ним. Подобно одинокому кораблю среди бушующих волн, царская коляска остановилась на краю площади у церкви Спаса, посреди шумящей черни. Но вот государь приподнялся в экипаже, и магическим обаянием его величественной фигуры, его строгого вида, его звучного голоса, покрывшего окружающий гам и гул, все это безначальное полчище тысяч в двадцать – двадцать пять было разом покорено и смолкло. Среди общей тишины раздавался один только голос, «как звон святой», по выражению царского кучера…
– Как жаль, что никто не мог записать государевых слов! – заметил Гоголь.
– Никто их хоть и не записал, – отвечал Жуковский, – но Меншиков, бывший в коляске вместе с государем, передал мне эту истинно державную речь, как уверял он, почти дословно. «Венчаясь на царство, – говорил государь, – я поклялся поддерживать порядок и законы. Я исполню мою присягу. Я добр для добрых: они всегда найдут во мне друга и отца. Но горе злонамеренным! Нам послано великое испытание – зараза; надо было принять меры, дабы остановить ее распространение; все эти меры приняты по моим повелениям. Горе тем, кто позволяет себе противиться моим повелениям. Теперь расходитесь. В городе зараза; вредно собираться толпами. Но наперед следует примириться с Богом. Если вы оскорбили меня вашим непослушанием, то еще больше оскорбили Бога преступлением; невинная кровь пролита! Молитесь Богу, чтобы Он вас простил!» При этом государь обнажил голову и, обернувшись к церкви, набожно перекрестился. Тут вся толпа, как один человек, пала в раскаянье на колени, принялась молиться. Волнения как не бывало. Царский экипаж медленно проехал далее, и площадь, как после оконченного торжища, в несколько минут опустела.
К концу июля, благодаря принятым мерам, страшная эпидемия в Петербурге начала ослабевать; но карантин, окружавший Царское Село и Павловск, еще не снимался, и все сношения поэтов-идилликов с остальным миром ограничивались письмами, которые на почте протыкались и окуривались. Из корреспондентов их особенно пал духом Плетнев, которого никогда не унывавший Пушкин не преминул ободрить добрым словом:
«Эй, смотри: хандра хуже холеры; одна убивает только тело, – другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата, мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычовки, а детки будут славные, молодые ребята; мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».
Сам Пушкин с Жуковским продолжали изощряться в писании веселых стихов и особенно сказок.
«О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из под пера сих мужей, – писал Гоголь своему другу Данилевскому в Сорочинцы. – У Пушкина повесть октавами писанная – „Кухарка“[45]45
«Домик в Коломне», вчерне оконченная еще осенью 1830 г. в Болдине.
[Закрыть], в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные, – не то, что „Руслан и Людмила“, но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая[46]46
Очевидно, «Сказка о купце Остолопе».
[Закрыть]. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни гекзаметрами, другие четырехстопными стихами, и – чудное дело – Жуковского узнать нельзя».
Насколько простые приятельские отношения установились у Гоголя с Пушкиным, видно уже из того, что даже письма к себе он просил родных адресовать в Царское Село на имя Пушкина.
Когда он в августе месяце собрался в Петербург, куда звали его как преподавательские обязанности в Патриотическом институте, так и хлопоты по изданию «Вечеров на хуторе», – Пушкин поручил ему отвезти Плетневу рукопись своих «Повестей Белкина».
Особенно, впрочем, торопиться Гоголю на службу, оказалось, было нечего. Когда он вошел в подъезд института, швейцар с поклоном объявил ему, что никого-де не велено пускать.
– Как не велено? Почему?
– Карантин-с.
– Но ведь, по газетам, холера в Петербурге совсем прекратилась?
– По газетам, да-с, но госпожа начальница все же опасаются.
Гоголь вышел на середину улицы и окинул оттуда взором все здание института: не выглянет ли кто? А там, у закрытых окон, действительно, стояло уже несколько воспитанниц среднего возраста – учениц его, которые обрадовались ему точно так же, как он им, и на поклон его весело ему закивали. Он пожал с соболезнованием плечами, вторично снял шляпу и повернул обратно к набережной. А за окнами продолжали следить за ним:
– Mesdames! Смотрите, Гоголь! Он жив, слава Богу!
– Mesdames! Он и на улице машет платком! Когда в начале сентября двери института наконец открылись, Гоголь застал в приемной трогательную группу: несколько классных дам обступили какую-то молоденькую барышню в глубоком трауре, горько плачущую, и наперерыв ее обнимали, утешали. Гоголь поспешил проскользнуть мимо, но, войдя в класс и поздоровавшись с ученицами, спросил их о виденной сейчас сцене.
– Как! Вы не знаете Вальпульскую? – вскричали те хором. – Ведь это дочь нашего бедного, милого Вальпульского!
– Немецкого учителя? Да разве он умер?
– Умер, умер от этой ужасной холеры! Так же, как и француз Бавион; но Бавиона не так уж жалко: он учил у нас недавно.
– Так и меня вам не было бы жалко?
– Что вы, Николай Васильевич! Некоторые из нас сшили по Вальпульском на свои салфетки черные кольца с плерезами. И по вас бы сшили.
Суеверного Гоголя покоробило.
– Благодарю покорно! – сказал он с натянутой улыбкой. – А как же старик Вальпульский-то не уберегся?
– Да он сам сглазил: «Если холера может приключиться от кваса и ботвиньи, – говорил он нам, прощаясь, – то я наверное помру, потому что не могу жить летом без ботвиньи». – «Нет-нет, пожалуйста, не кушайте ее!» – закричали мы. А вот оно так и вышло!
Еще более института, впрочем, занимал теперь Гоголя набор его книги, которая печаталась в казенной типографии Министерства народного просвещения. Когда он в самый день своего приезда в Петербург заглянул в наборную и спросил, почему в течение всего лета ему не присылалось в Павловск ни одной корректуры, все наборщики, стоявшие рядом за своими станками, вместо ответа запрыскали в руку. Он отправился в контору к фактору. Тот стал было оправдываться карантином и множеством работы, но в заключение признался, что во время холеры с рабочим людом просто сладу не было: с горя целые дни гуляют: все одно, мол, помирать-то.
– Ну, моя книжка перед смертью, во всяком случае, их несколько развеселила, – сказал Гоголь. – Когда я сунулся в наборную, они, уже глядя на меня, зафыркали.
– Да-с, ваши штучки оченно даже, можно сказать, до чрезвычайности забавны, – согласился фактор, – и наборщикам нашим принесли большую пользу.
«Из этого я заключил, что я – писатель совершенно во вкусе черни», – писал затем Гоголь Пушкину.
Благодаря постоянным его напоминаниям в типографии, «Вечера на хуторе» увидели свет Божий уже в первой половине сентября, и счастливый автор поспешил поделиться своею радостью с дорогими его сердцу людьми в нижеследующем, вполне «гоголевском» письме к Жуковскому, который, как и Пушкин и Россет, жил еще в Царском:
«Насилу мог я управиться с своею книгою и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий с сентиментальною надписью для Россет, а остальные – тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга! Три дня я толкался из типографии в цензурный комитет, и наконец теперь только перевел дух. Боже мой! Сколько экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, – часто думаю себе, – появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойник, и украл этот несносный кусок земли, эти 24 версты от Петербурга до Царского Села, и с ними бы дал тягу на край света, или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их, вместо завтрака, в свой медвежий желудок. О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов ваших, возлег у ног вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тьмо-численного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э… но вы не поверите мне, назовете меня суевером; что всему этому виною никто другой, как враг честного креста церквей Господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил сбоку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся мимо его и во мгновение ока очутился в Петербурге, на Вознесенском проспекте, и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8 августа, и к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом:
Первая подробная и довольно благоприятная рецензия о «Вечерах» появилась тотчас по выходе книги в булгаринской «Северной Пчеле» (20 и 30 сентября). Вслед за тем (3 октября) в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» издатель их Воейков напечатал извлечение из письма к нему Пушкина, который, рассказывая о том, как фыркали наборщики при виде автора «Вечеров», говорил, что «Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков», и поздравлял публику «с истинно веселою книгою», а автору «сердечно желал дальнейших успехов»».
Отзыв нашего первого поэта был немедленно перепечатан во французском переводе в еженедельнике «Le miroir».
А как же отнеслась «публика» к автору-дебютанту? В три месяца с небольшим, к началу следующего (1832) года, первое издание книги его уже разошлось, и надо было подумать о новом наборе.
Общий курс школы жизни был Гоголем пройден, экзамен сдан успешно. Чего же более? Но и в школе жизни для «мастеров дела» есть еще свой специальный класс, и сам Пушкин взялся быть его наставником в этом классе.
Глава двадцать первая
В специальном классе школы жизни
В осеннюю пору деревня представляла для Пушкина, как известно, особенную прелесть. Хотя дача и не могла заменить ему деревни, но в Царском Селе дышалось все же гораздо легче, чем в Петербурге, и он перебрался сюда на зимнее житье только с заморозками в октябре. Тут один из первых визитов его был к Гоголю, который между тем устроился на новой квартире (в четвертом же этаже на Офицерской, в доме Брунста).
– А у вас здесь, ей-Богу, премило, – говорил Пушкин, озираясь в просторном и, действительно, очень уютном жилье. – Вся эта обстановка, конечно, хозяйская?
– Нет, моя собственная, – отвечал Гоголь, самодовольно потирая руки. – Кое-что у меня уже имелось с первого приезда в Питер; остальное: вот письменный стол с креслом, бюро, да вон старинные гравюры на стене прикупил теперь на толкучке…
– На толкучке!
– А что вы думаете: там такие сокровища, каких в ином большом магазине не найдете.
– Но мебель как будто совсем новая, сейчас только отполирована…
Тонкая усмешка пробежала по губам Гоголя.
– Значит, недаром столько политуры и сил потратил!
– То есть как вас понимать? Не собственноручно же вы полировали?
– Вот этими самыми руками; и дешево, знаете, и сердито.
– Не знал я за вами таких талантов! Но хорошенькие занавески эти не сами же вы смастерили?
– Выкроил сам и показывал, как шить.
– Браво! Как станем с Натальей Николаевной обзаводиться своим домком, так позволим себе вас также обеспокоить. Зашел я, однако, сегодня к вам не за этим.
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил.
В каком положении, скажите, ваш второй сборник «Вечеров диканьских»?
– Покаместь в переходном, так сказать, в неглиже: нет ни одной штуки вполне отделанной, чтобы можно было показать вам.
– Ну, со своим братом писателем вам нечего чиниться. Меня интересует именно ваше творчество. Покажите-ка, покажите, что у вас наготовлено.
Пушкин, сам Пушкин интересовался его творчеством!
Гоголь выгрузил на стол весь ворох своих писаний и торопливо начал перелистывать их, не зная, на чем остановиться. Но Пушкин решил вопрос, наложив руку на самую объемистую тетрадь:
– Ведь я вам, душенька, все равно ничего не прощу. Что это такое? «Ночь перед Рождеством»? Ну, вот и извольте читать.
Гоголь послушно сел и стал читать. Бесподобные сцены Солохи с чертом, Вакулы с Оксаной, и т. д., и т. д., над которыми с тех пор более полувека хохочет вся грамотная Россия, впервые развернулись тогда перед Пушкиным, который не раз во время чтения награждал автора самым искренним смехом.
– Это, пожалуй, еще лучше всех прежних рассказов пасечника, – заметил он, когда Гоголь закрыл тетрадь. – Тут не столько даже остроумия, сколько здорового юмора: острота смешит, юмор веселит.
– А вы не сделаете мне никаких замечаний? – спросил Гоголь, которому такая похвала как хмель ударила в голову.
– Сегодня – нет, – уклонился Пушкин, – сегодня я гость и смакую только. Но одним глазком я охотно заглянул бы еще в ваш чуланчик с сырой провизией. У вас ведь тоже, конечно, имеются разные летучие заметки?
– Как не быть…
– Ну, так выкладывайте-ка свое сырье, из которого стряпаются потом такие вкусные вещи, как эта «Ночь перед Рождеством».
Делать нечего – пришлось выкладывать свое «сырье». Как знаток-антикварий, попавший к другому собирателю древностей, с одинаковым интересом разглядывает и большую мраморную статую и миниатюрную, но редкую камею, так же точно Пушкин с неослабевающим любопытством перебирал выложенную перед ним рукописную груду, не пропуская ни одного клочка бумаги с случайной заметкой, набросанной карандашом. Всего более же заняла его записная тетрадка Гоголя за время путешествия его из Полтавы в Петербург: тут были не только мимолетные наблюдения туриста – описания местностей, одежд и нравов, но и целые разговоры с встречными людьми.
– Да вы просто Крез! – сказал Пушкин. – И способ, которым вы собираете ваши богатства, надо сознаться, гораздо систематичнее моего.
– А ваш способ какой? – спросил Гоголь.
– Как накопится у меня в голове запас наблюдений, я нарежу себе пачку билетиков, сделаю на каждом подходящий ярлык и положу всю пачку в вазу на рабочем столе. А выдастся раз свободная минута, – достану из вазы наугад, как в лотерее, тот или другой билетик, и какой бы мне тут ни попался заголовок, например, «Державин» или «Русская изба», в памяти моей разом восстанет все то, что мне хотелось сказать о Державине или русской избе…
– И вы тотчас записываете все на том же билетике?
– Если найдется на нем место; если же нет, то продолжаю на другой бумажке. Многое, конечно, так и останется без употребления; но наследникам моим будет хоть чем пополнить посмертное издание моих сочинений! – с грустною шутливостью добавил Пушкин. – Сами же вы, Николай Васильевич, оставайтесь при вашей системе. Не все в ваших самородках золото, есть и шлаки; но я помогу вам отделить их, по пословице: кого люблю, того и бью.
Так все более сближались наши два великие писателя, хоть звезда одного из них стояла уже в зените, а звезда другого едва восходила над горизонтом. Встречались они не только друг у друга, но и у Жуковского, Плетнева и Россет. На одном из понедельников у последней Гоголь удостоился читать свою «Майскую ночь» великому князю Михаилу Павловичу; в дугой понедельник – самому государю. Государь обошелся с молодым писателем очень милостиво, поговорил с ним о Малороссии, о гетманах Хмельницком и Скоропадском, а когда узнал, что Гоголь приходится внучатым племянником покойному министру юстиции Трощинскому, то отозвался с большою похвалою об этом выдающемся сотруднике Екатерины II и Александра I. Тут речь зашла и о верности старых русских слуг.
– Никто так звучно не воспел их, как наш Искра, – сказала Россет, давшая Пушкину, между прочим, и это прозвище. – Его няня Арина Родионовна будет вечно жить в его чудных стихах.
– Прочитай-ка нам что-нибудь про нее, Пушкин, – предложил государь.
Пушкин, немножко подумав, стал читать свое несравненное стихотворение: «Наперсница волшебной старины», где няня и бабушка поэта Марья Алексеевна Ганнибал (еще ранее няни рассказывавшая ему семейные предания) сливаются в один общий образ музы-старушки, а та внезапно превращается в молодую красавицу-музу.
– Какие восхитительные, мелодичные стихи! – сказал государь.
– И как плохо прочтены! – подхватила Россет. – Он вечно мчится галопом!
– Однако вы обращаетесь с поэтом без церемонии.
– Это мой самый строгий цензор, гораздо строже вашего величества, – сказал Пушкин. – Он уважает только поэзию, а не поэтов, которых третирует свысока. Но ухо у нее верное и музыкальное.
– В таком случае, ты на будущее время приноси свои новые стихи ей, а она уже будет передавать их мне на последнюю цензуру: она будет твоим фельдъегерем ко мне.
По уходе государя разговор сделался опять общим. Было тут немало людей умных и остроумных, каждый считал долгом подсыпать свою щепотку аттической соли; это была как бы скачка остроумцев, но Пушкин вел скачку и своими неожиданными выводами опрокидывал всякие соображения.
– Ну, Пушкин, – заметил Жуковский, – ты так умен, что с тобой говорить невозможно. Чувствуешь, что ты неправ, и, однако, с тобой соглашаешься.
Ответом Пушкина был тот звонкий, чистосердечный смех, которому так завидовал Брюллов, говоривший: «Какой счастливец Пушкин! Смеется, словно кишки видны».
Один только новичок и дичок Гоголь не принимал участия в оживленной беседе «аристократов ума и литературы». Но, сидя в стороне, он не сводил глаз с Пушкина и тихомолком заносил слова его в свою карманную записную книжку.
– Записывайте, записывайте, – сказала ему, подходя, молодая хозяйка. – Сверчок ныне особенно в ударе; это какой-то фейерверк. Знаете ли вы, что говорил он мне про ваши заметки, которые вы показывали ему на дому? – продолжала она, таинственно понижая голос. – «Я просто поражен наблюдательностью нашего молчальника-хохла! – говорил он. – Хохол все видит, все слышит, схватывает самые неуловимые оттенки, особливо же все смешное. Но он не только смеется: он бывает и грустен; он рассмешит, но заставит и плакать. И помяните мое слово: раньше десяти лет он будет русским Стерном!»
– Это предсказал сам Александр Сергеевич?
– Да, а вы уж постарайтесь оправдать его предсказание, слушайтесь его советов. Он вас, кажется, сердечно полюбил.
– Кажется, что так; по крайней мере, обещался применить на мне поговорку: кого люблю, того и бью.
Испытать на себе силу этой поговорки Гоголю пришлось, действительно, в полной мере. Сколько раз, бывало, в течение последующей зимы Пушкин взбегал к нему на четвертый этаж и засиживался у него до глубокой ночи, беспощадно очищая его самородки в огненном горниле своей художественной критики.
В том же доме и на одной даже лестнице с Гоголем проживал в 1831 году безвестный еще тогда музыкант Штейн, впоследствии профессор Петербугской консерватории. Познакомившись со Штейном, Гоголь нередко заходил к молодому соседу, когда тот фантазировал на фортепиано. И вот однажды, когда Штейн, возвратясь поздно из гостей, огласил опять лестницу чарующими звуками, в комнату к нему ворвался Гоголь. Вид у него был до того расстроенный, что Штейн испугался.
– Что с вами, Николай Васильевич? Что случилось?
– Ничего, ничего… играйте… – пробормотал Гоголь, бросаясь на диван.
Штейн снова заиграл. Но вдруг ему, сквозь музыку, почудились со стороны дивана всхлипы. Что за диво! Он прекратил игру и оглянулся: Гоголь, этот невозмутимый флегматик, беспардонный насмешник, припал лицом на руки и рыдал, да, рыдал!
Но когда Штейн подошел к нему и участливо тронул его за плечо, Гоголь сердито буркнул:
– Ах, оставьте меня!.. Играйте, пожалуйста…
– Музыка вас еще более расстроит, – сказал Штейн. – Не заходил ли к вам опять господин Пушкин?
Имя Пушкина как острым ножом разбередило свежую рану.
– О, не называйте его! – вскричал Гоголь в полном отчаянье. – Он меня ни в грош не ставит, он меня презирает!..
– Но за что?
– Какая жизнь после этого? – не слушая, продолжал всхлипывать Гоголь. – Одно только и остается – умереть…
Немалого труда стоило Штейну выпытать у бедняги, в чем дело. Оказалось, что Пушкин распушил его в пух и прах за его «невежество».
– И он прав, он тысячу раз прав! – в порыве самобичевания восклицал Гоголь. – Что такое талант без знания?
– Но вы же прошли университетский курс?
– В гимназии «высших наук» – да. Но известны ли мне на самом деле эти высшие науки? Знаю ли я сколько-нибудь иностранные литературы? Что я читал? Я – невежда, я – круглый невежда! Каким же могу я быть писателем, глашатаем народным, когда сам едва разбираю азы?
– А господин Пушкин не назвал вам разве книг, которые вам следует прочитать?
– Некоторые назвал…
– Так и прочитайте. Вы еще так молоды, что можете перечитать, выучить наизусть хоть сотню книг.
И, чтобы поскорее успокоить нервы своего несчастного приятеля, Штейн сыграл ему одну из духовных пьес Гайдна, смягчающих своею величественною, стройною гармонией самое ожесточенное сердце[48]48
Про описанную выше сцену слышал от самого профессора Штейна сын его Р. Ф. Штейн, известный наш иллюстратор, а от последнего – пишущий эти строки.
[Закрыть].
Советы Пушкина Гоголю относительно чтения иностранных писателей и мыслителей не остались бесплодны: в записках А. О. Россет-Смирновой перечислены следующие сочинения, прочитанные Гоголем по совету Пушкина: по английской литературе – те из драм Шекспира, которые имелись уже тогда в русском переводе, по испанской – «Дон-Кихот» Сервантеса (во французском переводе), по немецкой (в оригинале) – кроме Шиллера, уже известного Гоголю, «Фауст», «Вильгельм Мейстер» и некоторые другие произведения Гете, «Натан Мудрый» и «Гамбургская драматургия» Лессинга; наконец, по французской (также в оригинале) – трагедии Расина и Корнеля, комедии Мольера, сказки Вольтера, басни Лафонтена, «Опыты» («Essais») Монтеня, «Мысли» Паскаля, «Персидские письма» Монтескье, «Характеры» Лабрюйера.
Отчаиваться Гоголю, в действительности, было нечего. Благодаря чтению, а также постоянному общению с живыми носителями русской поэзии и мысли, литературный и умственный кругозор его все более расширялся. И Пушкин стал относиться к нему уже не как к нерадивому ученику, а как к даровитому младшему товарищу. В течение всех пяти лет, которые Гоголь оставался еще в Петербурге, Пушкин не переставал забегать к нему и целые вечера проводил с ним с глазу на глаз. Гоголь прочитывал, а Пушкин то ободрял его добрым смехом, добрым словом, то делал какое-нибудь меткое замечание. Иной раз, впрочем, и сам Пушкин приносил свои новые стихи. По своей живой натуре, он нередко горячился, но уходил почти всегда в наилучшем расположении духа.
– Еще ни у одного писателя, – говорил он, – не было этого дара выставлять так ярко пошлость человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула крупно в глаза всем.
Только слушая первые главы «Мертвых душ», в первоначальной редакции которых, по заявлению самого Гоголя, были выведены не люди, а «чудовища», Пушкин делался все мрачнее и мрачнее, пока не воскликнул:
– Боже, как грустна наша Россия!
Однажды, после продолжительной отлучки из Петербурга, Пушкин, зайдя опять к Гоголю, не застал его дома.
– Да вам чего? – спросил Яким, когда Пушкин тем не менее, как был «в шинельке», вошел в кабинет барина. – Записочку написать?
– Нет, не записочку, – был ответ, – а посмотреть, не сочинил ли твой барин чего новенького, хорошенького.
И, говоря так, Пушкин принялся рыться в разбросанных на письменном столе бумагах отсутствовавшего хозяина.
А уж как сам Гоголь ценил такую привязанность к нему Пушкина!
«Не робей, воробей, дерись с орлом!» – говорил он когда-то, когда мнил себя поэтом. Теперь, напротив, сам орел побратался с ним, признал его орленком. Мало ли на свете пород орлиных? Не нынче-завтра он сам станет орлом, которому будет от всех птиц почет.
Еще летом 1831 года Гоголь отказался от всякой денежной помощи матери. Теперь он по несколько раз в год стал посылать ей и сестрам разные столичные гостинцы: браслеты, перчатки, башмаки, ридикюли, ковры, конфекты и т. п. Когда ответ на одну из таких посылок затерялся, он шутливо посоветовал матери:
«В предотвращение подобных беспорядков, впредь прошу адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю куда делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность».
Посылая ей (в марте 1832 года) на расходы по свадьбе своей старшей сестры Машеньки, или, как ее теперь звали, Marie, 500 рублей, он раз навсегда отказался и от протекции провинциалов:
«Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра. Но прошу вас не беспокоиться об этом. Путь я имею гораздо прямее и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы мог мне сделать человек. Добра я желаю от Бога, и именно – быть всегда здоровым и видеть вас всегда здоровыми. Верьте моему слову, маменька, что все, кроме этого, гниль и суета».
Когда затем мать попыталась затронуть общеинтересную тему, сын отозвался так:
«Вы спрашиваете меня, появилась ли точно комета в Петербурге? Охота же вам заниматься ею! Мало ли подобной дряни является каждый год! По мне хоть бы двадцать комет засветило вдруг и все звезды поприцепляли к себе длинные хвосты, придерживаясь старой моды, мне бы это не больше принесло радости, как прошлого года упавший снег. Впрочем, когда вы мне объявили, что есть комета, то я нарочно обсматривал по несколько часов небо, но никакой звезды, даже короткохвостой или куцей, не встретил».
Таким же полупрезрительным юмором дышали и многие из писем его к Данилевскому, как например, от 30 марта 1832 года, где по поводу приезда в Петербург их общего школьного товарища, Кукольника, которого оба никогда недолюбливали, говорится:
«Возвышенный все тот же; трагедии все те же. „Тасс“ его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры все необыкновенно благородны, полны самоотвержения, и вдобавок выведен на сцену мальчишка тринадцати лет, поэт и влюбленный в Тасса по уши. А сравнениями играет, как мячиками: небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: „губы посинели у него цветом моря“ или „тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи“ – ничто против нынешних».
Кукольник, сам, видно, чувствуя, что ему не место в кружке Пушкина и Гоголя, тогда уже примкнул к противоположному лагерю – Греча, Булгарина и Сенковского.
Что касается других нежинцев, то Гоголь еще с осени 1831 года завел для них у себя постоянные вечера, для которых нарочно сам приготовлял особые шоколадные сухарики.
«Что тебе сказать о наших? – писал он Данилевскому. – Они все, слава Богу, здоровы, прозябают по-прежнему, навещают каждую среду и воскресенье меня, старика».
Орленок, в предчувствии своей будущей силы, возносился, пожалуй, даже чересчур над воробьями, чижами и прочей птичьей мелюзгой.









































