Читать книгу "Школа жизни великого юмориста"
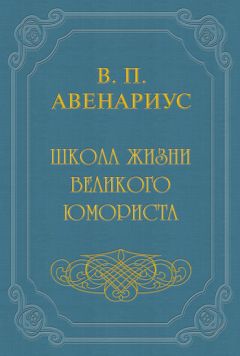
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава шестая
Без оглядки
– А к тебе, брат, из почтамта пришла повестка и на тысячную сумму.
Такими словами встретил Гоголя дома Прокопович. У того и руки опустились. Вот оно, чудо-то!
– Что с тобой, Николай Васильевич? – озабоченно спросил Прокопович, видя, что приятель его совсем изменился в лице и стоит как вкопанный.
Тут только Гоголь очнулся и быстро подошел к столу, на котором лежала повестка.
Верно: «Денежный пакет на 1450 рублей». Да на его ли имя? Как же: «Николаю Васильевичу Гоголю-Яновскому».
– От кого бы это могло быть? – заговорил опять Прокопович, вслух произнося вопрос, который мысленно задал себе уже сам Гоголь. – Ты, может быть, писал своей матушке о своей болезни, просил выслать тебе на поездку в Любек?
А что же? Хоть он и не просил именно на это денег, но маменька знает о совете докторов и по своей безграничной доброте достала для него где-нибудь… А если деньги не от нее? От кого бы ни были, разве они могут иметь теперь какое-нибудь иное назначение?
– Писал, да, – отвечал он и взглянул на часы. Экая ведь досада! Уже пятый час, почтамт закрыт; придется ждать до завтра.
Давно не проводил он такой беспокойной ночи; с восходом солнца он не мог уже сомкнуть глаз, а в половине восьмого был на ногах. Яким едва успел уговорить барина выпить перед уходом хоть стакан чаю. Второпях он обжег себе горячим чаем и глотку, и внутренности. Ну, да черт с ними! Почтамт ведь открывается уже в восемь.
Прокопович оказался прав: денежный пакет был, в самом деле, от матери Гоголя, но – увы! – не на поездку его в Любек. Васильевка ее была заложена в ссудной казне опекунского совета, и все высланные 1450 рублей она поручала сыну внести туда в уплату срочных процентов, горько жалуясь при этом, что только сосед Борковский согласился ссудить ее такою крупною суммой, но тут же отобрал у нею большой медный куб из винокурни…
Эх, маменька, маменька! Куб кубом, а ведь и сын-то единственный, будущая опора в жизни, чего-нибудь да стоит? Остаться в Петербурге разве не то же, что дать свезти себя прямо на Волково? Протянешь еще, пожалуй, месяц-другой, а там Прокопович отправит к ней лаконичную, но громовую цидулу: «С душевным прискорбием имею честь уведомить, что любезнейший сын ваш Николай волею Божиею…» и т. д. И весть эта убьет несчастную, наверное убьет! Пусть она читает ему чуть не в каждом письме «мораль», да ведь все от безмерной родительской любви. Вот и теперь даже к этому письму приложила целый ворох материалов о малороссийских обычаях и поверьях, которые он просил собрать для него. Каких хлопот ей это, верно, стоило! Ах, маменька, милая, бесценная моя! Что мне делать, чтобы не слишком огорчить ее да и сохранить ей сына? Творец Небесный, просвети Ты меня!
Терзаясь таким образом, он безотчетно шел себе вперед да вперед – сперва по Почтамтской, потом по Малой Морской, пока не уперся в Невский. Здесь повернул он в сторону Казанского собора, а увидев его перед собою, как бы подталкиваемый невидимою силой, поднялся на паперть и вошел в собор. На улице, вне стен соборных, слепило и жгло июльское солнце, гудел и грохотал многолюдный город. Здесь вошедшего разом охватило торжественным безмолвием, прохладным полумраком, словно он вступил в совершенно иной, неземной мир. И в самом отдаленном притворе он опустился на колени, чтобы припасть пылающим лбом к холодному каменному полу…
Когда он, полчаса спустя, вышел опять из собора, на душе у него не то чтобы полегчало, но было зловеще-спокойно, как у больного, приговоренного врачами к смерти: что пользы волноваться? По крайней мере, чист перед людьми и перед Богом. Сейчас снесет всю сумму в ссудную казну, а там будь что будет! Который час-то? Только девять. Никого из господ чиновников там, конечно, еще не застанешь. Пройтись разве покамест по набережной Невы? Немножко хоть освежиться от этого несносного зноя…
Со взморья, действительно, веял преприятный, живительный ветерок, и Гоголь впивал его полною грудью. Точно ведь здоровье глотками пьешь! Вот бы куда, в море, за море!
И алчущий взор его устремился вниз по Неве ко взморью. А на том берегу, за Академией художеств, виднелся целый лес корабельных мачт и дымящихся пароходных труб. Не иностранные ли то суда? Эх-эх-эх! А любопытно все же взглянуть, на котором из них он укатил бы в Любек?
И вот он уже на мосту, вот и на Васильевском за академией, против 10-й линии. Вблизи, отдельно взятые, суда эти на вид как-то менее надежны и не так уж привлекательны, за исключением разве вот этого, пузатого, массивного, своею солидностью да и опрятностью внушающего невольное доверие.
– Куда идет этот пароход? – обратился Гоголь к одному из судорабочих, которые гуськом, один за другим, перетаскивали туда с берега хлебные кули.
– Nach Liibeck, mein Herr[10]10
В Любек, господин (нем.).
[Закрыть], – отозвался за рабочего мужчина с загорелым, обветрившимся лицом, очевидно капитан, наблюдавший на палубе за погрузкой и производивший своей коренастой фигурой, своим решительным видом столь же внушительное впечатление, как и его пароход. – Дней через пять снимемся уже с якоря. Если вы собираетесь за границу, то лучшей оказии вам не найти. Милости просим.
Благодаря усердному чтению немецких авторов в последний год своего пребывания в нежинской гимназии, Гоголь не только изрядно понимал обыкновенную немецкую речь, но и сам мог объясняться с грехом пополам с немцами.
– Мне и то представлялся случай ехать за границу, – отвечал он со вздохом. – Но дело расстроилось…
– Ну, может быть, еще и устроится. Перевезу я вас не дороже других; а удобства, комфорт – даже в каюте второго класса. Или вы взяли бы место в первом?
– Нет, в первом ни в каком случае.
– Ну что ж, и во втором прекрасно, да и общество более обходительное. Не угодно ли самим осмотреть каюту?
– Благодарю вас; но так как я все равно не поеду…
– Что ж такое? Посмотрите – и только. За погляденье мы ничего не берем. В другой раз поедете; я ведь здесь в Петербурге не в первый раз и не в последний.
Как было устоять против такого любезного приглашения? Ведь, в самом деле, можно теперь и не ехать, а вперед приглядеть себе на всякий случай хорошенькое, уютное местечко…
Перебравшись по сходням на пароход, Гоголь следом за капитаном спустился по трапу в каюту второго класса.
– Вот, изволите видеть, общая каюта, – объяснял капитан. – Тут вы встречаетесь, знакомитесь с другими пассажирами, людьми всяких наций. Человеку молодому, как вы, это должно быть даже поучительно для изучения нравов.
– Гм… А где же отдельные каюты?
– Кают отдельных нет, но есть отдельные койки за занавесками, что, в сущности, одно и то же. Вот, не угодно ли взглянуть: задернетесь этак занавеской – и никто вас не видит, не беспокоит. Верхние койки имеют еще то преимущество, что у каждой свой иллюминатор. – Капитан указал на круглое оконце в борте судна. – Свету довольно; можете читать или мечтать – ad libitum[11]11
По своему усмотрению (лат.).
[Закрыть]. Матрац мягкий, белье чистое. Хотите свежим воздухом подышать – откроете иллюминатор, как форточку в спальне. Мало вам этого – подниметесь на палубу, гуляете там на просторе хоть до зари. Ночи теперь в июле ведь теплые, южные, а морской воздух – тот же жизненный эликсир, здоровее даже воздуха Альп. Цвет лица у вас, mein liber Herr, простите, совсем нездоровый. Поговорите с докторами: они наверняка присоветуют вам этакую поездку морем.
– Доктор мой и то рекомендовал мне морские купанья в Травемюнде…
– Ну, вот! Что же я говорю? А от Любека до Травемюнде рукой подать. Нет, право же, молодой человек, подумайте о своем здоровье: здоровье дороже денег. Да скорее решайтесь: свободных у меня осталось всего три койки.
Искуситель, ох искуситель!
– А которые у вас еще не заняты? – спросил Гоголь возможно равнодушным тоном, но голос у него словно осекся, застрял в горле.
– Вон те две нижние да вот эта верхняя. На вашем месте, признаться, я взял бы верхнюю: неравно с соседом вашим морская болезнь приключится. Прикажете сохранить для вас?
– Уж, право, не знаю…
– Я вам ее сохраню; но не долее, как на два дня: на сегодня и завтра.
– Благодарю вас, но пока я вовсе ведь еще не решился… – А решиться вам надо, и до завтрашнего вечера я, во всяком случае, просил бы вас дать мне окончательный ответ, потому что могут явиться другие желающие.
– Хорошо… До свиданья.
– До свиданья. Не упускайте же случая! Пожалеете потом, да поздно.
В душе Гоголя поднялась целая буря; куда девалось давешнее хладнокровие! Сыновний долг – великое дело, но в данном случае и обоюдоострое: исполнит ли он свой сыновний долг, если пожертвует собою? Нельзя ли разом достигнуть двух целей? Что, если уплата процентов опекунскому совету не так уже срочна?
Петербургские чиновники собирались тогда на службу куда ранее, чем в наше время. Несмотря на ранний час (пробило всего десять), Гоголь застал уже всех на своих местах. Оказалось, что плательщикам давалось четыре льготных месяца, с уплатою пени по пяти рублей с тысячи. Этакую-то пеню кто не уплатит! До ноября маменька весь урожай сбудет и, конечно, уж не затруднится выслать опять полную сумму, а сын у нее будет спасен.
И чтобы не упустить оказии спастись, сын взял, не рядясь, извозчика на Васильевский и погонял его как на пожар.
– Здравствуйте, господин капитан.
– А! Здравствуйте. Что же, решились?
– Решился. Та верхняя койка, которую вы мне предлагали, еще ведь не сдана?
– Нет, я ждал вашего ответа.
– Считайте ее за мною. А когда отъезд?
– Дней через пять, как сказано, а может, даже и через четыре: это зависит от погрузки. Как бы то ни было, вам надо теперь же озаботиться насчет заграничного паспорта; не то может выйти у вас задержка. Деньги за билет позволите уже получить?
– Получите.
Надо ли говорить, как был удивлен Прокопович, а вечером и навестивший товарищей Данилевский, когда Гоголь предъявил им билет с надписью: «Von St.-Petetsburg nach Liibeck». Но оба были за него сердечно рады, а Данилевский предложил ему на дорогу и свою шубу, так как в конце сентября, ранее которого Гоголь не располагал вернуться, на море должно было быть уже холодно и бурно.
Выправка заграничного паспорта потребовала немало беготни, убеждений, просьб. Но к вечеру 24 июля все формальности были соблюдены, и паспорт лежал уже в кармане. Впереди оставался еще целый день для укладки. Но одно дело не было еще сделано, самое трудное; он нарочно отдалял его, как бы боясь поколебаться в своем решении. Но долее откладывать его уже не приходилось; надо было взяться за перо, и он выставил в заголовке одно только слово:
«Маменька!»
Это был крик нестерпимой болит, вопль отчаяния, который должен был сказать чуткому материнскому сердцу гораздо более, чем почтительные, но избитые уже эпитеты: «бесценнейшая», «драгоценнейшая», «почтеннейшая» и прочие.
«Не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего, но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну.
Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всевышнего… Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы!..»
Все это было только введение к тяжелому признанию, и оно все разрасталось да разрасталось, чтобы отдалить минуту самого признания. Однако в конце концов без признания все-таки не обойтись. Но как убедить маменьку, на всем веку своем не сочинившую ни единого стиха, что для поэта, отказавшегося на веки вечные от своей музы, нет иного выбора, как смерть или бегство куда глаза глядят? Нет, ей этого все равно не понять! Иное дело – тронуть струны ее сердца. До сих пор ведь целые годы она оплакивает мужа; своим чутким женским сердцем она поймет и безумную, безнадежную любовь сына к прекрасному существу, отвергнувшему его чистые пламенные чувства. Ведь что же такое муза, как не такое дивное, но недосягаемое для него существо? Он не скроет правды, хотя и в иносказательной форме. И признание его вылилось на бумагу так:
«Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее… нет, не назову ее… Лицо, поразительное блистание которого в одно мгновение печатлеется в сердце, глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков… Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. Нет, это существо, которое Он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, – не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока!
Итак, я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была, наконец, за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся; но вдруг получаю следуемые в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов, узнал, что просрочка дается на четыре месяца после срока, с платою по пяти рублей от тысячи в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный, но что же было мне делать? Все деньги, следуемые в опекунский совет, оставил я себе, и теперь могу решительно сказать: больше от вас не потребую… Что же касается до того, как возвратить эту сумму, как внесть ее сполна, вы имеете полное право, данною и прилагаемою мной при сем доверенностью, продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить, и проч., и проч… Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необходим… Мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив, по крайней мере всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных. Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в Любек».
Уф, гора с плеч! Теперь еще в постскриптуме «чувствительнейшую и невыразимую благодарность за драгоценные известия о малороссиянах» да секретное пояснение: «В тиши уединения и готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет… Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке».
Ох, матинко риднесенька, милесенька! Ужели она не убедится, что несчастному сыну ее нет иного исхода, как бежать без оглядки?
Глава седьмая
На море на океане
Одушевленная морская громада задорно пыхтит и роет лапами воду. Вот и третий колокол. Провожающие торопятся по сходням на берег, и сходни втаскиваются на палубу. Пароход начинает работать всеми парами и, покачиваясь, взбивая каскады брызг, тяжеловесно поворачивается и отваливает от пристани. А там машут платками, посылают отъезжающим прощальный привет на разных языках:
– Farewell!
– Ade!
– Поправляйся и пиши почаще!
Последнее кричит Прокопович, а стоящий у борта Гоголь откликается не менее громко:
– Добре, но не ручаюсь.
– А Данилевскому что сказать?
– Что он Иуда: мог бы тоже прийти провожать. Прокопович хочет, кажется, сказать еще что-то в оправдание неприбывшего, но должен прибегнуть к платку: разлука с сожителем и другом очень уж переполнила его чувствительное сердце. А вот и он, как и вся толпа на пристани, остались уже позади, становятся все меньше да меньше, пока совсем не исчезают из виду.
Прощай, Питер! Прощай, Русь! Как знать – не навсегда ли? Впереди ведь весь Запад, весь свет; на душе так легко и привольно… да, но и как-то пусто, словно что-то там оторвалось и осталось дома.
– Farewell!
Совершенно безотчетно Гоголь произнес это слово вслух и с таким чувством, что стоявший тут же у борта молодой англичанин счел его, видно, за земляка и быстро залопотал что-то по-своему, выставляя при этом кончик языка. Но, вглядевшись в насмешливые черты молодого малоросса, вдруг замолк и с высокомерным видом отвернулся. С этого момента сын Альбиона затаил в себе, видно, неприязнь к сыну Украины: когда, по обеденному колоколу, пассажиры второго класса собрались в общей каюте, и Гоголь за столом очутился случайно рядом со своим тайным недругом, тот, приняв от другого соседа салатник и отвалив себе на тарелку двойную порцию, передал салатник не Гоголю, а наискосок через стол белокурой немочке, любезно оскалив при этом свои крепкие и длинные зубы.
«Где я, бишь, видел эту лошадиную морду? – мелькнуло в голове у Гоголя. – Ага! Вспомнил: за прилавком в аглицком магазине, когда покупал себе перочинный ножик. Приказчику, понятно, не пристало ехать в первом классе с соотчичами синей крови; а держит себя, вишь, с тем же благородством и изяществом неподдельного дубового бревна!»
Большинство пассажиров, впрочем, были немцы обоего пола и всяких возрастов, от старческого до детского, и вели они себя совсем иначе: за первым же обедом все перезнакомились, чокались стаканами и дружно хохотали над шутками балагура-капитана, председательствовавшего за столом. Море он сравнивал с пустыней Сахарой, а корабль с верблюдом, на котором с непривычки хоть кого укачает: оттого-де и обед подается еще до открытого моря, «на черный день».
После десерта следовала еще чашка кофе. Но в это время пароход, миновав Кронштадт, вышел в открытое море, и «верблюд» под сиденьями обедающих так явно заколыхался, что все рады были выбраться из душной каюты на вольный воздух. Выбрался туда и Гоголь, которому под конец как-то стало не по себе. Облокотясь на борт обеими руками, он оглядывался теперь по сторонам. Справа и слева едва-едва уже обозначались берега Финского залива, а там, впереди, где лучезарное солнце только что готово было окунуться в сверкающее море, – что за ширь беспредельная, необъятная! И ветер-то какой славный, чистый! Не петербургский из задворков – фу! – а морской, так сказать, трипль-экстракт воздушной ключевой воды. Вечно бы этак упивался им; чувствуешь, как оживаешь, перерождаешься. А что самое главное – что никто-то тебя тут не знает, никого и сам ты знать не хочешь. Совсем байроновский Чайльд-Гарольд: вперед, вперед, в неведомую даль! Как это поется в его «Доброй ночи»?
Простите, конечно, и вареники с галушками, маковники с пампушками, простите и вы, маменька, добрейшая, милейшая, какой у Чайльд-Гарольда, конечно, никогда не было, быть не могло…
Сердце в груди юноши тоскливо сжалось: по спине его пробежали мурашки. Он плотнее запахнулся в плащ и должен был достать из кармана платок. Ну, вже так! Неужто он тоже раскисает?
С закатом солнца пассажиры собрались снова в каюту к чайному столу; а после чая дамы, уложив детей, деликатно удалились на палубу, чтобы дать мужчинам улечься и задернуться занавесками. Тем временем стюард (корабельный слуга) уменьшил пламя в лампе и протянул поперек каюты между дамской и мужской половиной веревку, а на веревке развесил несколько больших платков наподобие драпировки. Под ее защитой, в полумраке, дамы имели полную возможность устроить свой ночной туалет.
Полчаса спустя в каюте воцарилась общая тишина, нарушавшаяся только мирным храпом или носовым свистом за той или другой занавеской. Всех убаюкали равномерная качка, однообразный глухой шум пароходных колес, мягкий плеск волн в обшивку судна. Всех, кроме одного, который до самой зари ворочался с боку на бок, по временам тихонько охая про себя и вздыхая. Отчего же ему не спалось? От непривычных звуков моря или от неотвязных дум?
– Встанете вы нынче, mein Herr, или останетесь лежать? – раздался над самым ухом его чей-то голос, и кто-то потряс его за плечо.
Гоголь протер глаза и увидел перед собою знакомое уже ему лицо стюарда.
– Да разве пора вставать?
– Все пассажиры уже на палубе.
– И чай отпили?
– И чай, и кофе.
Гоголь быстро присел, но, не рассчитав вышины койки, ударился головой о потолок ее так шибко, что в глазах у него потемнело.
– Donnerwetter! – выбранился он по-немецки.
– Да, тут у нас требуется некоторая сноровка, – усмехнулся слуга, – но прежде чем вы станете одеваться, позвольте мне завинтить иллюминатор.
– Да он закрыт.
– Закрыт, но не завинчен, а на море посвежело; неравно плеснет к вам в койку.
В самом деле, в окошечко над койкой звучно хлестала волна за волной. Когда Гоголь вошел или, вернее сказать, когда его втолкнуло невидимой рукой в тесный чуланчик, именуемый уборной, и он вздумал было с прохладцей умываться, налитая им в умывальную чашку вода плеснула ему разом и в рукава, и за расстегнутую жилетку. Вот так история! Прошу покорно!
Когда затем ему подали стакан чаю, из предосторожности обернутый салфеткой, он принял уже со своей стороны меры: ради баланса пил стоя, прислонясь к дверям; однако малую толику все ж таки пролил на пол. Вот и поди ж ты!
На палубу он вскарабкался без особого труда, благодаря поручням трапа; но тут его вдруг качнуло в сторону с такой силой, что он сделал воздушный пируэт, и если бы вовремя не ухватился за ванту, то неизбежно очутился бы на коленях у вчерашней немочки-блондинки, которая с страдальческой миной примостилась на каком-то тюке, накрытом парусиной. Барышня ахнула, но вслед за тем улыбнулась – улыбнулась слабой, бледной улыбкой, как осеннее солнышко сквозь тучи. Улыбайся, милочка, не стесняйся; чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
А вон и англичанин-приказчик; чтобы ветром картуза с головы не сорвало, подвязал его себе носовым платком под подбородком – удивительно, брат, к лицу! «Як свине монисто», – сказал бы Яким. И куда это несет его? Ну, так, конечно! Балансируя на своих длинных ходулях, подбирается к блондиночке, предлагая ей свои услуги – принесть стакан лимонаду; но та, не глядя, отрицательно головой мотает и по-прежнему тоскливо устремляет свои незабудочные глазки в неопределенную даль. Молодчика же подхватило уже неудержимым движением судна и откинуло далеко в сторону: куда лезешь с неумытым рылом! Пошел вон!
Носовая часть парохода была отведена под товарный груз, между которым кое-как разместились палубные пассажиры третьего класса. Под капитанским мостиком у дымовой трубы, где менее всего качало и дуло, расположилась аристократия первого класса; корму же занимала почти исключительно буржуазия второго класса, к которой принадлежал и Гоголь.
Видя, как матросы ходят по шаткой палубе, точно по твердому грунту, ловко наклоняясь всем корпусом то туда, то сюда, сообразно наклону судна, он вздумал было по примеру их прогуляться по корме, чтобы поразмять члены; да как бы не так, черта с два! Палуба то восставала перед ним горой, то вдруг опять опускалась крутым откосом, уходила из-под ног, и он бежал вприпрыжку под гору. Того гляди, поскользнешься и растянешься. Вернее все-таки пристроиться где-нибудь у борта.
А славно тут, ей-Богу, хорошо! Вон солнце-то как высоко поднялось, точно для того, чтобы лучше обозреть своим огненным оком расстилающуюся внизу огромную картину. Где полотно, где кисти и краски, чтобы достойно передать эту необъятную ширь? Куда ни глянь – море да небо, небо да море! Но в то самое время, как в вышине лазурный небесный купол – олицетворение олимпийского покоя, внизу море, столь же чистое и прозрачное, но чудного цвета аквамарина, – сама жизнь земная, неугомонная, кипучая, на всем пространстве своем колышется и дышит. Вон от самого горизонта надвигается полоска потемнее, все ближе да ближе, растет и растет. Ого-го, как важно развернулась! Это уже не волна, а какое-то морское чудище с пенистым хребтом. «Эй вы, людишки, на вашем суденышке держитесь крепче за веревочки: неравно проглочу!» Само оно, однако, видно, сыто; вздымает только суденышко на хребте своем, обдает людишек водяною пылью и катится себе далее. А следом уже новая волна, такая же пышная, грозная; куда ни обернись – все волны да волны, одна громаднее другой, и на всех-то те же белые зайчики, гонятся один за другим и никак не нагонят. Играет море, против солнца так и сверкает расплавленным стеклом, и только за кормою далеко-далеко тянется широкая глянцевитая лента… Черт возьми, что за роскошь, невероятная, непостижимая!
Не все, впрочем, пассажиры, должно быть, подобно Гоголю, восхищались разыгравшимся морем: к обеденному столу собралось их куда менее. Чтобы посуда не скатывалась со стола, его обложили кругом рамкой; но тарелку с супом все-таки приходилось каждому балансировать в руках.
– Кушайте, господа, кушайте на здоровье, – поощрял капитан, – чем плотнее набьете чрево, тем оно будет устойчивей.
Следуя благому совету, Гоголь нагружал себя возможно плотно; но оттого ли, что он был чересчур уж усерден, оттого ли, что табурет под ним ходуном ходил, оттого ли, наконец, что висевшая над столом лампа, как маятник, раскачивалась у него перед самым носом, – как бы то ни было, куски застревали у него в горле и от собиравшейся во рту желчной слюны казались пропитанными горькою полынью. Силы небесные! Да что ж это такое?.. Изнутри подступает к самому горлу…
Не досидев, он рванулся вон из-за стола, второпях опрокинул табурет и сам, наверное, полетел бы через него, не подхвати его сосед вовремя под руку. На палубе, подобно годовалому ребенку, обучающемуся ходить от стула к стулу, он стал было пробираться вдоль борта судна от снасти к снасти на конец кормы, но еще на полпути почувствовал себя так нехорошо, что должен был наклониться через борт… Ах, как нехорошо, ай, ай…
Тут на плечо его легла рука капитана.
– А не лучше ли вам, любезнейший, улечься в постельку? – отеческим тоном предложил весельчак. – Дайте-ка, я возьму вас на буксир. Вот так. Представьте себе теперь, что мы танцуем с вами гроссфатер: вы за даму, я за кавалера.
И гроссфатер благополучно «пробуксировал» свою гроссмуттер до каюты и койки.
В койке и то как будто покойнее; но под ложечкой по-прежнему сосет и ноет. Пароходные же колеса знай работают без одышки, тяжело шумят, точно под самым изголовьем. Нелегко, небось, беднягам справиться с целым морем-океаном! Пароход кряхтит, скрипит по всем швам и нервно вздрагивает; а волны так и плещут – шлеп да шлеп – в маленькое оконце; сейчас, поди, разобьют, зальют… Уж не сам ли то старик Нептун к нему в гости жалует? Да, это он, это он со взъерошенной седой гривой стучится в стекло своей длинной зеленой ручищей: «Здорово, дружок! Чего схоронился, притаился? Все равно не уйдешь. Вспусти-ка добром; вместе спустимся в мои подводные чертоги…»
«Сгинь, старче, чур меня!»
Гоголь накрылся с головою одеялом. Но и под одеялом все те же неотвязные звуки, все так же его вместе с пароходом вскидывает, встряхивает, а в груди все ноет да ноет…
Тут перед занавеской слышатся голоса, звенят чашки: чай, разбойники, распивают, закусывают. И откуда у них еще аппетит берется, у обжор? Фу! Даже и подумать тошно.
Наконец и ночь. Все кругом опять смолкло, кроме, разумеется, самого парохода да моря.
– Доброй ночи! Приятного сна! – доносится откуда-то последнее пожелание.
Да, как же, приятного сна! Заснешь тут на этой ореховой скорлупе среди безбрежной, бездонной, бушующей пучины! У-у, какое гнетущее состояние, какая безысходная тоска! Что это, право, все только она же, эта подлая морская болезнь, или, в самом деле, аминь всему, сама смерть? Неужто же так и сойти со сцены жизни, ничего не совершив, оставив после себя только позорное пятно? Маменька, дорогая вы моя! Простите ли вы безумному сыну, что он за всю вашу любовь, беззаветную, беспредельную, отплатил самою черною неблагодарностью, чтобы убежать от собственной совести… Нет, бесславною смертью этого не исправишь, не загладишь! Надо жить – жить во что бы то ни стало. Боже, Царь Небесный! Смилуйся, дай пережить, искупить свой грех…









































