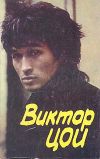Читать книгу "Точка и линия на плоскости"

Автор книги: Василий Кандинский
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Все эти науки я любил и теперь думаю с благодарностью о тех часах внутреннего подъема, а может быть, и вдохновения, которые я тогда пережил. Но часы эти бледнели при первом соприкосновении с искусством, которое только одно выводило меня за пределы времени и пространства. Никогда не дарили меня научные занятия такими переживаниями, внутренними подъемами, творческими мгновениями.
Но силы мои представлялись мне чересчур слабыми для того, чтобы признать себя вправе пренебречь другими обязанностями и начать жизнь художника, казавшуюся мне в то время безгранично счастливой. Русская же жизнь была тогда особенно мрачна, мои работы ценились, и я решился сделаться ученым. В избранной же мною политической экономии я любил, кроме рабочего вопроса, только чисто отвлеченное мышление. Практическая сторона учения о деньгах, о банковых системах отталкивала меня непреоборимо. Но приходилось считаться и с этой стороной.
К тому же времени относятся два события, наложившие печать на всю мою жизнь. Это были: французская импрессионистская выставка в Москве – и особенно «Стог сена» Клода Моне – и постановка Вагнера в Большом театре – «Лоэнгрин».
До того я был знаком только с реалистической живописью, и то почти исключительно русской, еще мальчиком глубоко впечатлялся «Не ждали», а юношей несколько раз ходил долго и внимательно изучать руку Франца Листа на репинском портрете, много раз копировал на память Христа Поленова, поражался «Веслом» Левитана и его ярко писанным отраженным в реке монастырем и т. п. И вот сразу увидел я в первый раз картину. Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это – стог сена. Эта неясность была мне неприятна: мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей. Во всем этом я не мог разобраться, а тем более был не в силах сделать из пережитого таких на мой теперешний взгляд простых выводов. Но что мне стало совершенно ясно – это не подозревавшаяся мною прежде, скрытая от меня дотоле, превзошедшая все мои смелые мечты сила палитры. Живопись открывала сказочные силы и прелесть. Но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины. В общем же во мне образовалось впечатление, что частица моей Москвы-сказки все же уже живет на холсте[18]18
«Проблема света и воздуха» импрессионистов не особенно меня занимала. Мне всегда казалось, что умные разговоры на эту тему имеют мало общего с искусством. Позже мне представлялась гораздо более значительной теория неоимпрессионистов, в конце концов оперировавшая вопросом воздействия краски и отказавшаяся от обсуждения воздуха. Все же я чувствовал сначала глухо, а потом и сознательно, что всякая теория, основанная на почве внешних средств (а таковы преимущественно теории вообще), является лишь единичным случаем, наряду с которым одновременно может существовать и много других. Еще позже я понял, что внешнее, не рожденное внутренним, мертворожденно.
[Закрыть].
«Лоэнгрин»[19]19
Лишь позже почувствовал я всю сладкую сентиментальность и поверхностную чувственность этой самой слабой оперы Вагнера. Другие же его оперы (как «Тристан», «Кольцо») еще долгие годы силою своею и самобытной выразительностью держали в плену мое чувство критики. Я нашел объективное для нее выражение в своей статье «О сценической композиции», напечатанной впервые по-немецки в 1913 г. (в «Der Blaue Reiter», изд. Р. Пипера, Мюнхен).
[Закрыть] же показался мне полным осуществлением моей сказочной Москвы. Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной. Я не решался только сказать себе, что Вагнер музыкально написал «мой час». Но совершенно стало мне ясно, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем это мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна проявить такие же силы, как музыка. И невозможность самому устремиться к отысканию этих сил была мучительна.
У меня часто не было сил вопреки всему подчинять свою волю долгу. И я поддался слишком сильному искушению.
Одна из самых важных преград на моем пути сама рушилась благодаря чисто научному событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули толстые своды. Все стало неверным, шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень поднялся на воздух и растворился в нем. Наука казалась мне уничтоженной: ее главнейшая основа была только заблуждением, ошибкой ученых, не строивших уверенной рукой камень за камнем при ясном свете божественное здание, а в потемках, наудачу и на ощупь искавших истину, в слепоте своей принимая один предмет за другой.
Уже в детские годы мне были знакомы мучительно-радостные часы внутреннего напряжения, часы внутренних сотрясений, неясного стремления, требующего повелительно чего-то еще неопределенного, днем сжимающего сердце и делающего дыхание поверхностным, наполняющего душу беспокойством, а ночью вводящего в мир фантастических снов, полных и ужаса и счастья. Помню, что рисование и несколько позже живопись вырывали меня из условий действительности, то есть ставили меня вне времени и пространства и приводили к самозабвению. Мой отец[20]20
Мой отец в течение всей моей жизни с необыкновенным терпением относился ко всем моим прихотям и перескакиваниям с одного поприща на другое. Он стремился с самого начала развивать во мне самостоятельность: когда мне не минуло еще десяти лет, он привлек самого меня, насколько это было возможно, к выбору между классической гимназией и реальным училищем. Многие долгие годы он – несмотря на свои скорее скромные средства – чрезвычайно щедро поддерживал меня материально. При моих переходах с одного пути на другой он говорил со мной как старший друг и в самых важных обстоятельствах не употреблял ни тени насилия надо мною. Принципом его воспитания было полное доверие и дружеское ко мне отношение. Он знает, как полон я благодарности к нему.
[Закрыть] рано заметил мою любовь к живописи и еще в мое гимназическое время пригласил учителя рисования. Ясно помню, как мил мне был самый материал, какими привлекательными, красивыми и живыми казались мне краски, кисти, карандаши, моя первая овальная фарфоровая палитра, позже завернутые в серебряную бумажку угольки. И даже самый запах скипидара был такой обворожительный, серьезный и строгий, запах, возбуждающий во мне и теперь какое-то особое, звучное состояние, главным элементом которого является чувство ответственности. Многие уроки, вынесенные мною из сделанных ошибок, живы во мне и нынче. Еще совсем маленьким мальчиком я раскрашивал акварелью буланку в яблоках; все уже было готово, кроме копыт. Помогавшая мне и в этом занятии тетя, которой надо было отлучиться из дому, советовала мне не трогать этих копыт без нее, а дождаться ее возвращения. Я остался один со своим неоконченным рисунком и страдал от невозможности положить последние – и такие простые – пятна на бумагу. Мне думалось, что ничего не стоит хорошенько начернить копыта. Я набрал, сколько сумел, черной краски на кисть. Один миг – и я увидел четыре черных, чуждых бумаге, отвратительных пятна на ногах лошади. Позже мне так понятен был страх импрессионистов перед черным, а еще позже мне пришлось серьезно бороться со своим внутренним страхом, прежде чем я решался положить на холст чистую черную краску. Такого рода несчастья ребенка бросают длинную, длинную тень через многие годы на последующую жизнь. И недавно еще я употреблял чистую черную краску с значительно другим чувством, чем чистые белила.
Дальнейшими, особенно сильными впечатлениями моего студенческого времени, также определенно сказывавшимися в течение многих лет, были: Рембрандт в петербургском Эрмитаже и поездка моя в Вологодскую губернию, куда я был командирован Московским обществом естествознания, антропологии и этнографии. Моя задача была двоякого рода: изучение у русского населения обычного уголовного права (изыскание в области примитивного права) и собирание остатков языческой религии у медленно вымирающих зырян, живущих преимущественно охотой и рыбной ловлей.
Рембрандт меня поразил. Основное разделение темного и светлого на две большие части, растворение тонов второго порядка в этих больших частях, слияние этих тонов в эти части, действующие двузвучием на любом расстоянии (и напомнившие мне сейчас же вагнеровские трубы), открыли передо мной совершенно новые возможности, сверхчеловеческую силу краски самой по себе, а также – с особою яркостью – повышение этой силы при помощи сопоставления, то есть по принципу противоположения. Было ясно, что каждая большая плоскость сама по себе вовсе не является сверхъестественной, что каждая из них сейчас же обнаруживает свое происхождение от палитры, но что эта самая плоскость через посредство другой, ей противоположенной плоскости получает несомненно сверхъестественную силу, так что происхождение ее от палитры на первый взгляд представляется невероятным. Но мне не было свойственно спокойно вводить замеченный прием в собственные работы. К чужим картинам я бессознательно становился так, как теперь становлюсь к природе: они вызывали во мне почтительную радость, но оставались мне все же чужими по своей индивидуальной ценности. С другой же стороны, я чувствовал довольно сознательно, что деление это у Рембрандта дает свойство его картинам, мною еще ни у кого не виданное. Получалось впечатление, что его картины длительны, а это объяснялось необходимостью продолжительно исчерпывать сначала одну часть, а потом другую. Со временем я понял, что это деление присваивает живописи элемент ей будто бы недоступный – время[21]21
Простой род употребления времени.
[Закрыть].
В писанных мною лет двенадцать, пятнадцать тому назад в Мюнхене картинах я пытался использовать этот элемент. Я написал всего три-четыре такие картины, причем мне хотелось ввести в каждую их составную часть «бесконечный» ряд от первого впечатления скрытых красочных тонов. Эти тона должны были быть первоначально (и особенно в темных частях) совершенно запрятанными[22]22
К этому времени относится моя привычка записывать отдельные являвшиеся мне мысли. Так, как бы сама собою – для меня почти незаметно – образовалась книга «О духовном в искусстве». Заметки накапливались в течение по крайней мере десяти лет. Одной из первых заметок о красочной красоте была следующая: «живописная прелесть должна с особою силой привлекать зрителя, но одновременно она призвана скрывать глубоко запрятанное содержание». Под этим разумелось живописное содержание, но не в чистой его форме (как понимаю я его теперь), а чувство или чувства художника, живописно им выражаемые. В ту пору еще живо было во мне заблуждение, что зритель идет с открытой душой навстречу картине и ищет в ней родственную ему речь. Такие зрители и на самом деле существуют (что вовсе не заблуждение), но они редки, как крупинки золота в песке. Существуют даже такие зрители, которые отдаются произведениям и черпают из произведений, независимо от того, родственен ли им по духу язык их или нет.
[Закрыть] и открываться углубившемуся, внимательному зрителю лишь со временем – вначале неясно и будто бы крадучись, а потом получать все большую и большую, все растущую, «жуткую» силу звучания. К великому моему изумлению, я заметил, что пишу в принципе Рембрандта. Горькое разочарование, болезненные сомнения в собственных силах, в особенности сомнения найти свои средства выражения охватили меня. Вскоре мне представились также и слишком дешевыми способы подобного воплощения моих в ту пору любимых элементов скрытого времени, жутко таинственного.
В ту пору я работал особенно много, часто до глубокой ночи, пока не овладевала мною усталость до физической тошноты. Дни, когда мне не удавалось работать (как бы редки они ни были), казались мне потерянными, легкомысленно и безумно растраченными. При мало-мальски сносной погоде я ежедневно писал этюды в старом Швабинге, тогда еще не слившемся вполне с городом. В дни разочарования в работе в мастерской и в композиционных попытках я писал особенно упорно пейзажи, волновавшие меня, как неприятель перед сражением, в конце концов бравший надо мною верх: редко удовлетворяли меня мои этюды даже частично, хотя я иногда и пытался выжать из них здоровый сок в форме картин. Все же блуждание с этюдником в руках, с чувством охотника в сердце казалось мне менее ответственным, нежели картинные мои попытки, уже и тогда носившие характер – частью сознательный, частью бессознательный – поисков в области композиции. Самое слово композиция вызывало во мне внутреннюю вибрацию. Впоследствии я поставил себе целью моей жизни написать «Композицию». В неясных мечтах неуловимыми обрывками рисовалось передо мною подчас что-то неопределенное, временами пугавшее меня своею смелостью. Иногда мне снились стройные картины, оставлявшие по себе при пробуждении только неясный след несущественных подробностей. Раз в жару тифа я видел с большою ясностью целую картину, которая, однако, как-то рассыпалась во мне, когда я выздоровел. Через несколько лет, в разные промежутки, я написал «Приезд купцов», потом «Пеструю жизнь», и, наконец, через много лет в «Композиции 2» мне удалось выразить самое существенное этого бредового видения, что я сознал, однако, лишь недавно. С самого начала уже одно слово «композиция» звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением. И до сих пор я испытываю боль, когда вижу, как легкомысленно зачастую с ним обращаются. При писании этюдов я давал себе полную волю, подчиняясь даже «капризам» внутреннего голоса. Шпахтелем я наносил на холст штрихи и шлепки, мало думая о домах и деревьях и поднимая звучность отдельных красок, насколько сил хватало. Во мне звучал предвечерний московский час, а перед моими глазами развертывалась могучая, красочная, в тенях глубоко грохочущая скала мюнхенского цветового мира. Потом, особенно по возвращении домой, глубокое разочарование. Краски мои казались мне слабыми, плоскими, весь этюд – неудачным усилием передать силу природы. Как странно было мне слышать, что я утрирую природные краски, что эта утрировка делает мои вещи непонятными и что единственным моим спасением было бы научиться «преломлению тонов». Это было время увлечения рисунком Каррьера и живописью Уистлера. Я часто сомневался в своем «понимании» искусства, старался даже насильственно убедить себя, заставить себя полюбить этих художников. Но туманность, болезненность и какое-то сладковатое бессилие этого искусства снова меня отталкивали, и я снова уходил к своим мечтам звучности, полноты «хора красок», а со временем и композиционной сложности. Мюнхенская критика (частью, и особенно при моих дебютах, относившаяся ко мне благосклонно)[23]23
И теперь признают многие критики дарование за моими старыми картинами, что и служит в большинстве случаев отличным доказательством их слабости. В позднейших, и в частности в последних, они усматривают заблуждение, тупик, падение моей живописи, а часто и обман, что и служит в большинстве случаев отличным доказательством все увеличивающейся силы этих картин. Опытность и годы развивают безразличие к этого рода оценкам. Там и здесь прорывающиеся хвалебные гимны моей живописи (которым суждено звучать все громче) уже лишены силы волновать меня, как это было во время моих дебютов: художественная критика газет и даже журналов никогда не создавала «общественного мнения», а всегда создавалась им. А именно это-то мнение достигает ушей художника значительно раньше газетных столбцов. Но, думается мне, и само это мнение с твердостью и определенностью угадывается самим художником задолго до его образования. В какую бы сторону ни ошибались вначале (а иногда в течение многих, многих лет) и это мнение, и создаваемая им критическая оценка, художник в общем всегда знает в пору своей зрелости цену своему искусству. И ужасна должна быть художнику не внешняя его недооценка, а внешняя его переоценка.
[Закрыть] объясняла мое «красочное богатство» «византийскими влияниями». Русская же критика (почти без исключения осыпавшая меня непарламентскими выражениями) находила либо что я преподношу России западно-европейские (и там уже даже устарелые) ценности в разбавленном виде; либо что я погибаю под вредным мюнхенским влиянием. Тогда я впервые увидел, с каким легкомыслием, незнанием и беззастенчивостью оперируют большинство критиков. Это обстоятельство служит объяснением тому хладнокровию, с которым выслушивают самые злостные о себе отзывы умные художники.
Склонность к «скрытому», к «запрятанному» помогла мне уйти от вредной стороны народного искусства, которое мне впервые удалось увидеть в его естественной среде и на собственной его почве во время моей поездки в Вологодскую губернию. Охваченный чувством, что еду на какую-то другую планету, проехал я сначала по железной дороге до Вологды, потом несколько дней по спокойной, самоуглубленной Сухоне на пароходе до Усть-Сысольска, дальнейший же путь пришлось совершить в тарантасе через бесконечные леса, между пестрых холмов, через болота, пески и отшибающим с непривычки внутренности «волоком». То, что я ехал совсем один, давало мне неизмеримую возможность беспрепятственно углубляться в окружающее и в самого себя. Днем было часто жгуче жарко, а почти беззакатными ночами так холодно, что даже тулуп, валенки и зырянская шапка, которые я получил на дорогу через посредство Н. А. Иваницкого[24]24
Благородный отшельник города Кадникова, секретарь земской управы, не встречавший интереса в России и печатаемый в Германии ботаник и зоолог, автор серьезных этнографических изысканий и… организатор земской эксплуатации роговых кустарных изделий, выхваченных им из беспощадных рук скупщиков. Впоследствии Н. А. было предложено интересное и выгодное положение в Москве, но он в последнюю минуту отказался: у него не было духу покинуть свое скромное внешне и такое значительное внутренне дело. Во время этой поездки мне не раз случалось встречать одиноких и действительно самоотверженных делателей будущей России, счастливой уже и этой стороной в пестрой ее сложности. Среди них не последнее место занимали сельские священники.
[Закрыть], подчас оказывались не вполне достаточными, и я с теплым сердцем вспоминаю, как ямщики иногда вновь покрывали меня съехавшим с меня во сне пледом. Я въезжал в деревни, где население с желто-серыми лицами и волосами ходило с головы до ног в желто-серых же одеждах или белолицое, румяное с черными волосами было одето так пестро и ярко, что казалось подвижными двуногими картинами. Никогда не изгладятся из памяти большие, двухэтажные, резные избы с блестящим самоваром в окне. Этот самовар был здесь не предметом «роскоши», а первой необходимостью: в некоторых местностях население питалось почти исключительно чаем (иван-чаем), не считая ясного, или яшного (овсяного), хлеба, не поддающегося охотно ни зубам, ни желудку, – все население ходило там со вздутыми животами. В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лубки: символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. Красный угол, весь завешанный писаными и печатными образами, а перед ними красно теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающая, про себя живущая, таинственно шепчущая скромная и гордая звезда. Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. С тех пор это чувство жило во мне бессознательно, хотя я и переживал его в московских церквах, а особенно в Успенском соборе и Василии Блаженном. По возвращении из этой поездки я стал определенно сознавать его при посещении русских живописных церквей, а позже и баварских и тирольских капелл. Разумеется, внутренне эти переживания окрашивались совершенно друг от друга различно, так как и вызывающие их источники так различно друг от друга окрашены: Церковь! Русская церковь! Капелла! Католическая капелла!
Я часто зарисовывал эти орнаменты, никогда не расплывавшиеся в мелочах и писанные с такой силой, что самый предмет в них растворялся. Так же как и некоторые другие, и это впечатление дошло до моего сознания гораздо позже.
Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве. Несколько лет занимало меня искание средств для введения зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся.
Иногда мне это удавалось: я видел это по лицу некоторых зрителей. Из бессознательно-нарочитого воздействия живописи на расписанный предмет, который получает таким путем способность к саморастворению, постепенно все больше вырабатывалась моя способность не замечать предмета в картине, его, так сказать, прозевывать. Гораздо позже, уже в Мюнхене, я был однажды очарован в собственной моей мастерской неожиданным зрелищем. Сумерки надвигались. Я возвращался домой с этюда, еще углубленный в свою работу и в мечты о том, как следовало бы работать, когда вдруг увидел перед собой неописуемо прекрасную, пропитанную внутренним горением картину. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом приблизился к этой загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и состоявшей исключительно из красочных пятен. И ключ к загадке был найден: это была моя собственная картина, прислоненная к стене и стоявшая на боку. Попытка на другой день при дневном свете вызвать то же впечатление удалась только наполовину: хотя картина стояла так же на боку, но я сейчас же различал на ней предметы, не хватало также и тонкой лессировки сумерек. В общем, мне стало в этот день бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам.
Страшная глубина, ответственная полнота самых разнообразных вопросов встала передо мной. И самый главный: в чем должен найти замену отринутый предмет? Опасность орнаментности была мне ясна, мертвая обманная жизнь стилизованных форм была мне противна.
Часто я закрывал глаза на эти вопросы. Иногда мне казалось, что эти вопросы толкают меня на ложный, опасный путь. И лишь через много лет упорной работы, многочисленных осторожных подходов, все новых бессознательных, полусознательных и все более ясных и желанных переживаний, при все развивавшейся способности внутренне переживать художественные формы в их все более и более чистой, отвлеченной форме, пришел я к тем художественным формам, над которыми и которыми я теперь работаю и которые, как я надеюсь, получат еще гораздо более совершенный вид.
Очень много потребовалось времени, прежде чем я нашел верный ответ на вопрос: чем должен быть заменен предмет? Часто, оглядываясь на свое прошлое, я с отчаянием вижу длинный ряд лет, потребовавшихся на это решение. Тут я знаю только одно утешение: никогда я не был в силах применять формы, возникавшие во мне путем логического размышления, не путем чувства. Я не умел выдумывать форм, и видеть чисто головные формы мне мучительно. Все формы, когда бы то ни было мною употребленные, приходили ко мне «сами собою»: они то становились перед глазами моими совершенно готовыми – мне оставалось их копировать, – то они образовывались в счастливые часы уже в течение самой работы. Иногда они долго и упорно не давались, и мне приходилось терпеливо, а нередко и со страхом в душе дожидаться, пока они созреют во мне. Эти внутренние созревания не поддаются наблюдению: они таинственны и зависят от скрытых причин. Только как бы на поверхности души чувствуется неясное внутреннее брожение, особое напряжение внутренних сил, все яснее предсказывающее наступление счастливого часа, который длится то мгновения, то целые дни. Я думаю, что этот душевный процесс оплодотворения, созревания плода, потуг и рождения вполне соответствует физическому процессу зарождения и рождения человека. Быть может, так же рождаются и миры.
Но как по силе напряжения, так и по его качеству эти «подъемы» весьма разнообразны. Лишь опыт может научить их свойствам и способам их использования. Мне пришлось тренироваться в умении держать себя на вожжах, не давать себе безудержного хода, править этими силами. С годами я понял, что работа с лихорадочно бьющимся сердцем, с давлением в груди (а отсюда и с болью в ребрах), с напряжением всего тела не дает безукоризненных результатов: за таким подъемом, во время которого чувство самоконтроля и самокритики минутами даже вовсе исчезает, следует неминуемо скорое падение. Такое утрированное состояние может продолжаться в лучшем случае несколько часов, его может хватить на небольшую работу (оно отлично эксплуатируется для эскизов или тех небольших вещей, которые я называю «импровизациями»), но его ни в каком случае не достаточно для больших работ, требующих подъема ровного, напряжения упорного и не ослабевающего в течение целых дней. Лошадь несет всадника со стремительностью и силой. Но всадник правит лошадью. Талант возносит художника на высокие высоты со стремительностью и силой. Но художник правит талантом. Быть может, с другой стороны, – только частично и случайно – художник в состоянии вызывать в себе искусственно эти подъемы. Но ему дано квалифицировать род наступающего помимо его воли подъема, опыт многих лет дает возможность как задержать в себе такие моменты, так временно совершенно подавить их, с тем чтобы они почти наверное наступили позже. Но полная точность, разумеется, невозможна и здесь. Все-таки относящиеся к этой области опыт и знание являются одним из элементов «сознательности», «расчета» в работе, которые могут быть обозначены и другими именами. Несомненно, что художник должен знать свое дарование до тонкости и, как хороший купец, не давать залеживаться ни крупинке своих сил. Каждую их частицу он шлифует и оттачивает до той последней возможности, которая определена ему судьбою[25]25
Часто обсуждаемая нервность, наследие XIX века, породившая целый ряд небольших, хотя и прекрасных произведений во всех областях искусства и не давшая почти ни одного большого и внутренне и внешне, надо думать, уже на исходе. Мне кажется, что время новой внутренней определенности, духовного «знания», становится все ближе, а оно-то только и может дать художникам всех искусств то необходимое длительное напряжение в равновесии, ту уверенность, ту силу над самим собою, которые являются необходимой, лучшей, неизбежной почвой для произведений большой внутренней сложности и глубины.
[Закрыть].
Эта выработка, шлифовка дарования требует значительной способности к концентрации, ведущей, с другой стороны, к ущербу других способностей. Это мне пришлось испытать и на себе. Я никогда не обладал так называемой хорошей памятью: с самого детства не было у меня способности запоминать цифры, имена, даже стихи. Таблица умножения была истинным мучением не только для меня, но и для моего приходившего в отчаяние учителя. Я и до сих пор не победил этой непобедимой трудности и навсегда отказался от этого знания. Но в то время, когда еще было можно заставлять меня набираться ненужных мне знаний, моим единственным спасением была память зрения. Насколько хватало моих технических знаний, я мог вследствие этой памяти еще в ранней юности записывать дома красками картины, особенно поразившие меня на выставке. Позже пейзажи, писанные по воспоминанию, удавались мне иногда больше, нежели писанные прямо с натуры. Так я написал «Старый Город», а потом целый ряд немецких, голландских, арабских темперных рисунков.
Несколько лет тому назад совершенно неожиданно я заметил, что эта способность пошла на убыль. Вскоре я понял, что нужные для постоянного наблюдения силы направились – вследствие повысившейся способности к сосредоточению – на другой путь, ставший для меня гораздо более важным, необходимым. Способность углубления во внутреннюю жизнь искусства (а стало быть, и моей души) настолько увеличилась в силе, что я проходил подчас мимо внешних явлений, не замечая их, что прежде было совершенно невозможно.
Насколько я могу судить, сам эту способность к углублению я не навязал себе извне – она жила во мне и до того органической, хотя и эмбриональной жизнью. А тут просто пришла ее пора, и она стала развиваться, требуя и моей помощи упражнениями.
Лет тринадцати или четырнадцати на накопленные деньги я наконец купил себе небольшой полированный ящик с масляными красками. И до сегодня меня не покинуло впечатление, точнее говоря, переживание, рождаемое из тюбика выходящей краской. Стоит надавить пальцами – и торжественно, звучно, задумчиво, мечтательно, самоуглубленно, глубоко серьезно, с кипучей шаловливостью, со вздохом облегчения, со сдержанным звучанием печали, с надменной силой и упорством, с настойчивым самообладанием, с колеблющейся ненадежностью равновесия выходят друг за другом эти странные существа, называемые красками, – живые сами в себе, самостоятельные, одаренные всеми необходимыми свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни и каждый миг готовые подчиниться новым сочетаниям, смешаться друг с другом и создавать нескончаемое число новых миров. Некоторые из них, уже утомленные, ослабевшие, отвердевшие, лежат тут же подобно мертвым силам и живым воспоминаниям о былых, судьбою не допущенных возможностях. Как в борьбе или сражении, выходят из тюбиков свежие, призванные заменить собою старые ушедшие силы. Посреди палитры особый мир остатков уже пошедших в дело красок, блуждающих на холстах, в необходимых воплощениях, вдали от первоначального своего источника. Это – мир, возникший из остатков уже написанных картин, а также определенный и созданный случайностями, загадочной игрой чуждых художнику сил. Этим случайностям я обязан многим: они научили меня вещам, которых не услышать ни от какого учителя или мастера. Нередкими часами я рассматривал их с удивлением и любовью. Временами мне чудилось, что кисть, непреклонной волей вырывающая краски из этих живых красочных существ, порождала особое музыкальное звучание. Мне слышалось иногда шипение смешиваемых красок. Это было похоже на то, что можно было, наверное, испытывать в таинственной лаборатории полного тайны алхимика.
Как-то мне довелось услышать, что один известный художник (не помню, кто именно) выразился так: «Когда пишешь, то на один взгляд на холст должно приходиться полвзгляда на палитру и десять взглядов на натуру». Это было красиво сказано, но мне скоро стало ясно, что для меня эта пропорция должна быть другой: десять взглядов на холст, один на палитру, полвзгляда на натуру. Именно так выучился я борьбе с холстом, понял его враждебное упорство в отношении к моей мечте и наловчился насильственно его этой мечте подчинять. Постепенно я выучился не видеть этого белого, упорного, упрямого тона холста (или лишь на мгновение заметить его для контроля), а видеть вместо него те тона, которым суждено его заменить, так в постепенности и медленности выучивался я то тому, то другому.
Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовется произведением[26]26
В противоположность немецкому, французскому, английскому короткому слову это длинное русское слово как бы отпечатлело в себе всю историю произведения – длинную и сложную, таинственную и с призвуками «божественной» предопределенности.
[Закрыть]. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, – оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание.
Так сделались внутренними событиями душевной жизни эти впечатления от красок на палитре, а также и тех, которые еще живут в тюбиках, подобные могущественным внутренне и скромным на вид людям, внезапно в нужде открывающим эти до того скрытые силы и пускающим их в ход. Эти переживания сделались со временем точкой исхода мыслей и идей, дошедших до моего сознания уже, по крайней мере, лет пятнадцать тому назад. Я записывал случайные переживания и лишь позже заметил, что все они стояли в органической связи между собою. Мне становилось все яснее, я все с большею силой чувствовал, что центр тяжести искусства лежит не в области «формального», но исключительно во внутреннем стремлении (содержании), повелительно подчиняющем себе формальное. Мне нелегко было отказаться от привычного взгляда на первенствующее значение стиля, эпохи, формальной теории и душою признать, что качество произведения искусства зависит не от степени выраженного в нем формального духа времени, не от соответствия его признанному безошибочным в известный период учению о форме, а совершенно безотносительно от степени силы внутреннего желания (= содержания) художника и от высоты выбранных им и именно ему нужных форм. Мне стало ясно, что, между прочим, и самый «дух времени» в вопросах формальных создается именно и исключительно этими полнозвучными художниками – «личностями», которые подчиняют своей убедительностью не только современников, обладающих менее интенсивным содержанием или только внешним дарованием (без внутреннего содержания), но и поколениями веками позже живущих художников. Еще один шаг – потребовавший, однако, так много времени, что мне совестно об этом думать, – и я пришел к выводу, что весь основной смысл вопроса об искусстве разрешается только на базисе внутренней необходимости, обладающей жуткой силой вмиг перевернуть вверх дном все известные теоретические законы и границы. И только в последние годы я научился наконец с любовью и радостью наслаждаться «враждебным» моему личному искусству «реалистическим» искусством и безразлично и холодно проходить мимо «совершенных по форме» произведений, как будто родственных мне по духу. Но теперь я знаю, что «совершенство» это только видимое, быстротечное и что не может быть совершенной формы без совершенного содержания: дух определяет материю, а не наоборот. Обвороженный по неопытности глаз скоро остывает, а временно обманутая душа скоро отворачивается. Предложенное мною мерило обладает той слабой стороной, что оно – «бездоказательно» (особенно в глазах тех, кто лишен сам не только активного, творческого, но и пассивного содержания, то есть в глазах обреченных оставаться на поверхности формы, неспособных углубляться в неизмеримость содержания). Но великое Помело Истории, сметающее сор внешности с духа внутреннего, явится и тут последним, неумытным судьей[27]27
В наших современниках еще так силен принцип l’art pour l’art в его поверхностном смысле, душа их еще так засорена этим «как» в искусстве, что они способны верить ходовому теперь утверждению: природа есть только предлог для выражения художественного, сама по себе она не существенна в искусстве. Именно только привычка поверхностного переживания формы могла до такой степени заглушить душу, что она может не слышать звучания какого-нибудь, хотя бы и второстепенного, элемента в произведении. Мне кажется, что благодаря уже наступившему внутреннему – душевному перевороту нашей совершенно особенной эпохи скоро это поистине «безбожное» отношение к искусству если и не изменится во всем своем объеме, то есть в массе художников и «публики», то все же перейдет на более и в этой массе здоровую почву. У многих же проснется их живая и лишь временно приглушенная душа. Развитие душевной восприимчивости и смелости в собственных переживаниях – главнейшие, неизбежные к тому условия. Этому сложному вопросу я посвятил жестко-определенную статью «О форме в искусстве» в «Der Blaue Reiter».
[Закрыть].
Так постепенно мир искусства отделялся во мне от мира природы, пока наконец оба мира не приобрели полную независимость друг от друга.
Тут мне вспоминается один эпизод из моего прошлого, бывший источником моих мучений. Когда, будто вторично рожденный, я приехал из Москвы в Мюнхен, чувствуя вынужденный труд за спиной своей и видя перед лицом своим труд радости, то вскоре уже натолкнулся на ограничение своей свободы, сделавшее меня хотя только временно и с новым обликом, но все же опять-таки рабом, – работа с модели. Я увидел себя в знаменитой в ту пору, битком набитой школе живописи Антона Ашбе[28]28
Антон Ашбе, славянин по происхождению, был даровитым художником и человеком редких душевных качеств. Многие из его бесчисленных учеников учились у него безвозмездно. На просьбу поработать у него даром он неизменно отвечал: «Работайте, только как можно больше!» Его личная жизнь была, вероятно, очень несчастной. Можно было слышать, но не видеть его смеющимся: губы его в смехе только немножко раздвигались, глаза оставались печальными. Не знаю, известна ли кому-нибудь тайна его жизни. А смерть его была так же одинока, как и жизнь: он умер совершенно один в своей мастерской. Несмотря на его очень крупный заработок, после него осталось всего несколько тысяч марок. Вся мера его щедрости открылась только по его смерти.
[Закрыть]. Две, три «модели» позировали для головы и для нагого тела. Ученики и ученицы из разных стран теснились около этих дурнопахнущих, безучастных, лишенных выразительности, а часто и характера, получающих в час от 50 до 70 пфеннигов явлений природы, покрывали осторожно, с тихим, шипящим звуком штрихами и пятнами бумагу и холст и стремились возможно точно воспроизвести анатомически, конструктивно и характерно этих им чуждых людей. Они старались пересечением линий отметить расположение мускулов, особыми штрихами и плоскостями передать лепку ноздри, губы, построить всю голову «в принципе шара» и не задумывались, как мне казалось, ни минуты над искусством. Игра линий нагого тела иногда очень меня интересовала. Подчас она меня отталкивала. Некоторые позы некоторых тел развивали противное мне выражение линий, и мне приходилось копировать его, насилуя себя. Я жил в почти непрерывной борьбе с собою. Только выйдя опять на улицу, вздыхал я снова свободно и нередко поддавался искушению «удрать» из школы, чтобы побродить с этюдником и по-своему отдаться природе на окраинах города, в его садах или на берегах Изара. Иногда я оставался дома и пытался на память, либо по этюду, либо просто отдаваясь своим фантазиям, иногда порядочно-таки уклонявшимся от «натуры», написать что-нибудь по своему вкусу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!



![Книга ТОЧКА РОСЫ [версия 1.1] автора Джо Смит](/books_files/covers/thumbs_100/tochka-rosy-versiya-11-242051.jpg)