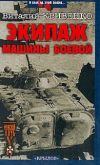Текст книги "В министерстве двора. Воспоминания"
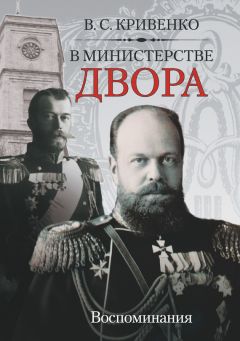
Автор книги: Василий Кривенко
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Звякнул почтовый колокольчик, и тройка покатила дальше; густая пыль, поднявшись столбом, сразу окутала нас и отделила от фургона и тарантаса. Домой, скорей домой!
Через десять дней утомительного путешествия на перекладных мы подъезжали к той кавказской крепостце, где мы родились и где теперь ждала нас мать. Здесь пролетело наше беззаботное детство до отъезда в корпус. Нам казалось, что на родине все нас приветствует: и зеленые горы, и синеющее вдали море, и встречающиеся по дороге горцы, и солдаты с белыми погонами. Когда, наконец, показались башни родного укрепления, а вскоре из-за холма выглянули беленькие дома с глиняными крышами, а за ними широко раскинулись далеко уходящие вдаль роскошные сады, – мое сердце сильно застучало, и я готовь был разрыдаться. Ямщик-татарин гаркнул на лошадей, и почтовая тройка лихо подкатила к воротам нашего дома, откуда уже все выскочили встречать дорогих гостей. Мы бросились к похудевшей и начавшей уже седеть матери и осыпали ее поцелуями. Растроганная мать радостно ласкала нас и все повторяла: «как вы выросли, переменились!..».
Мне хотелось многое, многое сказать матери, но в то же время также неудержимо влекло осмотреть дом, сад… Через час по приезде я уже обегал всюду и счастливый и довольный сидел за обеденным столом.
Домашние блюда мне казались верхом совершенства, и я, не жалея черных красок, описывал незавидную корпусную еду.
И понеслось каникулярное время.
После каникул старшие мои братья уехали в Петербург в военное училище, и я остался в корпусе совсем одиноким. Как-то в одно из воскресений меня позвали в приемную, где ждал Николай Федорович, которого я не видал уже около года.
– Представь, каждое воскресенье собираюсь к тебе, да все что-либо мешало; а сегодня ехали мимо корпуса с Лидой, вспомнили о тебе, а она приказала мне привезти тебя к ним обедать!
– Кто это Лида?
– Да дочь Ждановича, единственная наследница и шестнадцатилетняя брюнетка. Этакое невезенье, вообрази, приходится мне кузиной!
А то бы… – И Николай Федорович так победоносно взглянул, что нельзя было сомневаться в его уверенности в победе над сердцем девушки.
Идти в гости мне казалось удивительно страшным, и я сталь отказываться. Но с Николаем Федоровичем нелегко было в таких случаях справиться, и он, забывавший меня в течение года, невольно свидевшись со мной, проникся нежностью и уверял меня, что будет приходить ко мне во все приемные дни, принесет мне новые журналы и достанет билеты в любительский спектакль. Наконец я сдался, и мы с ним отправились к Ждановичам.
Это было очень состоятельное семейство, переехавшее в первый раз еще из деревни на зиму в город вывозить дочь. Отец, очень суровый и необщительный человек, однако, души не чаял в дочке, которая умела, хотя и не всегда, справляться с ним. Мать, болезненная, кроткая женщина, не могла еще осилить горя об умершем года два тому назад единственном сыне, уже офицере.
Лида заметила нас из окна и встретила в передней. Из соседней комнаты слышались звуки вальса. Еле я успел снять пальто и неловко, конфузясь, поклониться девушке, как она подхватила меня и заставила влететь в гостиную вальсом. Розовенькое, смеющееся личико, черные глаза и вообще вся хорошенькая фигурка сразу произвели на меня, затворника, одуряющее впечатление.
Я, ни за что не соглашавшийся на корпусном вечере войти в танцевальную залу, удивлялся, как это так свободно танцую с барышней. Меня оставили обедать, и я вернулся в корпус в восторженном состоянии.
Старик Жданович пригласил меня бывать у них, и я этим воспользовался, явившись на следующее же воскресенье. Плутовка Лида подметила мое к ней неравнодушие и слегка кокетничала со мной; правда, я был единственным кавалером.
Перед знакомством с Ждановичем я довольно близко сошелся с кадетом Сонимским, недавно переведенным из Московского корпуса. Он любил Вальтера Скотта и, обладая изумительною памятью, рассказывал исторические романы с мельчайшими подробностями. Бывало, на гулянье возьмет меня под руку и ровным голосом, с небольшим откашливаньем в течение часа пересказывает мне разнообразные рыцарские приключения, пока барабан не ударит сбор; тогда он замолкал, точно захлопнутая книга, и прибавлял: «продолжение до следующего номера», и я с нетерпением ждал этого продолжения. Но теперь меня не тешили чужие романы, мне хотелось говорить о своей героине, и я расписывал Лиду самыми яркими красками, оделял ее наилучшими благороднейшими стремлениями. И мне было хорошо. Все казалось таким живым, светлым в Божьем мире.
Лида любила танцы и хотела во что бы то ни было танцевать, а ее никуда не вывозили. Старик Жданович скучал по деревне, бранил город и никак не мог собраться выехать с визитами. Жена его чувствовала себя все нехорошо и тоже никуда не выходила. Таким образом, с переездом в город развлечений у барышни не прибавилось, а главное, не было кавалеров. При таких обстоятельствах и кадет был желанным гостем, тем более что он смотрел влюбленными глазами и торопился исполнять все ее поручения.
Прошел месяц. Лида делала мне глазки, позволяла целовать кончики розовых пальчиков и вздыхать, вздыхать!.. Я был на седьмом небе и мечтал, что такое блаженное состояние продолжится вечно. Приближался Николин день, который знаменовался всегда большим балом в институте, куда приглашалось самое избранное местное дамское общество, а для танцев – кадеты. Я раньше никогда не был на этом балу, но слышал многое от моего товарища, сына директрисы, и рассказывал Лидии о предстоящем веселом торжестве. Она захотела во что бы то ни стало попасть туда и пристала с этим и к матери, и к отцу. Мне лично не очень улыбалась перспектива ее выезда. Как бы хорошо, думалось мне, не нарушать заведенного порядка и быть подальше от других, от усатых кавалеров, от возможных соперников.
Ждановичи не знали никого из институтской администрации и, следовательно, попасть на бал было нельзя. Лида страшно огорчилась и, вбежав в свою беленькую комнатку, бросилась на диван, уткнулась в подушку и горько расплакалась.
Мне стало невыразимо жаль это маленькое, хорошенькое создание, и я решил утешить ее.
– Лида, не плачьте. Вы будете танцевать на балу, я вам это устрою. Клянусь!
Кудрявая головка немного приподнялась, на меня глянули недоверчиво большие заплаканные глаза, и улыбка заиграла на осветившемся личике.
И я устроил. Устроил через сына директрисы, своего товарища.
От корпуса назначили на бал целый отряд – шестьдесят человек. Те из кадет, которые имели деньги, покупали новые перчатки, духи, помаду; неимущие сами в кадетском рукомойнике мыли перчатки, выжимали их в полотенце и сушили за форточкой; бегали «на перевязку» в лазарет за репейным маслом для волос или просили у товарищей «один раз колупнуть» в помадной банке.
В шесть часов вечера уже все кадеты были готовы. Лицо и руки по нескольку раз вымыты яичным мылом; волосы припомажены, пуговицы и сапоги вычищены до предела возможности. Некоторые шикари – в собственных мундирах с офицерскими петлицами, с крахмальными выставленными воротничками и манжетами. Вкус наш неприхотлив, и нам кажется, что они хорошо одеты.
С нами едут несколько воспитателей. Один из них, недавно назначенный, конно-артиллерист фон Драншем, очень видный брюнет, с лихо расправленными бакенбардами, с капитанскими, несмотря на поручичий чин, эполетами и также с высокими воротничками и толстой часовой цепочкой.
Драншем ходит как-то по-балетному развертывая носки. Кадетам нравится эта походка, нравится его бравая фигура, и ему подражают. Стараются так же, как он, откидывать назад голову, так же держать правую руку между второй и третьей пуговицей мундира, так же по-балетному ходить и отстукивать каблуками в мазурке.
Мы собираемся в институтской приемной и по проезде директора поднимаемся вверх. Кадеты первые гости. Лестница убрана цветами, пахнет духами, сверху слышится, как воспитанниц сдержанными окриками гоняют в зал, не дают взглянуть на поднимающуюся вереницу кавалеров.
Седой директор и воспитатели бесстрашно двигаются вперед, а у некоторых кадет от непривычной обстановки и предстоящих танцев «с дамами» душа в пятки уходит. Они обдергиваются, стараются взглянуть в зеркало, взбить волоса на висках и выровнять пробор.
На верхней площадке нас встречает величавая начальница и окидывает всех зорким испытующим взглядом. Мы неловко кланяемся, и не зная, куда деть руки, толчемся в коридоре, а из дверей залы на нас с любопытством уставились оживленные личики воспитанниц. Сборный оркестр, составленный из двадцати еврейчиков, настраивает свои инструменты. Место дирижера занимает наш регент и учитель музыки Кальченко. Приятно видеть знакомое лицо, и мы, чуть не все, обращаемся к нему с различными вопросами.
Приглашенные мало-помалу собираются. Оркестр сыграл польский и перешел на вальс. Начальство вошло в залу, институтки расселись по стенкам в ожидании блаженного момента; громадный зал с вылощенным, как зеркало, полом пугает кадет, столпившихся у двери и нервно натягивающих давно уже одетые перчатки. Воспитатели ободряют танцоров. Долее ждать нельзя, и вот два более храбрые, сбивая по дороге друг друга, подходят к ближайшим воспитанницам, заранее уже с блаженными улыбками приподнявшимся навстречу кавалерам. Понеслись первые две пары, а за ними через минуту по зале завертелись десятки кадет и институток. Появилось несколько фраков, офицерских мундиров и шлейфов. Кальченко неустанно машет рукой, еврейские скрипки заливаются и всхлипывают, контрабас мерно гудит, а пары все носятся и носятся по залу…
Танцуют еще и в трех классных комнатах, откуда вынесена вся мебель. Здесь прыгают воспитанницы младших классов и те из кадет, кому страшно идти в большую залу. Музыка сюда плохо долетает, но это не мешает оживлению.
Лакеи разносили конфеты и фрукты, но держали подносы или высоко, или так стремительно проходили, что полакомиться мог лишь особо настойчивый кадет.
Перед кадрилью я встретился в коридоре с сияющей Лидой; она была в белом платье, убранном цветами. Не знаю, как другим, но мне она показалась положительной красавицей и недосягаемой. Первая кадриль заранее была мне обещана. Послышался ритурнель. Лида оперлась на мою руку, и я, не слыша под собою ног, горделиво вошел в залу. Визави мой, однако, не являлся; видимо, он струсил и забился в одну из классных комнат. Меня это нисколько не огорчало, и я с удовольствием променял бы кадриль на беседу tête à tête[106]106
с глазу на глаз (франц.)
[Закрыть] в коридоре; но моя дама была не того мнения и приказывала мне разыскать визави. Фон Драншем, стоявший недалеко и присматривавшийся к Лиде, услышал, в чем дело, приказал мне представить его ей и предложил свои услуги в качестве визави.
По мере того, как одна фигура сменялась другою, я чувствовал, что Лида уходит от меня все дальше и дальше… Она не спускала глаз с ловкого конно-артиллериста, который, позванивая шпорами, молодцевато проделывал балансе и шены.
На моих глазах, в течение четверти часа деревенская беззаботная барышня без боя сдалась и впорхнула в клетку на всю жизнь.
Ревность клокотала в моей груди, а поручик торжествовал, и я слышал, как ему обещали и вторую кадриль, и мазурку.
Какая неблагодарность! Я же ее сам сюда пригласил, и теперь казнись. И виной, думалось мне, визави Юневич. Какое он имел право не явиться в зал!!
Оркестр гремел вновь кадриль. Я увидел, как Лида оживленно беседовала с фон Драншемом, не мог оставаться в зале и пошел искать Юневича, собираясь с яростью обрушиться на него. Он действительно забился в последнюю комнату, но не один, а с прехорошенькой с пепельно вьющимися волосами институткой Задонской. Она конфузливо слушала его, а он с увлечением доказывал ей что-то. Так вот что заставило его уклониться от визави! Я подошел ближе и услышал, что он расписывал ей прелести нашего корпусного стола.
Юневич с одушевлением перечислял наши блюда, а барышня краснела.
– Я бы очень хотела попробовать кадетских блюд, – послышался мне робкий голос институтки.
– Завтра же пришлю вам целую корзину наших пирогов.
– Что вы, что вы?! Разве это можно!!
– Да уж пришлю. Скажу, что… Ну, там выдумаю что-нибудь.
– Откуда же вы возьмете пироги?
– Откуда?? Господи, да для вас весь корпус отдаст все свои порции.
– Какой вы, право, смешной… А знаете, сюда, наверное, придет Анна Карловна и разбранит меня, отчего я не танцую, а разговариваю здесь с вами.
– Неужели вы так боитесь выговора, а я-то думал…
– Что вы думали? Скажите скорей!.. Только не громко. – Но ответ мне не удалось услышать: в эту же комнату, вероятно, в поисках за уединением, вошел Драншем под руку с Лидой. Я не успел совладать с собой, кровь бросилась в голову, и я хотел незаметно проскользнуть в коридор, но Лида меня заприметила, подозвала к себе и попросила разыскать внизу ее человека и принести ей sortie de bal[107]107
накидка на вечернее платье (франц.)
[Закрыть].
– У вас теперь есть кавалер, пошлите его, – буркнул я грубую фразу и не помня себя бросился вон. Мне послышался противный смех Драншема, а соболезнующий голос Лиды звучал: бедный мальчик!
– Мальчик, бедный мальчик! да мне уже скоро пятнадцать лет! – хотелось мне крикнуть в сторону Лиды.
Уехать из института ранее окончания бала было нельзя, и я казнился до конца. Мне, впрочем, доставляло даже удовольствие, сложивши руки на груди, с презрением поглядывать на носившуюся в бешеной мазурке пару. К сожалению, они, немец и коварная, меня не замечали, но стоявший вблизи воспитатель, толстяк Андрей Иванович, за женой которого, как кадетам было известно, ухаживал Драншем, видимо, понял мое положение, участливо потрепал меня по плечу и сунул в руку апельсин.
Так недавно все вокруг казалось мне хорошим и добрым, а теперь сердце щемило и… хотелось плакать, плакать слезами обиды.
Из института мы возвращались на каких-то громадных розвальнях. Холодный воздух освежил, подбодрил меня, и в корпус я вошел значительно успокоенный. Зато мой сосед, Юневич, имевший неприятную привычку и в обыкновенное, мирное время, толковать вслух во сне, в эту ночь особенно разошелся и то и дело как-то восторженно выкрикивал; дежурный дядька будил его, он переворачивался на другой бок, шамкал губами, успокаивался на время, а потом опять нес околесицу.
Кадетское ухо привыкло не только к ночным разговорам и крикам, но и барабанный бой по утрам не беспокоил многих, в особенности после бала, и воспитателю приходится самому тормошить некоторых беззаботных. Когда Андрей Иванович сдернул одеяло с Юневича, то у него с постели упала роза.
– Ах, разбойник, вот он отчего вставать не хочет, спит с розой! Грузный, добрейший Андрей Иванович, довольный своим каламбуром, смеясь подошел ко мне и забасил:
– Что, брат, отбили даму! – Но запнулся, покраснел, рассердился и во всю глотку крикнул:
– Вставать, – инсти-тут-ки! Моментально! не то запишу в журнал.
За уроками по кадетским рукам заходил листок с акростихом, написанным Юневичем в честь Задонской. Начиналось так: «Золотые кудри, аленькие щечки». Конфетное стихотворение всем нам понравилось. Строгий учитель математики, невозмутимый полковник Ширко, преподававший также и в институте, перехватил листик, прочел, улыбнулся и, заметив по вспыхнувшему лицу Юневича, кто автор, обратился к нему:
– Юневич, неточно выражаетесь, у Задонской не золотые, а пепельные волосы. По математике она слаба, очень слаба. Жаль, очень жаль!
Ширко вновь начал читать акростих и, как нам показалось, с особенным чувством, причем отбивал такт рукой, но, не окончив сонет, нечаянно ткнул пальцем в чернильницу, врезанную в стол, и этим, конечно, произвел неожиданный эффект. Кадеты, привыкшие видеть Ширко неразговорчивым, требовательным, педантически чистым, «его мел даже не марал», и вдруг! Ширко декламирует кадетские стихи и обмакивает в чернила пальцы. Многие засмеялись. Учитель вспыхнул.
– Юневич! К доске!
И Ширко, ничего не задав вызванному, заходил по классу. Все примолкло и ждало грозы. Юневич дрожал, так как приготовления к балу и, наконец, самый бал отдалили его от математики, к которой он никогда склонности особой не имел. Наконец Ширко взглянул на оробевшего кадета, нервно разворачивающего на мелке бумажку, и остановился перед ним. Лицо учителя постепенно просветлялось непривычной для нас доброй улыбкой.
– Что, господин влюбленный, не до математики теперь? Ну, садитесь и готовьтесь к следующему разу.
За завтраком большинство кадет нашего отделения отдали Юневичу свое единственное блюдо, длинные порционные пироги, начиненные жилисто-хрящеватым фаршем. В складчину была куплена корзинка апельсин, и на дне ее уложены пироги и акростих. Влюбленному удалось-таки доставить обещанное и получить из института спустя несколько дней, через родственника Задонской, кадета, пирожное безэ.
Когда мы пошли в корпусный сад на гулянье, то я занял свой обычный наблюдательный пост, откуда была видна самая лучшая городская улица, по которой перед завтраком ежедневно гуляла Лида. На этот раз она тоже появилась, но не с одной гувернанткой, а еще с кавалером – Драншемом.
– Господа, смотрите, Дранчик ухаживает за какой-то хорошенькой брюнеткой.
– А она ему делает глазки, честное слово, кокетничает с ним.
Мне было и больно, и стыдно, и злость кипела к офицеру. Страстно хотелось заявить о себе каким-нибудь чрезвычайным образом. Мне чудилось, будто на Лиду налетает карета, я бросаюсь под лошадей, задерживаю ее своим телом и окровавленный, умирающий, но с презрительной улыбкой говорю: «Можете теперь спокойно продолжать веселую прогулку с трусливым, самозванным капитаном».
Лида, подойдя поближе, весело кивнула мне головой; а я не мог убежать, не мог отвернуться от Драншема, а должен был вытянуться и отдать ему честь. Хорошо еще, что он был офицером в другом «возрасте» и, следовательно, редко попадался мне на глаза. Сонимский, знавший мои сердечные тайны, взял меня под руку и тихо начал «продолжение следующего номера». Я постепенно заинтересовался перипетиями лордов и леди и рисовал себя героем романа: рыцарем, выезжающим на турнир, закованным в черные латы, с опущенным забралом, с грозно нависшим копьем. Затрубили трубы, загремели литавры – но это не рыцарские фанфары, то трубит горнист, сзывая кадет в строй. Нужно покидать сад, идти опять в классы. В институте или на гулянье я простудился и должен был отправиться в лазарет, где меня ласково встретили старые знакомые, фельдшер Петухов и дядька Платов. Вскоре я узнал, что Драншем после Рождества женится на Лиде и откомандировывается от корпуса. Лиду я больше не видел: она скоро уехала с матерью в Москву делать приданое, а затем венчалась в деревне.
Прошел еще год, я уже перешел в выпускной класс и, как многие из товарищей, к этому времени сильно вытянулся и принял вид юноши. В классе уже слышались не детские голоса, а некоторые совсем-таки басили. Состав воспитанников изменился значительно. Начальство решило соединить два небольшие порознь отделения в одно. С прибавкой сюда оставшихся на другой год в классе, общество вышло пестрое и не спевшееся. Воспитатель приходил в отчаяние и почти каждый вечер журил класс и рисовал нам в будущем невеселые картины.
Веяние начала 6о-х годов проникало и в корпусные дортуары, которые, казалось, были так плотно закрыты для всякого рода внешних влияний.
Хорошие идейные стремления того времени общественной массой были плохо переварены и главным образом повлияли на столь свойственное славянской натуре отрицательное отношение к сложившимся жизненным условиям, традициям и прежним авторитетам. Эти веяния далеко не на всех подействовали освежающе, на многих и многих они произвели действие пыльного урагана. Как через незаметные щели дорожного сундука проникает в него шоссейная пыль и грязнит платье, так и нравственная пыль пробиралась в закрытое заведение…
Во время отпуска кадеты, так же как и воспитанники других заведений, нередко наталкивались на проповедников новых начал, читали без разбору ходкие по тому времени сочинения и, не переварив этой пищи, сбивались с дороги. Впрочем, можно было и не выходя из заведения поучаться новому слову.
В классе был приходящим сын корпусного учителя французского языка, Катсис. Он был главнейшим провозвестником нигилистических теорий. Конечно, большинство воспитанников отнеслось если не враждебно, то без всякого интереса к поучениям несимпатичного молодого француза, но нашлись и такие, которые живо восприняли его слова и вскоре в крайностях перещеголяли своего учителя, образовали кружок «заговорщиков». Сюда вошли: Смаховский, Овцын и Марофон. Смаховский, в высшей степени несимпатичный юноша, ни с кем в классе не ладил, исподтишка делал всем неприятности, занимался специально химией, почему и слыл под именем «Алхимика».
Овцын и Марофон были славные ребята и способные ученики. После сближения с Катсисом Овцын, способнейший математик, бросил заниматься науками и весь ушел в чтение приносимых французом книг. Все трое они решились по окончании корпусных экзаменов бросить военную службу и поступить в один из технических институтов.
«Заговорщики» подтрунивали над прилежными и «паиньками».
Грустно вспомнить, что разные непростительные выходки кружка заговорщиков против религии и начальства не встречали явного, гласного отпора от товарищей. Общее течение незаметно уносило большинство семнадцатилетних кадетов и делало их нечувствительными к подобным дурным проявлениям.
Воспитатель, подполковник Слезков, старый кадет, пользовавшийся прежде общим уважением за ровный характер и справедливость, подвергся, заглазно, конечно, особому вышучиванию Катсиса и Смаховского и постепенно в глазах класса из достойнейшего человека обратился в глупого ретрограда, отъявленного бурбона и надоедливого, шипящего «гусака».
Слезков чувствовал, что говорится что-то неладное, хотя вряд ли знал действительное состояние умов своих воспитанников. Не проходило вечера, чтобы он, старательно заперев в коридор дверь, не читал бесхитростных нотаций. Однажды воспитатель явился совершенно расстроенный и прерывающимся голосом заговорил о той путанице понятий, которая завелась в некоторых головах, и под конец обратился к побледневшему Смаховскому и предсказал ему виселицу, если он не бросит «завиральных идей». Подобное заявление, сказанное особенным, непривычным для воспитанников, раздраженным тоном, немало удивило кадетов и показалось дикой выходкой разгоготавшегося гусака. Только после выпускных экзаменов стало известно, что Смаховский пытался отравить Слезкова хлором и был им пойман. Слезков никому не рассказал об этой гнусной истории, и она так бы и не открылась, если бы не хвастовство самого преступника.
В последнем классе многие из кадетов с особенным старанием занимались математикой, этим излюбленным в корпусе предметом. Преподаватель, литвин Ширко, благодаря своим познаниям, отличному изложению и удивительной находчивости в решении задач, вырос в наших глазах. В корпус начали проникать толки об исключительных выгодах инженерной службы, и среди семнадцатилетних юношей находились такие, у которых уже начали роиться мысли о земных благах железнодорожных строителей. Два кадета объявили о своем желании поступить в институт инженеров путей сообщения.
В то время, когда мы чувствовали прилив особого почтения к математику, один из учителей, Шершов, привлекал нас все более и более своею задушевностью и страстною любовью к преподаваемому им предмету – русской литературе. Шершов недавно только приехал из Петербурга, окончив после духовной академии педагогические курсы. Наш корпус он выбрал, надеясь на юге поправить свое плохое здоровье.
Неудовлетворительных отметок Шершов не ставил, а лишь помечал на тетради: «жаль воспитанника, лишающего себя возможности наслаждаться художественным произведением».
Однажды перед Рождеством Шершов принес наши сочинения на тему: «О психической деятельности человека» без всяких отметок. Его засыпали по этому поводу вопросами.
– Мне не следовало давать вам эту работу, вы еще… слишком молоды. Я сам виноват, что не взвесил ваших сил.
Эти робко произнесенные слова подействовали на нас, как удары плетью.
– Николай Николаевич, – заявил кто-то, – позвольте мне еще раз на эту тему написать.
– И мне, и мне! – послышались с разных скамеек голоса. Шершов объявил, что первая письменная работа после праздников будет на произвольную тему.
Многим захотелось доставить удовольствие добрейшему Николаю Николаевичу, и потому мы засели с большим усердием за необязательную работу. Большинству пособием служило находившееся у нас под руками сочинение Ушинского.
Не знаю, насколько откровенен был Шершов, но в следующий раз он принес тетради с довольной улыбкой и благосклонными отметками, а одну из работ, как «очень рассудительную», по его словам, прочел вслух и предсказал автору публицистическую известность.
Шершов часто прихварывал, но старался все-таки не пропускать лекций; однако под конец курса он слег в постель, и мы, беспокоясь о здоровье учителя, выбрали депутацию, которая отправилась в воскресенье проведать его. Как он был нам рад! В то же время он видимо конфузился неприглядности своего крошечного помещения, которое он занимал со своей, также болезненной, женой. По странной случайности он помещался в двух отдельных комнатах квартиры Антоненки; остальные комнаты были в распоряжении Николая Федоровича, не появлявшегося, по обыкновению, ко мне ни разу с самой осени. Я отправился в другую половину квартиры, и через четверть часа были отставлены шкапы, отперта соединительная дверь, и мы вкатили в просторную столовую кресло сконфуженного Шершова. Вместо пыльной, узкой улицы, перед глазами зеленел сад, и из цветника веяло ароматом только что высаженных в грунт цветов. Шершов с наслаждением вдохнул чистый воздух и с оживлением заговорил о предстоящих каникулах, о том, как он в деревне наберется сил, возьмет в будущем учебном году больше уроков, наймет отдельный домик и заведет корову для своей бедной, больной Меланьи Ивановны; а она, слушая эти слова, рыдала в другой комнате:
– Не поправиться ему, моему голубчику!
И грустно, и тяжело было видеть иссохшего больного преподавателя, и в голове вертелась скверная, эгоистичная мысль: кто-то будет экзаменовать, вместо него, по русскому языку?..
Наконец наступили и выпускные экзамены, – окончание курса среднего учебного заведения. Корпусный сад опять манил к себе своей роскошной зеленью, опять нервное возбуждение и упадок сил. Но труднейшие экзамены сданы, остаются более легкие, забота отлетала, и на меня нахлынуло новое чувство, сердце болезненно сжималось при мысли о скором расставании навсегда с корпусом и большинством товарищей. Чувствуя близкую разлуку, все особенно дружно держались, только Смаховский с Катсисом бродили по-прежнему в стороне.
Вот незаметно подполз и последний день, день расставания. После каникул все должны были возвращаться в корпус и оттуда уже, с воспитателем, ехать в Петербург в военные училища; я же получил более продолжительный отпуск и теперь же должен был проститься со всеми. Тяжело было бросать заведение, в котором провел семь лет…
Уезжая из N, я долго еще оборачивался и с любовью взглядывал на царивший над всем городом корпусный купол. Почтовая тройка, однако, уносила все дальше и дальше. Скрылся из глаз город, скрылся и корпус…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?