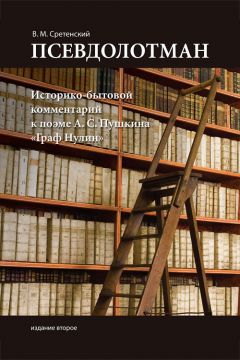
Автор книги: Василий Сретенский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Жанр
В собраниях сочинений и сборниках произведений А.С. Пушкина «Граф Нулин» помещается в раздел поэм, также – поэмой – именуется он в некоторых исследованиях (Виноградов1941, 452. Майлин, 81 и 84) Между тем определить жанровую принадлежность этого произведения непросто. «Граф Нулин» стал хрестоматийным примером споров вокруг вопроса: «Можно ли считать поэмой произведение, сугубо прозаическое по своему содержанию»? (Гуляев, 123) Первое издание «Графа Нулина» отдельной книгой (вместе с «Балом» Е.А. Баратынского) вышло под заглавием «Две повести в стихах». Чуть выше мы приводили собственную характеристику А.С. Пушкина, назвавшего «Графа Нулина» повестью в письме к П.А. Плетневу. Эта же характеристика была повторена им в 1830 г., в «Заметке о „Графе Нулине“». Так же – повестью – именовался «Граф Нулин» в первых рецензиях и откликах (см. Приложение к данному комментарию). В.Г. Белинский в «Статьях о Пушкине» (статья седьмая) писал:
«Поэма рисует идеальную действительность и схватывает жизнь в ее высших моментах… Роман и повесть, напротив, изображают жизнь во всей ее прозаической действительности, независимо от того, стихами или прозою они пишутся. И потому „Евгений Онегин“ есть роман в стихах, но не поэма, а „Граф Нулин“ – повесть в стихах, но не поэма» (Белинский, 401).
В XX веке «Графу Нулину» часто давали «пограничную» жанровую характеристику: поэма «комического „фламандского“ жанра» (Гершензон, 9); «поэма, которую можно рассматривать не только как эпизодический вариант к „Евгению Онегину“, но и как своего рода комментарий к нему» (Гуковский, 84); «пример повествовательного стиха (поэмы)» (Тимофеев, 232); «поэма-пародия» (Айхенвальд, 135), «бытовая поэма» (Лотман1995, 135), «шутливая поэма» (Кибальник1998, 122; Смирнова, 168), «комическая поэма» (Гаспаров1999, 281), «поэма-шутка» (Фомичев, 104) ироническая поэма (Лейбов2007, 55). Вместе с тем, сохраняется традиция характеризовать «Графа Нулина» просто как «повесть в стихах» (Гроссман1958, 274; Благой1977, 217; Гуляев, 125) или «стихотворную повесть» (Томашевский1957, 561; Тынянов, 152; Фомичев, 16), а также одновременное использование термонов «поэма» и «повесть в стихах» (Гордин, 290, 293, 297).
Значительная часть исследователей видела в «Графе Нулине» продолжение тех или иных жанровых традиций XVIII – начала XIX в. Так, Б.В. Томашевский, именуя «Графа Нулина» и «иронической повестью», и «маленькой сатирической поэмой» (Томашевский 1957, 561), соотнес ее с жанром литературной сказки, ведущим свое начало от творчества Лафонтена (Томашевский1961, 386 и 503) Д.Д. Благой назвал это произведение «сатирико-реалистической новеллой в стихах» (Благой1946, 15). Э. Н. Худобина считает, что «Граф Нулин» представляет собой «каламбурное развитие» жанра байронической поэмы, при котором «романтическая схема пародируется низведением сюжета до нуля и возвращением в жанр сказки» (Худобина, 32 и 41). Г.Л. Гуменная выделила две жанровые составляющие этого произведения: «традиции стихотворной новеллы, conte, обычно использующей анекдотический сюжет, и стилистику иронического повествования» (Гуменная, 94), и переосмысленные черты ирои-комической поэмы XVIII века. Л.И. Вольперт называет «Графа Нулин» «шутливой» и «пародийной» и «иронической» поэмой, знаменующей собой «важный этап в развитии Пушкина: переход от поэмы к стихотворной повести» (Вольперт2010, 112, 133, 167, 547).
В «Графе Нулине» можно найти значительное количество признаков, характеризующих именно повесть как литературный жанр. Это и «обращение к «прозаической» обыденной действительности» (Розенфельд, 26), и опора на «устную традицию» (Кожинов, 814), и отсутствие «героического» пафоса, присущего поэме (Гуляев, 125). С басней и литературной сказкой XVIII – начала XIX в. «Графа Нулина» сближает «условная речь подразумеваемого рассказчика, который на примере опять-таки условной жизненной ситуации… высказывает определенную бытовую морально-дидактическую сентенцию» (Тимофеев, 332). Хотя нельзя не заметить, что отличительные черты басни-сказки в «Графе Нулине» не воспроизводятся в чистом виде, а пародируются. А из трех формальных правил сочинения ирои-комической поэмы, действующих со времен первой поэмы такого рода – «Налоя» Буало (1674) и первой в России – «Игрока Ломбера» В.И. Майкова, к «Графу Нулину» можно отнести два: «Сюжет поэмы должен быть „низким“, то есть должен быть взят из современности, и герои должны принадлежать к классу, с точки зрения автора поэмы недостойному серьезной литературной разработки… В поэму должны быть введены элементы героической эпопеи…» (Томашевский1933, 79). Отличие «Графа Нулина от литературных сказок предшествовавшей эпохи – „сложная сюжетная структура“ (Вольперт2010, 224).
Итак, единства в определении жанра в отношении «Графа Нулина», не сложилось. При желании его можно называть и поэмой, и повестью, и сказкой. Наиболее точно, на наш взгляд, можно охарактеризовать «Графа Нулина» как синтетическое в жанровом отношении произведение, соединяющее в себе традиции литературной сказки (басни), комической поэмы и повести в стихах. Но, во избежание путаницы, в комментарии «Граф Нулин» именуется упрощенно – поэмой.
Глава 1
(Граф Нулин)
(текст)
Пора, пора! Рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Всё, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу.
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя в ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.
(комментарий)
Поэма начинается с описания псовой охоты – одной из главных примет усадебной жизни российского дворянства от середины XVIII века до примерно 40-х годов века XIX. Будучи в XVI–XVII веках «забавой» по преимуществу царской и боярской, она была почти забыта на рубеже XVII и XVIII столетий.
Обычаи двора в значительной степени определяли бытовые привычки дворян, а Петр I охоту не жаловал, как и другие «бездельные» развлечения. При потомках его – Петре II и Елизавете Петровне – придворная охота была возрождена, но массовым увлечением она смогла стать только к концу XVIII века, после упомянутых нами выше событий. В то время существовало четыре типа охоты.
Соколиная охота, чрезвычайно дорогая, доступная только двору и крупным вельможам, пережила пик своей популярности при царе Алексее Михайловиче. Тогда в Москве даже существовал Соколиный Приказ, занятый разведением охотничьих птиц и организацией царской охоты. К концу XVIII столетия эта разновидность охоты стала событием чрезвычайно редким, почти исключительным.
Загонная охота на крупного хищника (чаще всего – медведя), заканчивающаяся поединком охотника и зверя, имела отчетливо простонародный привкус и одновременно считалась проявлением удали и молодечества. Для особой породы снобов, гордившихся своей природной силой (вроде братьев Орловых в екатерининские времена), такие поединки были предметом исключительной гордости.
Охота с ружьем, главным образом на птицу, похожая больше на осенние заготовки провианта, чем на развлечение, не была широко распространена. Добавление к этой охоте элементов соколиной делали ее и полезной, и привлекательной.
Вот как описывает такую «смешанную» охоту современник: «Трое суток прорыскали в поле верст 20 от Липецка за крупною полевою дичью: стрепетами, драхвами, дикими гусями и журавлями. Брали с собой больших ястребов, которые чрезвычайно нас тешили. Привезли всякой птицы чуть не целый воз – словом, веселились напропалую» (Жихарев, 248–249).
Однако, как с полным правом утверждал авторитетный исследователь (а отчасти и очевидец) дворянского быта той эпохи, «исключительным занятием дворян-помещиков, была… псовая охота [выделено мной. – Авт.]» (Селиванов, 96). Именно она считалась в ту эпоху чисто дворянским, благородным занятием в противовес крестьянской охоте – силками, или мещанской – с ружьем. Были таки, кто считал охот единственным благородным занятием. Так, отставной фаворит Екатерины II, граф Завадовский, писал своему приятелю, графу Воронцову в 1780 году: «Вместо того чтоб хозяйство разбирать, я с утра до вечера живу на охоте и забываю все выгоды, которые держат вас в столице» (Архив, 21).
А псовая охота, к тому же, не только самая азартная разновидность охоты, но и самая знаковая. Занятие псовой охотой утверждало любого помещика в качестве владетельного сеньора: он охотится на своих землях, со своими собаками, в окружении своих слуг. Одновременно с этим охотник становился членом большого, но хорошо очерченного и замкнутого круга посвященных – «собачников».
Охота часто была коллективной: «Поездки на охоту были чем-то вроде военных походов… Человек 20 соседей и любителей охоты съезжались со свитою и сворами собак и выезжали на рассвете с верховыми музыкантами…» (Бутенев, 21). Такого рода охотничьи экспедиции одновременно символизировали верность древним традициям «служилого сословия», возмещая потребность в «военных подвигах», и позволяли вырваться за пределы чисто хозяйственных интересов.
Само слово «охота» имело расширительный смысл: это и сами собаки – предмет постоянной заботы и особой гордости; и вся совокупность атрибутов, необходимых для этого занятия, включая людей, одежду, аксессуары; и, конечно же, сам процесс, к описанию которого мы постепенно приближаемся. Для многих помещиков охота была не только и не столько времяпрепровождением, сколько образом жизни с сентября по март.
Вот один характерный пример. Саратовский помещик Лев Яковлевич Рославлев «держал громадную псарню, множество псарей, и его выезды на охоту представляли зрелище, вроде средневекового переселения народов: со всеми своими псарнями и псарями, верховыми лошадьми, огромным обозом всяких запасов, вин, вещей, с многочисленной компанией приятелей, любителей охоты, он не довольствовался одной Саратовской губернией, но объезжал все соседние, добирался до оренбургских степей и пропадал в охотничьих разъездах по нескольку месяцев. Так продолжалось, пока хватило состояния, двух или трех тысяч душ и кончилось вместе с ними» Фадеев, 18).
В псовой охоте помещик выступал одновременно в нескольких ролях: он и хозяин охоты, и участник, и зритель, и болельщик. Но он же и постановщик большого костюмированного представления под названием «охота», где главными актерами выступают зверь-жертва (заяц, лисица, волк), охотничьи собаки, выгоняющие жертву из укрытия (гончие) и настигающие ее (борзые).
В минимальный комплект охоты входила стая гончих плюс свора борзых – два кобеля и сука, желательно одного окраса. Собственно сворой назывался особый ремень на три ошейника, а по нему уже – и охотничий комплект борзых. Каждому охотнику полагались одна-две своры борзых вместе со стремянными – слугами, держащими ремни и спускающими собак вдогонку за зверем по команде охотника. Псари находились при гончих, чья задача – лаем выгнать зверя на открытое пространство, где в дело вступали борзые.
Помещик, не имевший средств на стаю гончих, охотился только с борзыми и именовался «мелкотравчатым», то есть способным затравить лишь мелкую дичь, вроде зайцев (Вальцов, 8). Судя по первым строкам поэмы, муж Натальи Павловны, хотя и не мог сравниться охотой с известным любителем генерал-майором Л.Д. Измайловым, державшим «до 200 собак и до 3000 охотников и псарей» (Селиванов, 78), но и к мелкотравчатым отнюдь не принадлежал.
Сама охота происходила следующим образом. За день до ее начала на место сбора собирались соседи-охотники, а вечером устраивалось совещание с ловчим – главным распорядителем охоты из слуг – о маршруте. Выезжали чаще всего на рассвете. Сигналом к движению служил звук рога устроителя охоты (или специально назначенного человека), вслед за которым начинали трубить все участники охоты. Место охоты именовалось отъезжим полем, а небольшой лесок, группа деревьев или кустарник, откуда предстояло выгнать зверя, – островом. Псари с гончими окружали «остров» и начинали порскать – кричать и хлопать в ладоши под лай гончих. Охотники же со стремянными окружали остров вторым кольцом (или становились с противоположного от псарей его края) и, при появлении зверя в поле, спускали борзых со свор. Добыча доставалась тому охотнику, чьим собакам удалось ее затравить, то есть схватить и придушить. Вот как описана охота в стихотворении П.А. Вяземского «Первый снег»:
«Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой, —
На бегство робкого нескромный снег донес;
С неволи спущенный за жертвой хищный пес
Вверяется стремглав предательскому следу,
И довершает нож кровавую победу». (1819)
Успех охоты зависел от многих факторов: умения ловчего выбрать направление охоты и расставить псарей; хладнокровия и выдержки охотника, на которого выходил зверь; нюха легавых и скоростных качеств борзых. Результаты короткой – дневной и полдневной охоты хорошо отражает дневник приживала многих дворянских семей конца XVIII века Палладия Лаврова, жившего в апреле 1778 года в семье князя П.А. Прозоровского:
«26 апреля. Были все у обедни, после обеда ездили на охоту, привезли 4 зайца…
28 апреля. Поутру князья уехали на охоту и были до вечера… Привезли 19 зайцев…
29 апреля. Князь Долгоруков ездил стрелять [птиц. – Авт.] и ничего не привез.
30 апреля. После обеда князья ездили с собаками и привезли 6 зайцев» (Похождения… 450).
Все детали поэмы «Граф Нулин» указывают на то, что для мужа Натальи Павловны охота не просто развлечение, а подлинная страсть, главная составляющая жизни. Первый и последний раз отступив от принципа подстрочного комментария, соединим их вместе:
а) … рога трубят – поскольку действовало правило «один охотник – один рог», то объяснение множественному числу – рога – может быть двояким. Либо муж Натальи Павловны выступает организатором охоты для менее богатых соседей, либо он так увлечен этой забавой, что раздал рога своим слугам – ловчему, доезжачему (главному смотрителю за гончими), выжлятникам – помощникам доезжачего, объединенным общим наименованием псари. (Мы оставляем без комментария бросающуюся в глаза двусмысленность всей этой фразы в соотнесении с тем, что составляет основное содержание поэмы.)
б) Псари в охотничьих уборах – возможность нарядить всех слуг, участвующих в охоте, в особые костюмы была только у очень богатых людей, вроде уже упомянутого нами Л.И. Измайлова, у которого одежда свиты и охотничьи рога были отделаны серебром. Но и среди очень богатых настоящие охотники выделялись именно тем, что придавали значение всем деталям охоты, от формы охотничьего ножа и звучания рога до команд, подаваемых на каждой стадии травли. Такого рода охотники не могли не одевать своих псарей в «особые мундиры», как это было заведено в имении деда жены Пушкина А.Н. Гончарова (Бутенев, 8). В описании одной из мемуаристок псари ее отца «составляли как бы особую касту людей и почти все были сущие разбойники». И далее: «У них был красный мундир, синие шапки и серые лошади для парадной охоты, а синие кафтаны и разношерстные лошади для вседневной» (Менгден, 105).
в) Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна — муж не только не замечает настроения Натальи Павловны (он еще много чего не замечает), но и в своем увлечении охотой даже не может себе представить, как момент его высшего торжества – начало охоты – может кого-то не интересовать или даже злить.
г) Шла баба через грязный двор – упоминание грязного двора – укор не только хозяйке, но и хозяину усадьбы, которому недосуг заниматься хозяйством, поскольку все мысли занимает охота.
д) Наташа! там у огорода
Мы затравили русака… – после приветствия и набора дежурных фраз хозяин сразу же переходит к теме, которая его действительно интересует. Хотя хвастаться по большому счету нечем: один заяц – незавидный результат. Тем не менее, истинный охотник не может говорить ни о чем, кроме как о любимом занятии, даже если тем самым вносит диссонанс в ход беседы.
е) …графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит — такая реакция на известие об оскорблении говорит не только о значительной разнице в возрасте и, вероятно, в чинах, из-за чего мужу не приходит в голову мысль о дуэли. Первая мысль – о собаках, и это дает повод предположить, что все мысли мужа Натальи Павловны – о них же.
А теперь всё по порядку.
Пора, пора! рога трубят – Н.А. Еськова приводит устное замечание Г.А. Лесскиса: «Пора, пора!» – это то, что «говорят» рога (Еськова, 71). Такое понимание требует другой пунктуации:
«Пора, пора!» – рога трубят…»
Пора – в данном случае – это и время для охоты (охотничья пора), и время ее начала (пора ехать). Но это, одновременно, и зачин, создающий иллюзию внезапно ожившей картины с условным названием «Сбор на охоту». Картины (и гравюры) такого рода были широко распространены в Европе XVIII – начала XIX в.
Н. Мазур обратила внимание на то, что начало поэмы практически совпадает с началом песни Беранже «Двойная охота» ("La Double Chasse"):
Allons, chasseur, vite en campagne;
du cor n'entends-tu pas le son? (1815)
(Вперед, охотник, скорее в поле,
Разве ты не слышишь звука рогов?)
Автор находит и другие параллели между поэмой Пушкина и песней Беранже (Мазур, 38–51).
Выходит барин на крыльцо, – Само слово «барин» удобно будет прокомментировать в другом месте (см. главу 10). А сейчас – немного о другом. А.М. Гордин предположил, что в качестве прототипов помещичьей четы в поэме могли выступить соседи Пушкина по Михайловскому: владелец села Ругодева Николай Михайлович Шушерин и его супруга Наталья Николаевна. Шушерины были хорошо знакомы родителям поэта, посещали они и имение Осиповых-Вульф Тригорское, где с ними мог познакомиться и сам Александр Сергеевич. В характеристике А.М. Гордина, Шушерин выглядит, как alter ego барина, отправляющегося на охоту в первых строках поэмы: «Он любил окружать себя всякого рода приживалами и гордился перед соседями своими необыкновенно длинными холеными ногтями да псарней. Охота, собаки составляли его главный жизненный интерес» (Гордин, 198 и 293).
Суждение это опирается на дневниковую запись В.Д. Философова от 12 июля 1838 г., приведенную Л.Л. Слонимской в примечаниях к письмам С.Л. и Н.О. Пушкиных к дочери – О.С. Палищевой. В этой записи Н.М. Шушерин представлен, как человек с «огромными ногтями и еще огромнейшей семьей собак, из коих одна слепа» (Письма, 16). Согласимся, что одной любви к собакам слишком мало для того, чтобы соответствовать образу, представленному в первых строках поэмы. К тому же, как отметил в одном из писем С.Л. Пушкин, Шушерин любил «изображать больного» (Письма, 113), что с этими образом кардинально расходится. Что же касается Натальи Николаевны Шушериной, то она была сверстницей матери поэта – Надежды Осиповны Пушкиной – и уже поэтому никак не подходит на роль прототипа Натальи Павловны.
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет — сочетание «приятная важность» означает, что муж Натальи Павловны благосклонно и снисходительно относится к окружающим, что вытекает из значения глагола приятствовать – покровительствовать кому-либо и быть к нему благосклонным (Даль, III, 465).
Чекмень затянутый на нем – все детали наряда мужа Натальи Павловны одновременно и чрезвычайно типичны, и выделяются тщательно продуманным отступлением от обычного стандарта.
Самый обычный костюм охотника выглядел следующим образом: на охотнике бекеша на лисьем меху, «обшитая по краям крымской овчиной» и подпоясанная кушаком, на котором висит охотничий нож. Через плечо – обшитая кожей фляжка «с сладкой водкой» на шелковом шнурке (Селиванов, 97). Здесь же мы замечаем своего рода охотничье фатовство: ни на йоту не отступить от правил, но и не потерять своей индивидуальности. Чекмень – то же самое, что и обычная охотничья бекеша – короткий кафтан на меху со сборками сзади (затянутый). Но название и особенности покроя – восточного происхождения. В ХIХ веке чекмень был распространенной одеждой у казаков Северного Кавказа, народов Закавказья, Турции и Ирана. Пристрастие к чекменю вместо бекеши чаще всего демонстрировали отставные военные, перенимавшие, в боевой обстановке, одежду своих противников. А Д.В. Давыдов даже написал стихи, посвященные этому виду одежды, и назвал их так: «Графу П.А. Строганову. За чекмень, подаренный им мне во время войны 1810 года, в Турции». В них есть такие строки:
«Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене лёгоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранну прю,
Но мне ль, любезный граф, в французском одеянье
Явиться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, причёску поправлять
И усачам себя Линдором показать!»
Чекмень здесь противопоставлен жабо – элементу штатского и, более того, светского одеяния. А если учесть, что тут же усачам (то есть солдатам, гусарам) противопоставляется Линдор – любимая собачка императрицы Екатерины II (тоже вошедшая в стихи и ставшая нарицательным обозначением лебезящего придворного), то становится понятно: чекмень – грубая одежда воина. Соответственно, мы можем предполагать, что чекмень мужа Натальи Павловны неслучаен и служит напоминанием о прошлых «бранях» – воинской службе.
Турецкий нож… – «Охотничьи ножи делаются различной величины, в аршине железо имеющие и маленькие, не более 6 вершков длиною; обыкновенно делаются оные с простыми костяными черенками и обухом во весь нож, так что лезвие к концу сходится почти треугольником» (Левшин, 173). У нашего охотника нож не стандартный, а турецкий – с односторонним загнутым лезвием. Поскольку такого типа холодное оружие было сравнительно широко распространено на юге России, в частности, на Кавказе, то эта деталь (в сочетании с предыдущей и некоторыми другими) может указывать на недалекое прошлое мужа Натальи Павловны. Возможно, перед женитьбой он служил на Кавказе, под начальством генерала Ермолова.
…за кушаком – «Кушак – пояс или опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате по верхней одежде» (Даль, II, 229).
За пазухой во фляжке ром, – фляга с «горячительным» напитком – обязательный и непременный атрибут осенне-зимней охоты. Но чаще всего охотники использовали «сладкую водку» – ратафию. Это напиток высокой крепости, производимый самими помещиками и настаиваемый по собственному вкусу. Ром во фляге может указывать и на богатство помещика, не скупящегося на покупку «необязательных» напитков, и на особое охотничье щегольство. К тому же ром – наиболее распространенный напиток в армейских и флотских – но не гвардейских – частях того времени. Е.И. Раевская сохранила для нас очень характерный рассказ матери, относящийся к рубежу 10-20-х гг. XIX в.: «После замужества… к нам ездили товарищи моего мужа, военные; я считала своим долгом принимать их любезно и всегда им сама в гостиной чай разливала, но эти господа отучили меня от этого занятия. Однажды приехал один из кавказских сослуживцев вашего отца. Я невзначай спросила его: любит ли он чай? сколько чашек пьет его? – Двенадцать стаканов с ромом и двенадцать без рома, – отвечал он» (Раевская, 956). Для отставных офицеров ром на охоте – дань полковой традиции и воспоминание о лихой военной юности.
И рог на бронзовой цепочке – а не на шнурке – еще один признак своеобразного охотничьего франтовства. Рог – необходимейшая часть амуниции охотника. По знаку рога начиналась и прекращалась охота. Звук рога служил ориентиром для сбора охотников. К звуку рога хозяина приучались собаки. В случае охоты с большим числом участников и люди, и собаки могли ориентироваться только на звуки рога. См. также фрагмент воспоминаний А.П. Керн, относящийся к 1825 г. о пребывании Пушкина в Михайловском и приездах в соседнее Тригорское: «Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его… Так, один раз, мы восхищались его тихой радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: Charmant, Charmant!» (Керн, 253).
В ночном чепце, – чепец, в XVIII и XIX вв. – женский головной убор высших сословий (в отличие от платка у низших). Форма чепца всегда одна: облегающая голову ткань дополнялась оборками или воланом вокруг лица. Чепец был головным убором замужних женщин (Кирсанова, 315). Дневные чепцы изготовлялись в то время двуцветными, на латунном каркасе. Их украшали цветами, кружевами и лентами. Ночные чепцы были гораздо проще и удобнее: в один цвет, без каркаса, вместо волана – оборки.
В начале XIX века чепец вытеснил из дамского обихода ночной колпак, более привычный помещицам XVIII века. Связано это было с распространившимся в то время способом завивать локоны. Если раньше это делали при помощи нагретых щипцов, то в XIX веке стали применять завивку на папильотки. Просторный и удобный чепец лучше всех других головных уборов облегал голову с накрученными на свернутые бумажки локонами.
…в одном платочке – см. комментарий к главе Х (шаль накинуть).
…на псарную тревогу – слово тревога здесь двузначно. Прямое значение – суета, суматоха, вызванная выводимыми из псарни собаками. Переносное связано с тем, что читатель частично смотрит на сбор охотников, глазами сонными хозяйки поместья, для которой тревога – то, что «беспокоит, докучает, мешает, надоедает» (Даль, IV, 427). Эта сторона псарной тревоги подчеркнута еще дважды. Во-первых, контрастом между довольным лицом мужа и сердитым видом жены. А во-вторых, оборотом чем свет, использованным чуть выше. Дело в том, что при замене канонического «чуть» на «чем» формируется устойчивая связь с выражением: «вместо того, чтобы», отмеченная Далем в своем словаре (Даль, IV, 617). Соответственно «сердитый» взгляд Натальи Павловны получает свое объяснение в такой подтекстовой конструкции: «Вместо того чтобы спокойно спать, (чем свет) муж ради своего удовольствия (его довольное лицо) причиняет беспокойство (тревогу) жене; она же сердится».
Он холку хвать и в стремя ногу, – в данном случае холка – это грива, растущая у лошади в том месте, где шея соединяется с хребтом. Муж Натальи Павловны, как это следует из приведенной строчки, сам вскочил на коня, не пользуясь помощью слуг. Это очень существенная характеристика: значит, он хороший наездник (и гордится этим), не очень стар и не грузен.
Кричит жене: не жди меня!
…
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует… – выезд на охоту мог затянуться на день, два или на месяц. По свидетельству П.В. Нащекина, «Такие поездки продолжались иногда 2–3 недели, с музыкой, с цыганами, песенниками, плясунами» (Нащекин, 287). Для ночевок у охотников имелись палатки и «поварня» (Бутенев, 21). За обедом «обыкновенно съедали, в различных видах и приготовлениях, всех зайцев, затравленных накануне» (Вяземский1877, 312). Слова: «не жди меня», – означали, что охотник и сам не знал, когда он собирается вернуться. Все зависело от хода охоты. Возвращение через сутки объясняется, вероятнее всего, неудачно выбранным направлением охоты и малым количеством затравленной добычи.









































