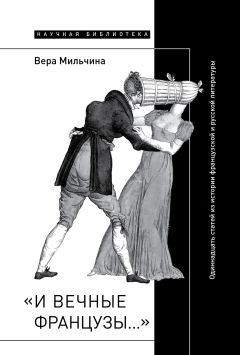
Автор книги: Вера Мильчина
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
II. О словах и фразах
«АДОЛЬФ» БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА В ТРАКТОВКЕ П. А. ВЯЗЕМСКОГО И А. С. ПУШКИНА
«СЫН ВЕКА» И «МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЯЗЫК»
В начале лета 1831 года роман Бенжамена Констана «Адольф», первое французское издание которого появилось в Лондоне и Париже летом 1816 года, вышел в свет по-русски в переводе П. А. Вяземского. Издание это неоднократно привлекало внимание исследователей [Ахматова 1989: 51–89; Гиллельсон 1969: 181–185; Вольперт 1970; Вольперт 1998: 117–134; Вольперт 2007; Томашевский, Вольперт: 170–172]8787
Перевод Вяземского републикован в кн.: [Констан 2006].
[Закрыть]. Однако и надежды, возлагавшиеся на перевод самим переводчиком и его окружением, и конкретные особенности этого перевода – темы, как кажется, отнюдь не исчерпанные.
Начнем с этих надежд, но прежде скажем несколько слов об обстоятельствах создания перевода. Первоначальный его вариант был сделан Вяземским во второй половине 1829 года; за пересмотр перевода и сочинение предисловия к нему Вяземский взялся не раньше лета 1830 года [Вяземский 1963: 172, 187; Ахматова 1989: 58]. Предисловие было закончено, по-видимому, в начале января 1831 года, между тем за это время редактор «Московского телеграфа» Н. А. Полевой, оппонент пушкинской «Литературной газеты», начал печатать в своем журнале (ч. 37, № 1–4) собственный перевод «Адольфа»8888
Отмечу неточность в указателе содержания «Московского телеграфа», где этот перевод приписан Вяземскому [Попкова 1990: 85, 87, 89, 91].
[Закрыть]. Вяземского появление этого перевода раздосадовало8989
О взаимоотношениях Вяземского с Полевым, с которым он в 1825–1827 годах активно сотрудничал, а затем разошелся, см.: [Гиллельсон 1969: 128–169].
[Закрыть].
17 января он посылает Пушкину в Москву из Остафьева предисловие к своему переводу, причем просит совета: «Надобно ли в замечании задрать киселем в – Адольфа Полевого или пропустить его без внимания, comme une chose non avenue [как вещь не существующую – фр.]?» [Пушкин 1937–1959: 14, 146]. Очевидно, что избран был второй вариант: хотя к этому времени Вяземский знал о существовании перевода Полевого, предисловие его начинается с указания на «забвение» романа Констана «со стороны русских переводчиков» и «непереселение его на русскую почву»9090
Полевой, в свою очередь, не остался в долгу; в напечатанной в «Московском телеграфе» рецензии на перевод Вяземского язвительно указывалось: «Советуем г-ну переводчику при следующем издании сей книги исключить первые страницы предисловия, где идет рассуждение о причинах, по коим не был переведен на русский „Адольф“. Может быть, эти причины очень остроумно приисканы, но жаль, что Адольф был переведен на наш язык два раза прежде, нежели явился труд кн. Вяземского. Первый перевод напечатан в Орле, в губернской типографии, в 1818 году, под заглавием Адольф и Елеонора, или Опасность любовных связей, истинное происшествие, а другой – в Московском телеграфе 1831 года» [МТ 1831: 41, 532]. Кроме того, и автор рецензии в «Московском телеграфе», и автор не менее недоброжелательной рецензии на перевод Вяземского в «Северной пчеле» (1831. № 273–275) издевательски подчеркивали несоответствие глобальных претензий переводчика и скромности самого предприятия: «Подумаешь, право, что г. переводчик сбирался на геркулесовский подвиг, запасаясь не только собственными силами, но одушевляясь и волшебною силою имен своих приятелей! <…> странно, что все эти сборы, все великолепные обещания, призывание Пушкина и Баратынского, осуждение всех предшественников переводчика, трибуналы, ареопаги и проч., из чего? Для какого великого предприятия? Для того чтобы перевести книжечку в 10 листов!» [МТ 1831: 41, 537, 541].
[Закрыть]. Больше того, Вяземский просил П. А. Плетнева, занимавшегося в Петербурге изданием его «Адольфа», сверить два перевода: «Помилуй Боже и спаси нас, если будет сходство. Я рад все переменить, хоть испортить – только не сходиться с ним» [Вяземский 1897: 92]. Плетнев просьбу исполнил и 6 апреля 1831 года докладывал: «Те места, в которых Вы сошлись с телеграфским переводчиком, переменил еще в рукописи г. Сербинович, прося меня, буде найду нужным, еще делать перемену в корректуре. Я старался, сколько умел, не вредить переменами Вашему тексту» (цит. по: [Гиллельсон 1969: 182]). Констан имел устойчивую репутацию либерала, и многие его политические сочинения были запрещены; эта репутация неблагонадежного автора, одно имя которого «есть статья, оскорбляющая правительство или грозящая России революцией» [Никитенко 1955: 1, 102], распространялась и на «Адольфа». Трудности начались еще до сдачи перевода Вяземского в цензуру; анонимная заметка-анонс Пушкина об «Адольфе» Констана-Вяземского послужила причиной задержки первого номера «Литературной газеты», так как цензор К. С. Сербинович полагал (ошибочно), что роман находится в списке запрещенных иностранных книг [Летопись 1999: 3, 122–123]; цензурное разрешение было получено только 8 марта 1831 года, в продажу книга поступила в начале июня 1831 года, а весь тираж (600 экземпляров) был отпечатан только в сентябре [Гиллельсон 1969: 182, 185].
Для Вяземского перевод «Адольфа» был предприятием, имевшим и «внешний», европейский, и «внутренний», российский смысл. Первый состоял в завоевании европейской репутации (несколько лет спустя, в 1838 году с той же целью, хотя с совершенно другим смысловым наполнением, была написана – на сей раз по-французски – брошюра «Пожар Зимнего дворца»9191
См.: [Мильчина 2004: 364–369]. О предшествующих попытках Вяземского выступать во французской прессе см.: [Дурылин 1937: 89–108].
[Закрыть]). Поэтому понятно огорчение Вяземского при известии о кончине Констана; к печали о смерти любимого автора примешивалась досада из‐за несбывшихся честолюбивых ожиданий. «Все мои европейские надеждишки обращаются в дым, – заносит он 24 декабря 1830 года в записную книжку. – Вот и B. Constant умер; а я думал послать ему при письме мой перевод „Адольфа“. Впрочем, Тургенев сказывал ему, что я его переводчик» [Вяземский 1963: 211].
Нас, однако, больше интересуют внутренние причины, по которым Вяземский, при единодушном одобрении друзей, взялся за перевод Констана. Об этих причинах мы можем судить и по заметке Пушкина, анонсировавшей русского «Адольфа»9292
Опубликована без подписи в «Литературной газете» 1 января 1830 года. Подчеркнем, что нам известны ожидания Пушкина, сведениями же о том, какое впечатление произвел на него сам перевод, мы не располагаем.
[Закрыть], и по предисловию, которое Вяземский предпослал переводу и в котором прокомментировал как причины выбора именно этого сочинения Констана, так и свои переводческие принципы. Причин этих две, и одна тесно связана с другой: во-первых, в авторе «Адольфа» Вяземский видит «представителя века своего, светской, так сказать, практической метафизики поколения нашего», а в его заглавном герое – человека современного, «созданного по образу и духу нашего века». Во-вторых, тот язык (по Пушкину, «метафизический <…> всегда стройный, светский, часто вдохновенный»), которым написан констановский «Адольф», нужно, по убеждению Вяземского и его круга, привить русскому обществу. Оба тезиса – о современности героя и о метафизичности и светской стройности языка – давно стали хрестоматийными, но оба, однако, нуждаются в прояснении и уточнении.
Прежде всего следует подчеркнуть, что мысль о констановском герое как человеке современном – плод интерпретационной работы Пушкина и его круга. Именно Пушкин в заметке-анонсе охарактеризовал констановского героя строками из седьмой главы своего «Евгения Онегина». «Адольф, – писал он, – принадлежит к числу двух или трех романов,
в которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом»;
ср. в черновиках этой строфы прямое упоминание Адольфа [Пушкин 1937–1959: 11, 87; 6, 438]. Вяземский в своем предисловии, приведя сокращенную цитату из этой заметки и, через нее, из «Евгения Онегина»9393
«…Адольф не идеал. Б. Констан и авторы еще двух-трех романов, в которых отразился век и современный человек, не льстивые живописцы изучаемой ими природы» [Констан 1831: XIX; Констан 2006: 32].
[Закрыть], последовал за Пушкиным. Строки эти часто цитируют, но редко замечают, что Пушкин и Вяземский вкладывали в роман Констана тот смысл, который там впрямую не высказан.
Пушкин и Вяземский воспринимали роман Констана на фоне произведений о разочарованном и/или мятежном, но в любом случае чуждом обществу герое; таковы «Рене» Шатобриана, написанный до «Адольфа» (1802), и произведения Байрона («Паломничество Чайльд-Гарольда», 1812–18189494
В заметке-анонсе Пушкин называет Адольфа характером, который был «впоследствии обнародован гением лорда Байрона».
[Закрыть]) и Метьюрина («Мельмот-скиталец», 1820), написанные после. Между тем в «Адольфе» речь идет о психологической коллизии (по определению Ахматовой, о «раздвоенности человеческой психики, соотношении сознательного и подсознательного» [Ахматова 1989: 63]), о пагубном влиянии незаконных любовных уз на душевный мир как тех, кого бросают, так и тех, кто бросает. Изображение внешнего мира в романе Констана сведено к минимуму, приметы времени практически отсутствуют; ни о «веке», ни о том, что заглавный герой является его представителем, речи здесь нет9595
Характерно уточнение Баратынского; в августе-сентябре 1831 года, благодаря Вяземского за присылку «Адольфа», он пишет: «Вы намекаете на недуг душевный, особенный нашему веку, который очень слегка обозначает автор „Адольфа“: он касается его вскользь, а вы более, нежели он, заставляете его заметить» [Баратынский 1998: 267].
[Закрыть].
Правда, в набросках предисловия к роману, написанных в 1816 году в связи с подготовкой первой публикации, но оставших в рукописи и впервые напечатанных в 1919 году, мысль об Адольфе как представителе современного поколения выражена с большей ясностью: «Я хотел изобразить в лице Адольфа один из главных нравственных недугов нашего века – усталость и нерешительность, отсутствие силы и привычку без конца исследовать собственную душу, все то, что не позволяет предаться без задней мысли ни одному чувству, а потому оскверняет их все с самого рождения. <…> Мы разучились любить, разучились верить, разучились желать. Эта болезнь души распространена куда больше, чем думают. Многие молодые люди ей подвержены. <…> Тщились мы перенять от отцов их опытность, усвоили же одну лишь пресыщенность» [Constant 1995: 197–198].
Здесь Констан фактически ставит Адольфа в один ряд с шатобриановским Рене – героем, который, как сказано в «Гении христианства» (глава «О смутности страстей»), живет с «полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщен» [Эстетика 1982: 154], а следовательно – со всеми разочарованными и безвольными «героями века». Однако Констан этого текста не опубликовал – очевидно, посчитав его недостаточно существенным для понимания «Адольфа», в опубликованных же предисловиях ко второму и к третьему изданиям он, характеризуя цель романа, говорит исключительно об указании на «опасность связей любовных, которые обыкновенно тем сильнее сковывают человека, чем более свободным он себя почитает» [Констан 2006: 413]9696
Об «Адольфе» как «романе о „нелюбви“, максимально освобожденном от социального и исторического контекста» см. подробнее: [Констан 2006: 409–427].
[Закрыть]. Напротив, для Пушкина и людей его круга именно такое «историко-социальное» прочтение «Адольфа» (угаданное ими) оказалось наиболее важным. Выявленные Анной Ахматовой параллели между характеристиками Адольфа у Констана и характеристиками Онегина и героев неоконченных «светских» повестей Пушкина [Ахматова 1989: 65–76], доказывают, что Пушкин воспринимал современного героя и современный «любовный» сюжет на фоне «Адольфа» и сквозь его призму9797
Рецензент «Северной пчелы» (1831, № 274, 2 декабря) глумливо доводит до абсурда этот тезис Вяземского и Пушкина о том, что «Адольф создан по образу и духа нашего века»: «Теперь без дальних и трудных исследований мы можем знать наверное, что все европейцы, за представителем своим, соблазняют чужих любовниц, которые их старше десятью годами, соскучиваются, страдают и мучат, становятся жертвами и тиранами, самоотверженцами и эгоистами».
[Закрыть].
Но Пушкин и его круг ценили «Адольфа» не только за современность характера главного героя, но и за совершенство языка. И здесь французский контекст также не совпадал с русским.
Если во Франции критики не спешили признавать этот роман сколько-нибудь образцовым и порой даже рекомендовали Констану посвятить себя политике, а художественную литературу оставить в покое, то Пушкин считал возможным заимствовать у Констана целые фразы или синтагмы для выражения собственных чувств9898
В недатированном французском наброске, которое считается письмом к Каролине Собаньской от января-февраля 1830 года, он апеллирует к «жгучим чтениям» своих юных лет и – пренебрегая печальным концом констановской героини – именует свою корреспондентку Элленорой [Пушкин 1937–1959: 14, 64]. Т. Г. Цявловская предполагала, что в 1822–1823 годах Пушкин перечитывал «Адольфа» вместе с Собаньской [Рукою Пушкина 1935: 200]; ср.: [Вольперт 1998: 126–129]. Впрочем, по предположению Е. О. Ларионовой (доклад на Шестых Эткиндовских чтениях 2010 года; см.: [Мильчина 2019а: 433–435]), эти французские тексты – наброски не письма, а какого-то неоконченного прозаического произведения.
[Закрыть] и чувств своих героев9999
Онегинское «чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я» – это, как указала Ахматова, парафраза констановского «но мне необходимо вас видеть, если я должен жить» [Ахматова 1989: 79; Констан 1831: 50; Констан 2006: 49].
[Закрыть]. Работая над «Онегиным» и набросками повестей, Пушкин ищет русских соответствий для констановского способа выражения чувства – того языка, который он называл языком «метафизическим» и «светским». Создания этого языка он ждет и от Вяземского как переводчика Констана.
Слово «метафизический» заслуживает отдельного комментария. В устах французских критиков Констана (в частности, тех, кто рецензировал первое издание «Адольфа») оценка его стиля как «метафизического» звучала скорее неодобрительно; в слове «метафизический» в этом случае акцентировались такие его значения, как «чересчур изощренный анализ чувств» и «стиль предельно отвлеченный и туманный, а потому темный и непонятный» [Littré 1968: 3863–3864; Trésor 1985: 729–730]. Именно так оценивал «Адольфа» критик Л.‐С. Оже, автор рецензии, опубликованной 27 июня 1816 года в «Journal général de France». «Разумеется, – писал он, – в новом сочинении г-на Бенжамена Констана видно много ума и знания сердца человеческого. К несчастью, автор принадлежит, во всяком случае в том, что касается формы, к школе романтической, наполовину страстной, наполовину метафизической, которую возглавляет в наших краях г-жа де Сталь. Исследование чувств и мыслей у подобных авторов изощрено порою сверх всякой меры, и зачастую они грешат не только темнотою выражений, но и дурным вкусом» (цит. по: [Delbouille 1971: 393]). Итак, метафизический стиль – это разбор чувств, мелочный и изощренный сверх всякой меры. Во французском языке с XVІІІ века существовало и другое слово для обозначения подобного стиля; это «мариводаж» (marivaudage), слово, образованное от имени драматурга и прозаика Мариво, который считался мастером такого анализа (см.: [Deloffre 1967]). Слово это употреблялось во Франции для характеристики прозы Констана100100
Стендаль в короткой рецензии 1824 года на третье издание «Адольфа» определял этот роман как «трагический мариводаж» [Stendhal 1997: 231].
[Закрыть], Констан и сам, пустившись однажды в долгие рассуждение психологического свойства, просил у своего корреспондента прощения за «меланхолический мариводаж» [Constant 1906: 260; письмо к П. де Баранту от 9 июня 1808 года], однако эта сконфуженная интонация свидетельствует: «мариводаж» – не то, чем можно гордиться. Для французов эпохи Констана, таким образом, ни «мариводаж», ни «метафизический» – не комплименты. И то и другое – определения стиля как чересчур мелочного, витиеватого и темного, с той разницей, что «мариводаж» – это мелочность и темнота, известная еще в XVІІІ веке, а «метафизический» стиль – это темный стиль новой, романтической школы, школы приверженцев немецкой философии (главной пропагандисткой которой выступала г-жа де Сталь). Сент-Бёв в 1858 году, когда репутация «Адольфа» как шедевра французской прозы уже практически сложилась, все еще признает, что «при всем его совершенстве „Адольф“ страдает недостатками метафизической и сентиментальной школы, господствовавшей в пору его создания» [Sainte-Beuve 1861: 168].
В России акценты расставляются иначе. «Метафизический» в словоупотреблении Пушкина и его круга – положительная, одобрительная характеристика языка для анализа чувства; тот же анализ, произведенный неудовлетворительно, с чрезмерной мелочностью и манерностью, получает у Пушкина определение «marivaudage» [Томашевский 1960: 398–400; Мильчина 2004: 415–440].
Под тем метафизическим языком, созданию которого, по Пушкину, должен был послужить перевод «Адольфа», понимался язык не для обозначения бытовых реалий, а для отвлеченного, абстрактного разговора, причем разговора светского, то есть такого, который посвящен не столько проблемам мироздания, сколько тонким оттенкам чувства.
На том, что именно Вяземский призван создать этот метафизический светский язык, «зарожденный» в его письмах, Пушкин настаивал еще в 1822 году (см. его письмо к Вяземскому от 1 сентября 1822 года). Пушкину вторил Баратынский: «Чувствую, как трудно будет переводить светского „Адольфа“ на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительности выражений и стараться только, чтобы коренной их смысл совершенно соответствовал мысли, которую хочешь выразить. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык»; «для меня чрезвычайно любопытен перевод светского, метафизического, тонко чувственного „Адольфа“ на наш необработанный язык» [Баратынский: 226, 235; письма от мая – конца июня и от декабря 1829 года]. О «светской, так сказать, практической метафизике», выраженной в «Адольфе», причем не сугубо французской, а общеевропейской, писал в предисловии к переводу и сам Вяземский.
«Светский», однако, в случае Вяземского вовсе не был равносилен «гладкому», безупречно правильному. Вяземский слишком любил «наездничать» над родным языком, чтобы переводить гладко и ровно101101
Погодин еще до появления «Адольфа» Вяземского, по прочтении пушкинского «анонса» в «Литературной газете», писал: «Заметим, что князь Вяземский так оригинален, так негибок, что не скроется ни в каком переводе, а это достоинство писателя – уже недостаток в переводчике» [МВ 1830: 1, 316].
[Закрыть]. Он считал неправильности своего языка не недостатком, а, напротив, приметою современности; в письме к А. И. Тургеневу от 30 января 1822 года он утверждал: «Я в письме к Карамзину называю некоторые свои пятна родимыми пятнами. Этих стирать не должно, а не то сотрешь кожу и будешь с ободранною рожею. Нынешние французские писатели: Benjamin [Констан], Étienne, Guizot, Kératry, Bignon так ли пишут, как блаженныя памяти Batteux и другие писатели légitimes [зд. классики]? Тут делать нечего: политические события и перья очинили на другой лад. Живописный, неровный, остроконечный слог Монтаня более подобает нам, чем другой, округленный, чинный…» [ОА 1899: 2, 242].
В переводе Вяземского многие обороты царапают глаз, однако, как это ни парадоксально, лучше ощутить, что именно чувствовали первые читатели Констана, сегодняшний читатель может, знакомясь с текстом «Адольфа» по шероховатому переводу Вяземского, а не по профессиональному и гораздо более правильному переводу А. С. Кулишер (первое изд. – 1959). Нынешним французам язык «Адольфа» кажется совершенно классическим, прозрачным [Brunot 1968: 127–128], современники же Констана смотрели на дело иначе; выше уже шла речь о том, что им «метафизичность» констановского стиля отнюдь не казалась достоинством.
Эти критики исходили в своих оценках из того, что Констан – не коренной француз и вдобавок связан с г-жой де Сталь – пропагандисткой иноземных литератур; да и сам Констан в предисловии к своему переводу шиллеровского «Валленштейна» (1809) признался в своей симпатии к немецкой словесности, которую в некоторых отношениях ставил выше французской [Эстетика 1982: 257–280]. То есть Констан имел репутацию человека, сочувствующего новой школе, которую уже тогда с легкой руки г-жи де Сталь называли «романтической». Поэтому критики-традиционалисты с особым вниманием искали в тексте «Адольфа» выражения непривычные, неправильные, выбивающиеся из классической традиции, обличающие «романтический» или «космополитический» вкус Констана102102
Рецензия Л.-С. Оже в «Journal général de France» от 27 июня 1816 года; цит. по: [Eggli, Martino 1933: 473, 476]. Тот факт, что Констан родился в Швейцарии, давал критикам дополнительные основания отыскивать в его языке «германизмы» и «гельветизмы». Образцом классической французской прозы, ясной и прозрачной, Констан был признан лишь во второй половине XIX века; см.: [King 1979; Adolphe 2016].
[Закрыть]. Искали – и, разумеется, находили. Критику пуристов вызывали в первую очередь выражения, в которых абстрактное соединялось (резко и неожиданно) с конкретным и которые были особенно заметны на фоне разреженной, абстрактной словесной атмосферы романа, где очень мало существительных, обозначающих материальные предметы, и вообще отсутствуют прилагательные, обозначающие цвет (кроме «сероватого небосклона» в главе седьмой) [Delbouille 1971: 273–279]; где внешний материальный мир если и появляется, то только в сравнениях (с ним сравниваются чувства и душевные движения).
Например, аббат де Фелетц103103
Давний оппонент Сталь и Констана, в 1807 году отреагировавший неприязненной рецензией на роман г-жи де Сталь «Коринна» и вызвавший ответную реплику Констана, многие тезисы которой вошли затем в позднюю статью Констана «О госпоже де Сталь и ее произведениях»; см.: [Сталь 2017: 210–211; Эстетика 1982: 248–257].
[Закрыть] 9 июля 1816 года в газете «Journal des Débats» обвинял Констана, «неумелого сочинителя романов», в том, что язык у него далеко не всегда отличается «чистотой и естественностью», и в качестве примера «выражений весьма диковинных» приводил фразу из второй главы «Адольфа»: «Je pensais faire en observateur froid et impartial le tour de son caractère et de son esprit» [Delbouille 1971: 394; курсив Фелетца]. В современном переводе эта фраза звучит нейтрально и особого внимания к себе не привлекает: «Я думал, что смогу в роли холодного, беспристрастного наблюдателя изучить ее характер и ее ум» [Констан 1982: 90]. Иначе у Вяземского: «Я предполагал обойти наблюдателем холодным и беспристрастным весь очерк характера и ума ее» [Констан 1831: 33; Констан 2006: 44]. Очевидно, что Вяземского тоже смутила констановская метафора; он не смог написать «Обойти характер и ум ее» и уточнил: «обойти… очерк», но фраза все равно осталась неправильной и негладкой – то есть именно такой, какой она казалась пуристам-современникам во Франции.
Аналогичный случай – с началом главы десятой («J’avais rejeté dans le vague la nécessité d’agir»). Упомянутый выше рецензент Оже привел ее в доказательство отсутствия у Констана-романиста «естественности, тонкости, непринужденности и плавности, которые пристали творцам изящной словесности». В переводе Кулишер эта фраза звучит нейтрально: «Необходимость действовать я отдалил на неопределенный срок» [Констан 1982: 140]; в переводе Вяземского она приобретает вызывающий вид за счет употребления глагола гораздо менее отвлеченного: «Необходимость действовать откинул я в неопределенность» [Констан 1831: 18; Констан 2006: 83].
Порой Вяземский употребляет подобные чересчур конкретные глаголы даже там, где оригинал не дает для этого оснований; например: «Все мои речи прилипали к языку моему…» [Констан 1831: 34; Констан 2006: 45]104104
В оригинале: «Tous mes discours expiraient sur mes lèvres», довольно точно переведенное Кулишер как «слова замирали на моих устах» [Констан 1982: 91].
[Закрыть], однако в основном подобные фразы точно соответствуют оригиналу. Эта точность – следствие избранного Вяземским переводческого метода, который он в предисловии назвал «подчиненным» и который определил как стремление переводчика сохранить не только «смысл и дух подлинника», но и «самые формы, разумеется, соображаясь со стихиями языка, который у него под рукою» [Констан 1831: XXV; Констан 2006: 34]105105
Метод этот Вяземский применил в переводе не впервые; о необходимости «переводить как можно буквальнее» и «подавать пример самоотвержения», думая более о переводимом подлиннике, чем о самом себе, он писал еще в 1827 году в статье о сонетах Мицкевича [Вяземский 1984: 71–72].
[Закрыть].
Именно этот метод имел в виду Баратынский, который прочел рукопись перевода и сделал некоторые стилистические замечания. До нас дошло одно из них; оно касалось фразы из главы четвертой: «Выгадаем несколько дней, выгадаем несколько часов…». Словом «выгадаем» Вяземский обязан совету Баратынского, который в конце мая или июне 1829 года писал переводчику «Адольфа»: «Я не согласен, однако, на слово выторгуем. Оно принадлежит известному ремеслу, а потому неприлично светской даме. Не лучше ли выгадаем как более общее?» [Баратынский 1998: 267]. Это – одна из тех поправок, о которых Вяземский вспоминал в сделанной в 1876 году приписке к предисловию к своему «Адольфу», не попавшей в печатный текст: «…в самой рукописи сделаны были Баратынским некоторые изменения слов, впрочем незначительные» (цит. по: [Гиллельсон 1969: 185]). Вяземский, таким образом, послушался Баратынского и убрал слово «выторгуем» из текста, между тем в принципе оно своей «материальностью» прекрасно вписывалось в стилистику его перевода – и констановского оригинала, каким его воспринимали современники. Кстати, Баратынский после прочтения предисловия пересмотрел свою позицию: «Я перечитал „Адольфа“ на досуге. Вы избрали лучшую систему перевода, именно полезнейшую для языка. Когда Вы мне прислали вашу рукопись, я не понял вашего намерения, вот почему замечания мои были истинно бестолковы» [Баратынский 1998: 267].
«Подчиненный» перевод Вяземского помог ему передать и еще одну особенность констановского текста – его афористичность, по поводу которой Вяземский писал: «Возьмите наудачу любую фразу: каждая вылита, стройна, как надпись, как отдельное изречение» [Констан 1831: XXІІ; Констан 2006: 33], а исследовательница XX века говорила об «авторском анализе, сгущающемся от времени до времени в резко очерченные афоризмы» [Гинзбург 1977: 279].
Вяземский старается переводить эти афоризмы, оставаясь как можно ближе к французскому оригиналу, и зачастую результет оказывается очень удачен. Приведу несколько примеров: 1) «уверенный в годах, я за дни не спорил» [Констан 1831: 73; Констан 2006: 55; в ориг. «je me croyais sûr des années, je ne disputais pas les jours»]; ср. у Кулишер гораздо более рыхлую и многословную конструкцию: «уверенный, что грядущие годы в моем распоряжении, я старался не омрачать оставшиеся дни» [Констан 1982: 103]; 2) «я остановился; подаваясь обратно, отрицал, изъяснял» [Констан 1831: 80; Констан 2006: 56; в ориг. «je m’arrêtai, je revins sur mes pas, je désavouai, j’expliquai»]; ср. у Кулишер более многословно и без соблюдения ритма фразы: «я остановился, я пошел на попятный, я стал отрицать все, что сказал, давать новые объяснения» [Констан 1982: 106]; 3) «Любовь была всею жизнью моею: она не могла быть вашею» [Констан 1831: 197; Констан 2006: 85; в ориг. «L’amour était toute ma vie: il ne pouvait pas être la vôtre»]; ср. у Кулишер «разъясняющую» и гораздо более аморфную конструкцию: «Любовь заполнила всю мою жизнь; твою жизнь она не могла заполнить» [Констан 1982: 143–144].
Подчеркну, что я вовсе не стремлюсь принизить значение перевода А. Кулишер. Он сделан превосходно, однако, как справедливо заметила ее коллега, он ориентирован на стиль гармоничной пушкинской прозы [Андрес 1965: 118–121]; меж тем французский «Адольф» был в глазах современников не так прозрачен и строен, как проза Пушкина в наших глазах, и именно поэтому перевод Вяземского открывает в тексте «Адольфа» те грани, которые не видны в отличной работе Кулишер.
Преимущества «подчиненного» перевода Вяземского выступают еще ярче при сравнении его не с профессиональным переводом ХХ века, а с переводами современников. В издании 1818 году текст «Адольфа» переведен не только с французского на русский, но и из одного культурного и интонационного регистра в другой; строгое, абстрактное письмо Констана обретает стараниями анонимного переводчика черты низовой «чувствительной» прозы.
Что же касается Полевого, то можно согласиться с выводами Л. И. Вольперт, специально сравнивавшей его работу с работой Вяземского: перевод, напечатанный в «Московском телеграфе», не переделка и в конечном счете не неудача; Полевой несколько упрощает и огрубляет Констана и в том, что касается синтаксиса, и в том, что касается передачи эмоций (внося «известную долю аффектации» [Вольперт 1970: 173]), но в целом ряде мест его перевод не так уж сильно отличается от перевода Вяземского. Принадлежность Вяземского и Полевого к противоположным литературным лагерям заставила каждого из них относиться к труду соперника с предельной недоброжелательностью. Рецензент «Московского телеграфа» не без чуткости отмечает все те фразы, в которых «подчиненность» перевода заставила Вяземского поступиться ясностью, однако приговор журнала, издаваемого Полевым: «Пламенный, глубокий, красноречивый Б. Констан говорит по-русски каким-то ломаным языком, на который наведен лак сумароковского времени <…> перевод кн. Вяземского нехорош: тяжел, неверен, писан дурным слогом» [МТ 1831: 41, 544], – пристрастен и несправедлив.
***
Вяземский и Пушкин увидели в «Адольфе» то, чего не хотели видеть в нем его первые французские критики и даже сам автор. Роман автобиографический (современники-французы были прежде всего озабочены поисками в «Адольфе» житейских обстоятельств самого Констана) и стилистически небезупречный предстал в русском контексте романом о типичном герое века, романом, слог которого безупречен и призван стать образцом для русской прозы. Резкий и «подчиненный» перевод Вяземского безупречным назвать нельзя, но его неправильности парадоксальным образом позволяют нам взглянуть на «Адольфа» глазами его первых французских читателей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































