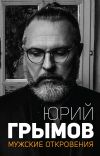Текст книги "Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары"

Автор книги: Вернер Херцог
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В Захранге мы, дети, научились ловить форель голыми руками. При появлении людей форель прячется под камни или нависающие края берега, поросшие травой, и там замирает. Если вы осторожно нащупаете рыбу двумя руками одновременно, а затем резко схватите, вам действительно удастся ее поймать. Часто, чувствуя голод, мы ловили одну-две рыбы утром по пути в школу вдоль Принбаха, засовывали их на время уроков в неглубокую закопанную в землю емкость и на обратном пути забирали с собой. Потом мама жарила их на сковороде. Помню, как они, только что обезглавленные, извивались во время жарки. Некоторые продолжали прыгать и на сковороде – я вижу это ясно, как сейчас. Наша жизнь в основном проходила на свежем воздухе, мама каждый день без лишних слов выставляла нас на улицу по меньшей мере на четыре часа, даже в самую холодную зиму. Когда темнело, мы уже мерзли в мокрой одежде перед дверью, с головы до ног в снегу. Ровно в пять дверь открывалась, и мама без церемоний веником сметала с нас снег, прежде чем пустить в дом. Она считала, что детям полезно бывать на улице, и мы прекрасно проводили время – еще и потому, что в деревне тогда почти ни у кого не было отцов, как и у нас самих, и везде царила анархия в лучшем смысле слова. И сам я был несказанно рад, что у нас дома нет фельдфебеля, который указывал бы нам, как себя вести.
Мы учились всему без инструкций.
Помню мертвого теленка из соседнего Штурмхофа. Он лежал в снегу на опушке леса. Шесть лисиц, а то и больше, рвали тушу, а когда я подошел, разбежались. Пока брат обходил тушу, еще одна лисица вдруг выскочила из разодранного брюха, припала задом к земле и, не выпрямляясь, отпрыгнула прочь. Застигнутые врасплох, лисы бегут, припадая к земле. Много позже, в 1982 году, я шел однажды по лесной тропе, как всегда вдоль границы Германии, и вдруг почувствовал лисий запах – откуда-то спереди, оттуда дул ветер, – а за первым же крутым поворотом довольно близко увидел лисицу, которая, ничего не подозревая, тихонько трусила вперед. Двигаясь очень тихо, я почти догнал ее, и тут она обернулась, мгновенно присев, опустила зад очень низко, – казалось, прислушивается к тому, застучит ли вновь ее замершее было сердце, – и только после этого побежала, все еще сутулясь.
Осторожность следовало проявлять только осенью, когда у оленей гон. Однажды разъяренный олень напал на велосипедиста; тот хотел укрыться под небольшим мостом, но ошалевшее животное последовало за ним. И только пустые жестяные банки, которые там валялись и неплохо гремели, помогли его отогнать. Бывали и загадочные встречи. Однажды средь бела дня, брат тому свидетель, весь склон холма за нашей хижиной вдруг заполнился ласками, и все как одна мчались к ручью. Не думаю, что мне это приснилось, хотя такое объяснение никогда нельзя исключать. В другое время мы видели одну ласку за раз, иногда – двух, но в тот раз их было, наверное, несколько десятков. Подобные массовые исходы известны у леммингов, но что ласки могут вести себя так же, я никогда не слыхал. Некоторые из них тогда попрятались между бревнами в куче дров, я пошел их искать, но не нашел ни одной. Все окружающее было исполнено тайны. На другом берегу ручья, по дороге в деревню, стоял высокий еловый лес, заколдованный лес, в который мы заходить не решались. В узком ущелье за домом был водопад: одна ступенька и под ней небольшое озерцо, всегда заполненное прозрачной ледяной водой. Иногда в это озерцо валились вековые деревья, придавая пейзажу доисторический вид. Там я увидел, как Штурм Зепп купается голышом и трет тело платяной щеткой. Он вовсе не был похож на человека – скорее на дуб-великан с развевающимися по ветру плетями ветвей.
3. Мифические герои
Штурм Зепп – один из мифических персонажей нашего детства. Он работал на ферме в соседнем Штурмхофе. С возрастом его согнуло от поясницы едва ли не под прямым углом. Но нам он казался гигантом, словно вышел из туманной древности еще до начала времен. У него была окладистая седая борода, изо рта обычно свисала большая трубка. Какого он был бы роста, не будь так сильно согнут, мы могли догадываться по его велосипеду. Седло было установлено над рамой так высоко, что только настоящий богатырь мог дотянуться оттуда ногами до педалей. Штурм Зепп был немым. Никто не слышал, чтобы он разговаривал. По воскресеньям в таверне перед ним, не дожидаясь заказа, ставили его пиво. Мы, дети, дразнили его, и по дороге в школу, завидев, как он, согнувшись в три погибели, косит луг по ту сторону забора, напоминая какое-то древнее существо, кричали «Привет, Зепп!» и повторяли снова и снова в надежде вытянуть из него хоть слово в ответ. Однажды, когда казалось, что он спокойно косит, он вдруг цапнул кончиком косы Бригитту из Бергерхофа, которая оказалась к забору ближе всех, и попал куда-то в середину тела. «Ха, вот тебе!» – вскричал тогда он, и это было единственное, что он сказал за последние несколько десятков лет. К счастью, кончик косы пронзил лишь жестяную миску с обедом. С тех пор мы держались от него подальше. Нам удалось разузнать, как Штурма Зеппа согнуло в три погибели. Зимой он приволакивал с горы бревна. Однажды, когда лошадь рухнула от изнеможения, он взвалил огромное бревно себе на плечи и с тех пор навсегда остался согнутым пополам.
Похожих загадок и тайн было множество. Не знаю, верно ли это мое воспоминание, но я отчетливо вижу мужчину, который стоит у ручья за нашим домом, уже в темноте. Чтобы согреться, он развел большой костер. Его лицо от этого кажется красным. Он смотрит в огонь. Кто-то говорит, что это дезертир и что утром он убежит в горы. Могу ли я помнить такое, не был ли я тогда слишком мал для того, чтобы помнить все самому? Еще там была ведьма, которая однажды вдруг подскочила к нам и, схватив меня, побежала, но мама догнала ее и вырвала меня из ее когтей, и я теперь точно не буду писаться в штаны, а буду вовремя ходить на горшок. У меня было пигментное пятнышко на правой руке, и я нисколько не сомневался, что это ведьма меня тогда укусила. Помню одну ночь, которая уж точно была на самом деле: мама вытащила тогда нас с братом Тилем из постелей, завернула в одеяла, потому что на улице было холодно, и поднялась вместе с нами немного по склону вверх, откуда открывался хороший вид. «Вы должны это видеть, дети, – сказала она, – горит Розенхайм». В конце войны союзные бомбардировщики спалили Розенхайм дотла зажигательными снарядами – они возвращались через Альпы к своим военным аэродромам, из-за плохой погоды так и не сумев точно распознать свои цели. Говорят, что они сбросили бомбы на вражеский немецкий город будто бы просто для того, чтобы избавиться от груза. Картина, которую мы видели в детстве, до сих пор у меня перед глазами. В самом конце долины, на севере, все небо светилось красным, оранжевым и желтым, и это не были отблески, как от огня, медленно пульсировал светом весь видимый небосвод – это было зарево от пожара в Розенхайме, в сорока километрах от нас. Словно гигантский тлеющий уголь, город вовлекал все ночное небо в пульсацию гибели. Название «Розенхайм» ничего мне тогда не говорило, но с того момента я осознал, что снаружи, за границами нашего мира, за пределами долины, есть другой мир, опасный и жуткий. Не то чтобы я испугался этого мира – скорее он пробудил во мне любопытство.
Одна загадка из тех времен до сих пор не дает мне покоя: однажды над горой за нашим домом долго кружил самолет, словно что-то искал. Потом, мы это хорошо разглядели, что-то сбросил – с виду механическое, блестящее, будто из светлого металла, например алюминия. Теперь я уже не могу с полной уверенностью сказать, болталось оно на парашюте или на чем-то вроде воздушного шара. За ним развевался хвост для маркировки, который, казалось, перемещается от одной вершины дерева к другой. Люди в долине тоже видели это, но поскольку уже смеркалось, поисковая группа из нескольких мужчин отправилась туда только на следующее утро. Их не было целый день, и вернулись они поздно вечером, уже в темноте. Нам, детям, было ужасно интересно, но никто не хотел ничего рассказывать. Похоже, нашли что-то таинственное, о чем нам нельзя было знать. Что-нибудь военное? А то и вообще нечто нездешнее, привет из какого-нибудь чужого, далекого мира?
Но даже на идиллических просторах Захранга нас подстерегали опасности. И через несколько лет после окончания войны мы находили оружие, брошенное или спрятанное бежавшими немецкими солдатами. Когда Германию, уже окруженную со всех сторон, стали все крепче сжимать в кольцо наступавшие союзные войска, в конце концов осталось лишь несколько крошечных не занятых ими анклавов: один, я думаю, в Тюрингии, другой – на севере, около Фленсбурга, и, наверное, самый последний – Захранг вместе с Куфштайном по ту сторону австрийской границы и горами Кайзергебирге неподалеку. К нам забредали последние отставшие от войска солдаты, но приходили и группы «оборотней», которые после войны хотели вести партизанскую деятельность, сбрасывали тут форму и обменивали ее на гражданскую одежду. Оружие часто прятали в сене или внутри поленниц. Мать рассказывала, что в Бергерхофе как-то случился большой переполох – солдаты американских оккупационных сил нашли оружие у фермера в амбаре. Ему пригрозили расстрелом, но на помощь пришла моя мама, говорившая по-английски. Он действительно знать не знал о тайнике. Я и сам однажды нашел под кучей дров пистолет-пулемет и теперь уже не могу сказать наверняка, стрелял из него на самом деле или нет, но в воображении точно не раз отправлялся с ним на охоту. Однажды я видел, как дорожный рабочий из такого же оружия палил по стае ворон на пашне и одну прикончил. Убитых птиц рабочие подбирали и варили из них что-то вроде супа в большой кастрюле. Поскольку я был голоден, я подсел к ним и впервые в жизни увидел несколько кружков жира на поверхности варева – это была сенсация. Но супа мне так и не дали. Потом мы, дети, возились и с карбидом, делали собственную взрывчатку. Лучше всего взрывы удавались в бетонной трубе, проложенной под проселочной дорогой. Сами мы стояли на дороге прямо над трубой и испытали странное чувство, когда взрыв слегка нас приподнял. Я смутно припоминаю, как мама созвала нас всех, включая наших друзей, и у нас на глазах выстрелила из пистолета в толстое буковое полено, так что щепки вылетели с другой его стороны. Это было так впечатляюще, что уже не надо было вслух ничего запрещать. Мы все поняли. С этого момента стало ясно, что никогда в жизни мы не направим ни на кого оружие, хоть заряженное, хоть нет. Пусть даже оно было бы игрушечное.
Я принадлежу к поколению, место которого в истории по-своему уникально. И до нас люди переживали великие повороты – например, переход от замкнутого европейского мира к миру после открытия Америки или от процветания ремесел к индустриальному веку, – но всякий раз в жизни отдельного человека был один-единственный грандиозный переворот. Мне же, хотя я сам не принадлежал к крестьянской культуре, довелось наблюдать, как вручную убирают поля, косят траву, лошади тянут возы с сеном – их нагружали большими вилами – и свозят на сеновалы. Я еще застал людей, работавших как крепостные в далекие времена феодального Средневековья. И потом я впервые увидел механическую сеноворошилку, которую везла лошадь, но которая сама подбрасывала сено вилами, установленными параллельно друг другу, увидел первый трактор, а позднее – с огромным удивлением – и первый доильный аппарат. Я наблюдал переход к промышленному сельскому хозяйству. А еще много позже я видел обширные угодья на Среднем Западе Америки, где огромные комбайны, двигаясь строем, убирали поля шириной в несколько миль. Этих чудовищ никто не тревожил, хотя каждый зерноуборочный комбайн по-прежнему «пилотировался» человеком. Все они были объединены в единую цифровую сеть, в каждой кабине было несколько компьютерных экранов, а управление осуществлялось автоматически через GPS, что делало возможным математическое совершенство линий. Если бы человек сам крутил руль трактора, траектория машины стала бы не совсем прямой, и в результате все трактора, шедшие по полю, выписывали бы кривые. Используемые семена подверглись генетической обработке. Наконец, несколько лет тому назад я увидел первое полностью роботизированное хозяйство, где люди не задействованы вообще: роботы сами высеивают семена в теплицах, поливают, регулируют освещение и температуру, собирают и упаковывают готовый продукт для отправки в супермаркеты.
И мне же выпало пережить огромные потрясения в области коммуникации, начиная с архаических стадий ее развития. Помню, я лично знавал служащего в мэрии Вюстенрота в Швабии, в нескольких часах езды от Мюнхена и Захранга, где мы с братом целый год прожили у отца. В Вюстенроте был городской глашатай, или герольд. Мне кажется, в немецком языке для этой должности теперь вообще нет слова, хотя в английском все еще используется выражение town crier. На моих глазах он прошел тогда через всю деревню по дороге в Райтельберг и несколько раз звонил в колокольчик, чтобы привлечь внимание. Через каждые четыре дома он останавливался и кричал: «Довожу до вашего сведения!», а затем громко провозглашал распоряжения властей и назначенные ими сроки. С ранних лет я знал, что такое газета и радио, хотя у нас бывали перебои с электричеством. В то же время я долго не видел кино, вообще не имел о нем представления. Я даже не знал, что оно существует, пока однажды в единственном классе деревенской школы Захранга не появился человек с передвижным проектором, который показал нам два фильма, тогда меня, кстати, совершенно не впечатливших. Телефона в нашей деревне тоже не было, а первый в жизни звонок я сделал в семнадцать лет. Телевизоры вошли в наш быт только в шестидесятые, и мы впервые посмотрели телепередачу только в Мюнхене, в гостях у обитавшего этажом выше семейства домоправителя – не помню, что это было, то ли выпуск новостей, то ли трансляция футбольного матча. И я же стал свидетелем начала цифровой эры, интернета, контента, создаваемого не людьми, а алгоритмами. Я получал электронные письма, написанные роботами. Социальные сети коренным образом изменили человеческое общение, пусть даже я сам ими не пользуюсь. Видеоигры, видеонаблюдение, искусственный интеллект – прежде резкие изменения никогда не шли такой сплошной чередой, и я не могу представить, что будущим поколениям доведется пережить столь же много фундаментальных потрясений на протяжении одной жизни.
Наше детство словно бы проходило в древние времена. У нас не было проточной воды, и приходилось ходить с ведром к колодцу на улице, который зимой в сильные морозы часто замерзал. К дому был пристроен деревенский туалет – домик, внутри которого была обыкновенная деревянная доска с дырой в ней. Из-за того, что щели в досках пристройки были плохо заделаны, зимой внутри домика нередко наметало сугробы, и тогда мама просто ставила ведро в прихожей, а в сильные морозы все в этом ведре смерзалось в сплошной ком. Отапливалась у нас вообще только кухня, где была небольшая дровяная печка. В соседней крошечной комнатке, всего метра два в ширину, где мы с братом спали на двухъярусной кровати, как и в спальне матери, никакого отопления не было. Не было у нас и нормальных матрасов. Мама не могла их купить и придумала им замену. Мешки из грубой ткани она наполняла сушеным папоротником, который тоже заготавливала сама. А у папоротника, срезанного косой, иногда под углом, попадались очень острые концы. В высушенном виде эти стебли становились твердыми и острыми, как заточенные карандаши, и мы просыпались от боли всякий раз, когда ворочались во сне. К тому же сушеный папоротник быстро сбивался в комки, и даже сильное встряхивание не спасало матрас от волн и горбов, которые были жесткими, как бетон. На этих кочках и ямах я и проспал все детство, ни разу не уснув на ровной поверхности. Зимой по ночам иногда становилось так холодно, что одеяла, которые мы натягивали на голову, покрывались коркой льда на том краю, где мы оставляли отверстие, чтобы дышать. Спальня была так мала, что между двухъярусной кроватью и стеной помещался только один стул. Наверху, почти под потолком, была полка, где хранились яблоки. У нас в комнате вечно стоял этот яблочный дух. Зимой яблоки сморщивались и замерзали, но после оттаивания их все еще можно было есть.
Доктора у нас почти не бывали, но мою маму все в деревне принимали за врача, поскольку у нее была докторская степень, хотя она не раз пыталась разъяснить это недоразумение. Степень она получила как биолог. Ее научным руководителем был будущий нобелиат Карл фон Фриш, а диссертацию она писала о слухе у рыб. Для этого она проигрывала на блокфлейте разные мелодии перед лабораторным аквариумом и обучала рыб по-разному реагировать на них: либо уплывать, либо с любопытством приближаться к поверхности, потому что после определенной мелодии их ожидала награда – корм. Но в экстренных случаях, однако, в деревне всегда бежали за ней. Как-то соседский мальчик лет четырех потянулся за большой кастрюлей, стоявшей на плите, хотел ее снять, но кастрюля накренилась, и кипяток вылился прямо на него, ошпарив от подбородка вниз – по шее и груди вплоть до самых бедер. Ожоги были страшные, маму вызвали, когда у мальчика перестало нормально биться сердце. Она была не из робких и ввела ему дозу адреналина через грудину прямо в сердечную мышцу. Он выжил. Годы спустя как-то раз прямо посреди урока в школе он даже снял рубашку, чтобы показать мне покрытое шрамами тело. Детская смертность была высокой. В Бергерхофе молодой фермер Бени и его жена Розель теряли одного ребенка за другим сразу после рождения. Новорожденные умирали из-за несовместимости крови, которую теперь умеют исправлять немедленным общим переливанием. В конце концов они удочерили девочку по имени Бригитта, дочь оккупанта[4]4
Дети оккупации (Besatzungskinder) – дети, родившиеся у немок от солдат оккупационных армий между 1945 и 1955 годами; по новейшим оценкам, их было не менее 400 тысяч. В фильме Билли Уайлдера «Зарубежный роман» (1948), действие которого происходит в разрушенном послевоенном Берлине, в центре сюжета – любовная связь немки и американца.
[Закрыть]. Она входила в избранный круг детей Бергерхофа. Помню, как Розель, опять беременная, родила в Ашау еще одного ребенка и ее привезли домой на машине, а я все гадал, где же ребенок. С фермы в слезах выбежала Бригитта и помчалась к колодцу, чтобы умыться холодной водой. Так я узнал, что еще один новорожденный умер, уже восьмой по счету. После этого один, правда, все-таки выжил – это был Бенно, с которым я до сих пор поддерживаю связь. Бригитта потом работала в Ашау официанткой в каком-то кафе, но умерла от рака груди еще довольно молодой.
Мы с Тилем росли в большой бедности, хотя и совершенно не задумывались об этом, – разве что в первые два-три года после войны. Нам тогда все время хотелось есть, а мама не могла раздобыть достаточно еды. Ели салаты из листьев одуванчика, мама делала сироп из подорожника и свежих побегов сосны. Первый больше походил на лекарство от кашля и простуды, второй заменял сахар. Один-единственный раз в неделю мы брали у пекаря в деревне половину батона – он полагался нам по талону на питание. Мама ножом отмечала на нем деления на каждый день, с понедельника по воскресенье, и получалось, что на каждого приходится по одному ломтю хлеба в день. Но когда голод одолевал нас по-настоящему, мы получали завтрашние кусочки вперед срока – ведь мама всегда надеялась найти для нас что-нибудь еще, – и чаще всего хлеб просто заканчивался к пятнице, а нас ожидали особенно тяжкие суббота и воскресенье. Мне навсегда врезался в память один эпизод: как-то раз мы с братом вцепились в мамину юбку и оба ныли от голода. Она отшвырнула нас, резко отвернулась и обернулась вновь, а ее лицо выражало гнев и отчаяние, каких я не видел ни до, ни после. А затем очень спокойно, полностью держа себя в руках, она сказала: «Мальчики, если бы я могла срезать вам мяса с собственных ребер, я бы срезала – но не могу». В тот момент мы научились никогда не ныть. Культуру жалости к себе я на дух не переношу.
Бедность была повсюду и совсем не казалась нам странной, за исключением отдельных редких моментов. В деревенской школе, в общем помещении для первых четырех классов, где все учились одновременно, были дети, нуждавшиеся гораздо сильнее нас, – с отдаленных хуторов, расположенных на склонах выше долины. Один из них, Луи Гауцен, вечно опаздывал. Думаю, каждый день еще до рассвета ему приходилось работать дома в конюшнях, и потому он всегда задерживался. Зимой он спускался с горы на санках по крутому ущелью и появлялся в классе весь в снегу, с головы до ног, когда занятия давно уже начались. Не здороваясь и волоча за собой заиндевевшие санки, он проходил мимо фройляйн Хупфауэр, нашей учительницы, и каждый раз объяснялся одинаково: «Извините, меня выбросило на повороте». Лица его я уже не помню, но помню, как однажды в начале лета, когда Луи был все в той же куртке, от которой несло конюшней, учительница велела ему снять ее, потому что уже тепло, а Луи сделал вид, что ничего не слышал. Он проигнорировал и все повторные, уже раздраженные просьбы учительницы и в итоге схлопотал указкой по рукам. Скажу сразу, что фройляйн Хупфауэр была замечательной женщиной: даже ведя уроки по четырем разным предметам, она сумела передать нам свои знания и энтузиазм, любознательность и уверенность в себе. А указка тогда была частью образовательного инвентаря – никто не возмущался. В наказание за плохое поведение приходилось вставать на колени перед кафедрой, а за действительно серьезный проступок – коленями на полено, но мы не воспринимали это как что-то из ряда вон. Даже после этого Луи по-прежнему не хотел снимать куртку, так что все в классе, а нас было, наверное, около двадцати шести мальчиков и девочек в возрасте от шести до десяти лет, уставились на него. От этого его горе сделалось еще горше, и он принялся беззвучно рыдать. Этот немой плач до сих пор заставляет мое сердце сжиматься. Наконец Луи стянул куртку, и под ней оказалась его единственная рубашка. Она была застирана до дыр и изодрана в лохмотья, которые свисали с плеч. Тут учительница и сама заревела и помогла ему снова надеть куртку через голову.
Семьдесят лет спустя я снова встретил фройляйн Хупфауэр на встрече выпускников школы. Теперь у нее была другая фамилия, потому что за это время она вышла замуж и только недавно овдовела. Но и в свои девяносто с чем-то лет она осталась такой же сердечной и восторженной, как раньше. Когда я был ребенком, она верила в меня, говорила, что меня ожидает какая-то особенная жизнь; мама тоже помнила об этом и подтверждала не раз, когда я давно уже стал взрослым. Хотя в детстве ничто не указывало на мою необычность, разве что в отрицательном смысле. Я был тихим, довольно замкнутым ребенком, но был подвержен внезапным приступам гнева и в каком-то смысле опасен для своего окружения. Но мог я и подолгу размышлять, пытаясь разобраться, например, почему 6 умножить на 5 дает тот же результат, что и 5 умножить на 6. Тем более почему это вообще всегда так: 11 умножить на 14 дает столько же, сколько 14 умножить на 11. Почему? В числах был спрятан закон, который я долго не мог понять, пока не представил себе, как выкладываю прямоугольник в шесть рядов по пять камней в каждом, и если потом его развернуть на девяносто градусов, получится 5 рядов по 6 камней: принцип становится очевиден. Меня и сегодня занимают вопросы чистой теории чисел – например, гипотеза Римана о распределении простых чисел. Я ничего в этом не смыслю, ровным счетом ничегошеньки, потому что не владею математическим инструментарием, но считаю, что это самый важный из всех вопросов в математике, пока остающихся без ответа. Несколько лет назад я познакомился с, возможно, величайшим из ныне живущих математиков – Роджером Пенроузом и спросил его, как он подходит к математическим задачам – с помощью абстрактной алгебры или через визуализацию. Так вот, Пенроуз сначала всегда пытается представить всякую математическую проблему визуально.
Но вернемся к моему детству. Было во мне что-то темное. Хотя сам я не помню, но, похоже, я дрался с камнем в руке, и не один раз, так что мама за меня волновалась. Я был замкнут, спокоен, но что-то бушевало внутри, что-то во мне вызывало беспокойство. Понадобилась катастрофа в семье, чтобы я обуздал свою ярость. Мне было, должно быть, тринадцать или четырнадцать лет, мы уже жили в Мюнхене, когда я подрался со старшим братом Тилем. Мы всегда были и до сих пор остаемся братьями, без всяких «но», однако иногда мы отчаянно ссорились или жестоко дрались. До поры до времени это казалось естественным и приемлемым. Но в той яростной ссоре, которая, как я смутно припоминаю, произошла из-за золотистого хомячка, я впал в бешенство и ударил брата ножом. Удар пришелся в запястье, он пробовал отмахнуться, и вторым тычком я попал ему в бедро. Комната была залита кровью. Мой ужас перед самим собой потряс меня до глубины души. В мгновение ока я осознал, что должен измениться сейчас же, немедленно, а это означало строгую дисциплину. Это происшествие было слишком чудовищным. Я вызвал величайшее потрясение, какое только можно представить, и оно могло разрушить семью. Но, поскольку раны брата как будто не представляли особой угрозы, на семейном совете мы решили не везти его в больницу, что наверняка привело бы к полицейскому расследованию. Мы сами перевязали его, вытерли кровь с пола и еще долго были в неописуемом ужасе. От этой истории у меня до сих пор все внутри переворачивается. Из-за того, что колото-резаные раны так и не были стянуты и зашиты, шрамы у Тиля хорошо видны по сей день. А я с тех пор взял себя в руки, включил абсолютную самодисциплину. Голая дисциплина и сейчас составляет значительную часть моей личности. Но в отношениях между мной и Тилем до сих пор в ходу этакая грубость, резкость, нередко принимающая характер шутки, и эта резкая манера общаться временами делает наши отношения непонятными для других. Несколько лет назад наша семья воссоединилась на испанском побережье, где тогда жил мой брат. По его приглашению мы провели восхитительный вечер в рыбном ресторане, и Тиль, сидевший рядом со мной, приобнял меня, пока я просматривал меню. Вдруг откуда-то пошел густой дым, я ощутил легкую боль в спине и внезапно сообразил, что он подпалил зажигалкой мою рубашку. Я быстро сорвал ее с себя, все прочие пришли в ужас, но мы с братом громко расхохотались над шуткой, которую не мог понять никто, кроме нас. Кто-то одолжил мне футболку на вечер, а покраснение на спине охладили просекко.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?