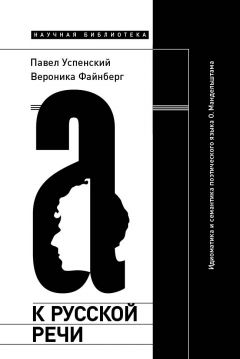
Автор книги: Вероника Файнберг
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Павел Успенский, Вероника Файнберг
К русской речи Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
Я – стилистический прием,
Языковые идиомы!
А. Белый
Его вдохновителями были только русский язык <…> да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль.
Н. Гумилев
БЕЗ ПОДТЕКСТА
КРИТИКА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА
На конференции, посвященной 100-летию О. Мандельштама (Лондон, 1991 год), состоялась дискуссия, в ходе которой участники в полемическом запале обозначили ключевые проблемы мандельштамоведения (они остаются актуальными и сейчас). Приведем длинную цитату, которую можно воспринимать как эпиграф к нашим дальнейшим рассуждениям:
Бродский. Я не думаю, что в этой самой строчке: «В Европе холодно, в Италии темно», – я не думаю, что наш поэт сопрягает Ариоста и Байрона. Это в общем-то и не надо. <…> дико для меня это выговаривать, но двусмысленность надо выговорить. <…> То есть (с нажимом) не нужно так глубоко копать, потому что это не для того написано! (Смех.) В конце концов, напомним себе, что стихи написаны, чтобы производить впечатления на умы, сердца и души людей <…>
Кацис. <…> мы же копаем не потому, что берется текст и начинается копание! Имеет место явное непонимание! И, на мой взгляд, все работы, выполненные до настоящего времени, выполнены – ну, в рамках одной, скажем так, парадигмы. <…> Ну хорошо, предположим, мне нужен Байрон – но стихотворение называется «Ариост»! А во второй его части очевиден Тасс… <…>
Шварцбанд. <…> Все-таки нам даны стихи как результат какой-то умственной жизни, как нечто целое. Поэтому мне кажется абсолютно справедливым, что та строчка, которая может напомнить что-то у кого-то, допустим, «В Европе холодно, в Италии темно» <…> Мне кажется, – для меня, по крайней мере, – вывод всей конференции именно в этом – что мы не очень четко представляем, когда мы занимаемся процессом творчества, а когда мы занимаемся результатом творчества, и все наши споры сводятся к противостоянию абсолютно разных объектов исследования, требующих абсолютно разных методик. <…>
Левинтон. При чем тут «процессы творчества»?! <…> Откуда вы знаете, что мы можем хоть слово сказать о том, откуда эти образы – как результат? Кроме единства стихотворения, и особенно у Мандельштама, есть единство мотивов, есть парадигматика мотивов, и она-то гораздо яснее. Это – то, к чему мы приходим, откуда вообще идея контекста! Мы нанизываем тексты на единство слова, которое через них проходит, и надеемся получить какой-то смысл; все остальное – просто болтовня! Все остальное, что мы можем говорить о смысле текстов, – это чистая болтовня! Мы должны… Мы ищем методы, мы к Мандельштаму близко не подошли, мы заняты первичной дешифровкой, мы учим язык! Поэтому разговоры о том, что есть какая-то психология творчества, что-то еще… Мы учимся читать! Надо осознавать свое место в истории науки и в понимании Мандельштама!
Гаспаров. Почти то же самое. Мы не изучаем процесс творчества – до этого наука психология еще не дошла; мы изучаем процесс восприятия, собственного восприятия. Поскольку мы просто читатели, – мы, конечно, не обязаны этим заниматься, но поскольку мы филологи, каждый из нас обязан дать по крайней мере самому себе отчет в том, почему он воспринимает этот текст именно так. Какие элементы текста вызывают у него какие впечатления, как они складываются в целое и так далее. И то, чем мы занимаемся на этих конференциях, – это обмен этим читательским опытом, который в совокупности должен помочь нам овладеть, как это только что сказал Георгий Ахиллович, языком поэта. Мы учим его как иностранный.
Бродский. Но это носит тогда, в конечном счете, характер автобиографический, не правда ли?
Гаспаров. Пока каждый из нас занимается этим наедине с собой – да; а когда мы общаемся друг с другом – это уже становится коллективной биографией.
Бродский (очень довольный ответом). А!… – Замечательно! (Смех.)
[Павлов 2000: 53–54].
Каждый исследователь в общих чертах сформулировал свое представление о том, как нужно изучать поэзию Мандельштама, но, как мы видим, после ироничной реплики Бродского обсуждение завершилось. Все остались при своих позициях, а коллективная рефлексия о методе не удалась, свелась к шутке. Несколько огрубляя, можно заметить, что в этой устной дискуссии целый ряд проблем – соотношения авторской и читательской перспективы, мотивного и языкового ряда, понимания и дешифровки мандельштамовских текстов, а также границы и целесообразность интертекстуального подхода – остались в зоне неразличения. Как будто ученым важнее было отстоять свои представления о том, как читать Мандельштама, а не прийти к консенсусу. Отчасти на это проливает свет еще один доклад.
На той же конференции Ю. И. Левин выступил с провокационным сообщением «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме». Демонстративный жест объяснялся тем, что с началом перестройки мир изменился, и «проблемы поэтики – и противостояния одинокого человека государственному насилию – померкли перед проблемами рынка, демократии, права, массового насилия, национализма и т. п.». Стихи Мандельштама перестали быть «ворованным воздухом», а занятие ими – «запрещенной (или полузапрещенной) сферой». Парадоксально, но свобода вызвала у Левина чувство ностальгии по прежним временам, – по «вдохновенному (или кухонному) мандельштамоведению» [Левин 1998: 154–155].
С тех пор прошло несколько десятилетий, мандельштамоведение стало разветвленной дисциплиной. Нет нужды ритуально напоминать о многочисленных книгах, сборниках, публикациях и статьях, посвященных поэту, – их действительно много. Казалось бы, отдельную область изучения Мандельштама – изучение его поэтики – можно было бы назвать процветающей, если бы не постоянное тревожное ощущение (быть может, гложущее только авторов книги), что во многих работах описывается какой-то другой Мандельштам. Даже не описывается, – конструируется. Этот Мандельштам напоминает еще не созданный квантовый компьютер. Он наделен уникальной памятью на всю мировую литературу, с помощью которой создает поэтические шифры, темные тексты, не понятные никому, кроме самих мандельштамоведов. Во многих монографических разборах его стихов обнаруживаются второй, третий, а то и четвертый скрытый, «тайный» план, и без их осознания смысл текста читателю не доступен.
Складывается впечатление, что выявление «тайнописи» мандельштамовской лирики дает сообществу возможность почувствовать коллективную идентичность, пережить радость разговора на одном языке, или, чуть более научно: легитимировать собственные практики чтения стихов.
В приведенной выше цитате из выступления Левина сейчас почти недвусмысленно считывается, что «разрешенность» занятий Мандельштамом обернулась утратой воображаемой групповой самоидентификации: раз поэтом может заняться каждый, то принципы, объединяющие сообщество, находятся под угрозой. Ореол элитарности, конечно, был оправдан сохранением культуры и практик чтения при советской власти, но это не означало, что мандельштамоведческие штудии в новую эпоху стоит прекратить.
Казалось бы, появилась возможность изучить поэта непредвзято, с должной дистанции. Однако историческое развитие мандельштамоведения в целом (хотя и были яркие исключения, например М. Л. Гаспаров), сложилось так, что научная дисциплина унаследовала сформированный инструментарий и сложившиеся практики чтения. Повторимся, что были исключения.
Важное отступление. Мы бы хотели, чтобы читатель этого текста понимал, что нам важно очертить контуры сегмента научного поля, а не составить табель о рангах и ранжировать исследователей, обозначить проблемную зону и привести критические размышления, а не аннигилировать сложившуюся традицию. Поэтому мы стараемся как можно меньше называть имен и как можно больше говорить о принципах и практиках работы с Мандельштамом. Поэтому же мы просим читателя держать в голове, что всегда были исключения.
Среди унаследованных практик толкования стихов поэта выделяются две ключевые: семантическая и интертекстуальная (в исследованиях они иногда переплетаются, но для ясности мы считаем нужным их разделять). Положения первой были проговорены в статье «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма» (1974), написанной Ю. И. Левиным, Д. М. Сегалом, Р. Д. Тименчиком, В. Н. Топоровым и Т. В. Цивьян (не раз упомянутый Левин – это важно подчеркнуть – относился к сторонникам семантического толкования стихов Мандельштама). Основные идеи второй практики были сформулированы в работах К. Ф. Тарановского и О. Ронена [Taranovsky 1976; Тарановский 2000; Ronen 1983; Ронен 2002].
Оба подхода исходили из необходимости каким-то образом объяснять стихи Мандельштама и его принципы работы со словом. Подходы объединяла идея, что Мандельштам – поэт гениальный и сложный, нуждающийся в толкователях. С этим, конечно, сложно не согласиться.
Семантический подход, говоря обобщенно, был нацелен на имманентное объяснение произведений поэта. Анализируя текст, исследователи старались формализовать смысл, исходя из логики и языка стихотворения (см., например, разборы Левина и Сегала). Интертекстуальный подход, говоря также в общем, хотя и учитывал уникальную семантику мандельштамовских стихов, базировался на том, что их необходимо толковать с помощью других, предшествующих текстов или «подтекстов».
Авторам книги близок семантический подход (см.: «Язык Мандельштама. Постановка проблемы», где сделаны необходимые оговорки) и не близок подход интертекстуальный.
Так вышло, что в постсоветском мандельштамоведении интертекстуальные построения стали доминировать, почти вытеснив семантические штудии. В каком-то смысле унаследованная смысловая практика чтения поэта проиграла унаследованной же интертекстуальной парадигме. В результате Мандельштам превратился в великого шифровальщика русской и европейской поэзии, тексты которого переливаются подтекстами, как цветами радуги.
Вот хрестоматийный пример, уже критически обсуждавшийся на другой мандельштамовской конференции (в 1992 году). «Дайте Тютчеву стрекозу», – читаем мы в первой строке стихотворения поэта, но на самом деле должны читать «Дайте Осипу стрекозу», потому что здесь имеется в виду сам Мандельштам. Можно решить, что этот случай анекдотический. Вместе с тем в нем отчетливо виден механизм интертекстуального мышления в том виде, в каком он прижился в научном поле: в тексте нечто сказано, но у сказанного обязательно есть второй, скрытый план; написанное нельзя понимать буквально – нужно выявить тайный шифр; смысл строки (или строфы, или текста) не понятен без обращения к этой тайнописи.
Нельзя сказать, что такого рода примеры – дела давно минувших дней. Так, в относительно недавней работе о поэте нам встретился аналогичный случай. Якобы в стихотворении «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…» (1937) строка «Выше голову закинь» сообщает о прокуроре Вышинском, а образ «ястребов», летающих «поверхи», – о лагерной вышке11
Разбор одного из приведенных, а также других (аналогичных) примеров см. в докладе М. И. Шапира 1992 года «Об одной тенденции в современном мандельштамоведении». URL: http://old.guelman.ru/slava/skandaly/m2.htm. Не можем не отметить, что его критика докладчика слишком персонализирована и практически не затрагивает саму интертекстуальную теорию в ее «хорошем», «правильном», «филологическом» виде. Возможность такого «чистого» существования теории у нас вызывает определенные сомнения, о чем см. ниже.
[Закрыть].
На самом деле подобных смелых наблюдений в разы больше, и все они основываются на одних и тех же принципах осмысления стихов Мандельштама.
Здесь нас можно упрекнуть в том, что мы нарочно выбрали аляповатые случаи, но саму интертекстуальную теорию они никоим образом не опровергают. Упрек, несомненно, справедливый: неудачная практика совершенно не обязательно дискредитирует теоретические построения. Поэтому, конечно, необходимо обратиться к основополагающим трудам о поэте. Однако прежде чем мы к ним перейдем, повторимся: приведенные примеры – при всей их несообразности – иллюстрируют вполне распространенные паттерны мышления о стихах Мандельштама.
Разговор об интертекстуальных практиках чтения неизбежно затрагивает специфику филологического знания и исследовательских позиций, поэтому нам периодически придется отвлекаться на небольшие отступления.
Прежде всего, нам необходимо признать, что мы не можем полностью опровергнуть интертекстуальный подход к Мандельштаму. У нас есть некоторые соображения о неубедительных и спорных аспектах теории, однако сказать, что она полностью неверна, мы не готовы. В каком-то смысле она является предметом веры, так же как, например, фрейдизм. Более того, точно так же, как психоанализ иногда убедительно объясняет явления психики, интертекстуальная теория в некоторых случаях действительно работает. Точнее было бы сказать: принято считать, что объясняет (относительно психоанализа), и принято считать, что работает (относительно подтекстов), поскольку и то и другое – результат социокультурных конвенций относительно практик осмысления человека и окружающего мира.
Авторы настоящего текста, во всяком случае, считают, что для определенных произведений Мандельштама интертекстуальные построения справедливы, например для стихотворения «Дайте Тютчеву стрекозу…» (1932), подтекстуальные составляющие которого были ярко разобраны Роненом [Ронен 2002: 32–40]. Правда, эти стихи, в отличие от многих других, действительно являются загадкой, посвященной русской поэзии XIX века, и потому не применить к ним приемы цитатного анализа было бы странно.
Словом, мы не выступаем за радикальную отмену подтекстов, но мы считаем, что их количество сильно преувеличено, а их важность раздута. Большие опасения нам внушают практики чтения, главенствующие в интерпретативном сообществе [Fish 1980: 171–173], в сообществе литературоведов, изучающих творчество Мандельштама. Доминирующий интерпретационный режим интертекстуального толкования затемняет Мандельштама, превращает его в слишком элитарного и непонятного поэта, что, как нам кажется, противоречит реальным практикам чтения актуального литературного канона. Не секрет, что Мандельштам – любимый поэт многих читателей, и очевидно, что люди не только получают удовольствие от его стихов, но и каким-то образом (совершенно не обязательно интертекстуальным) их осознают и понимают.
О понимании мы заговорили совсем не случайно. Дело в том, что именно с ним связано смысловое наполнение термина «подтекст». Приведем наиболее характерную формулировку, принадлежащую Ронену (1973):
Таким образом, литературный подтекст может не только играть роль источника диахронически возвратных элементов, но и наделяться особой семантической функцией: он служит ключом к метонимически зашифрованному в тексте сообщению. Уже говорилось, что метонимическим по существу является и сам прием цитаты, литературного намека и проч., поскольку читатель по представленным в тексте частным элементам должен определить целое (подтекст), из которого они взяты [Ронен 2002: 31].
Напомним также определение Тарановского из книги «Очерки о поэзии О. Мандельштама» (1976; само определение было ранее обнародовано в статье 1967 года):
Если определить контекст как группу текстов, содержащих один и тот же или похожий образ, подтекст можно формулировать как уже существующий текст, отраженный в последующем, новом тексте. <…> Таким образом, в этом случае подтекст метонимически связывает оба текста, последующий с предыдущим. Таким способом мы читали и «Концерт на вокзале» и, прочтя его вторую строфу, вспомнили не только четвертую строку лермонтовского «Выхожу», но услышали и дальнейший его текст [Тарановский 2000: 31].
Оба определения достаточно аккуратные, и их сближает похожая идея: есть некий текст Мандельштама, в котором слышны отзвуки какого-то предшествующего поэтического произведения, и по некоторым причинам мы должны не только опознать цитату, но и вспомнить цитируемый текст целиком. Это воспоминание обогащает смысл произведения.
Определение Тарановского при этом ни на чем не настаивает, просто констатирует определенный факт. Определение же Ронена идет дальше: стихотворение оказывается «шифром» (ср. «зашифрованное в тексте сообщение»), и читатель «должен» – именно «должен» – подтекст видеть и осознавать, иначе дешифровать сообщение не получится. На эту прескриптивность нужно обратить особое внимание, поскольку она во многом сформировала парадигму изучения поэта22
Интересно, что в начале 1970‐х годов к концептуальному описанию цитатности в поэзии другого модерниста – Блока – обратилась З. Г. Минц, см. ее статью «Функция реминисценций в поэтике Ал. Блока» (1973) [Минц 1973/1999]. Исследовательница предложила глубокое системное описание специфики и функций интертекстуальности в лирике поэта, однако в ее работе мы не находим того нормирования рецепции, которое сформировалось в мандельштамоведении: для Минц в этой статье прежде всего важно реконструировать объективные цитатные стратегии Блока (учитывающие культурный язык символизма), а не предложить конкретные интерпретации текстов (см. обсуждение проблемы интерпретации ниже).
[Закрыть].
Если рассматривать два определения как конкурирующие, то стоит признать, что в современном мандельштамоведении победило роненовское представление о подтексте. Вместе с тем стоит задаться вопросом, который одинаково актуален и для построений Ронена, и для построений Тарановского: а зачем вообще исследователям понадобился термин «подтекст», если существует термин «источник»?
Поясним на примере. В статье «„Концерт на вокзале“. К вопросу о контексте и подтексте» (1-я глава «Очерков о поэзии О. Мандельштама») Тарановский обратил внимание на то, что в строке «И ни одна звезда не говорит» присутствует «чужое слово», а именно – лермонтовское: «И звезда с звездою говорит». Точности ради отметим, что когда это наблюдение только вводится филологом, он говорит о том, что в «Концерте на вокзале» содержится «открытая полемика с лермонтовскими строками» [Тарановский 2000: 27], и уже после, давая приведенное выше определение, Тарановский сообщает о подтексте. Поэтому мы вправе задаться вопросом о выборе термина.
Почему исследователя не устраивает идея, что строка Лермонтова – источник строки Мандельштама? Почему нужно говорить о подтексте?
«Подтекст» – термин, связанный с читателем, а «источник» – с автором. Рассмотрим самую базовую филологическую триаду: автор – текст – читатель. Термин «источник» затрагивает первые два элемента – автора и текст. Какой-то элемент текста – строка, образ, словосочетание – трактуется как заимствование из конкретного предшествующего произведения. Это позволяет заключить, что автор читал «предыдущий» текст, вероятно, им вдохновился, счел возможным использовать в своем стихотворении. Читатель в этой схематичной конструкции остается в стороне: он может принять к сведению выявленный филологом факт, может согласиться или не согласиться с наличием обнаруженного источника, но термин «источник» не обязательно определяет понимание текста, поскольку его функция – формализовать межтекстовые историко-литературные связи и реконструировать авторское сознание.
Напротив, термин «подтекст» взаимодействует с триадой автор – текст – читатель нормирующим образом. Первые шаги здесь совпадают: в исследуемом тексте обнаруживается элемент предшествующего произведения, «чужое слово». Это означает, что автор с этим текстом был знаком и счел необходимым его использовать по каким-то причинам, иногда достойным филологической реконструкции. А вот после этого совершается основной смысловой сдвиг. Во-первых, утверждается, что автор совершенно сознательно сделал «чужое слово» определяющим смысл текста. Во-вторых, читатель непременно обязан это чужое слово распознать, иначе его понимание произведения оказывается неправильным.
Получается, что термин «подтекст» недвусмысленно предписывает автору определенные интенции, а также прескриптивным образом регулирует читательское восприятие.
Из этих положений вытекает два следствия. Следствие первое: исследуемый текст (или его фрагмент) предстает «темным», оказывается «шифром», нуждающимся в «дешифровке». Следствие второе: именно исследователь определяет, в чем заключается смысл текста, и навязывает читателю свою трактовку. Иными словами, возникает идея нормативного понимания стихотворений Мандельштама.
Здесь мы чувствуем необходимость остановиться и сделать ряд оговорок и отступлений. Прежде всего, мы отдаем себе отчет в том, что примерно тем же занят определенный сегмент литературоведения. Ученые придумывают интерпретации различных текстов, будучи убежденными или надеясь, что их трактовки будут приняты сообществом и заинтересованными читателями. Прочтения произведений, интерпретации текстов и авторов конкурируют между собой, и каждое из них по замыслу отражает объективное положение вещей. Та или иная интерпретация разделяется разными сообществами – от узкопрофессионального до самого широкого (сложившиеся школьные практики объяснения канонических текстов). Доминирующая интерпретация обеспечивает чувство общности, определяет коллективную идентичность и в конечном счете облегчает сохранение и трансмиссию культурных артефактов (в данном случае – стихов).
Поэтому мы осознаем, что наша книга тоже в каком-то смысле нормативна: она предлагает свою интерпретацию Мандельштама, а с другими спорит. Мы так же ожидаем, что на нашу трактовку сообщество обратит внимание и, возможно, ее учтет. Вместе с тем мы понимаем, что этого может не произойти, и тогда авторы останутся микросообществом из двух человек. В литературоведении полностью уйти от нормативности практически нельзя, особенно если мы оказываемся в области интерпретаций текстов. Она либо манифестируется, либо прямо не проговаривается, но подразумевается в большинстве работ.
И тем не менее нормативность градуальна. Одно дело – навязывать конкретные прочтения, считая все другие неправильными, и другое – предлагать одну из возможных интерпретаций, осознавая, что допустимы и иные. Точно так же есть разница между манифестацией «как на самом деле» / «что в действительности написано» и попыткой разобраться, почему сложилась конкретная интерпретация, что в тексте ей способствует. В настоящей книге, к слову, мы попытались объяснить, почему Мандельштам оказался таким читаемым поэтом и что в его стихах есть такого особенного, обеспечивающего их цитируемость и мнемоничность (хотя фазы интерпретации материала мы, конечно, тоже не миновали).
В связи с этим стоит сказать, что когда Тарановский и Ронен разрабатывали свою теорию, длинной и сложной истории дискурсивной рецепции Мандельштама не было (понятно, что и здесь есть оговорки и исключения – это, несомненно, тема для отдельного основательного исследования). В каком-то смысле ученым повезло: их прочтение поэта оказалось одним из первых и во многом поэтому задало специфику осмысления его наследия. Другое дело, что теория в большей степени была и остается актуальной именно для мандельштамоведов, тогда как знатоки и любители поэзии читали и читают стихи Мандельштама, не обязательно опираясь на идею подтекста. Впрочем, за то, что интертекстуальные штудии во многом способствовали канонизации поэта, теория заслуживает благодарности.
Другое отступление посвящено модернизму и интертекстуальности в широком смысле слова. Нам бы не хотелось, чтобы из нашего изложения вытекало, что Тарановский и Ронен как бы на пустом месте придумали новый термин, который позволил им апроприировать Мандельштама и получить огромный символический капитал исключительно за счет смыслового переключения «источников» в «подтексты».
Это переключение интересно описать не только словами П. Бурдье, но и используя инструментарий Б. Латура. В свете акторно-сетевой теории «подтекст» оказывается сконструированным явлением, актором, и этот актор меняет структуру окружающей реальности, подобно тому как открытие микроорганизмов Пастером изменило социальную раскладку второй половины XIX века. Пастеру, напомним, благодаря ряду проанализированных Латуром операций удалось убедить общество в том, что причиной такой болезни, как сибирская язва, являются микробы. Именно «сконструированный» французским биологом микроб стал новым социальным агентом, а Пастер как человек, способный его контролировать, получил неограниченный символический капитал (наше изложение, конечно, предельно схематично, см. подробнее: [Латур 2002; Латур 2015]).
«Подтекст», будучи конструктом гуманитарных, а не естественных наук, разумеется, не был в состоянии так существенно изменить социальную реальность. Вместе с тем Мандельштама как явление культуры он, несомненно, изменил. Предполагаем, что в рамках акторно-сетевой теории эффективность «подтекста» как нового актора описывается следующим образом. В пространстве литературы существуют стихи Мандельштама, которые по каким-то причинам нравятся читателям, но иногда кажутся не до конца понятными. Эту непонятность можно объяснять разными способами, например биографией автора или особым использованием русского языка. Из веера вероятных объяснений выбирается одно – литературная традиция, но для нее придумывается новое смысловое наполнение: она не очерчивает круг источников текста, а вскрывает его смысл. Непонимание стихов Мандальштама, таким образом, связывается не с когнитивным, а с культурным феноменом (знание традиции). Происходит своего рода двойное конструирование: лирика поэта моделируется как темная (так в науке закрепляются читательские ощущения), а подтекст – как дешифратор. Последний соединяет смысл текста и читательское непонимание и гарантирует доступ к значению произведения. Исследователи, которые ввели новый актор, получают большой символический капитал, потому что знают, как с ним обращаться.
Хорошо известно, что поэзия модернизма насквозь цитатна. «Чужое слово» обнаруживается не только у Мандельштама, но и у Блока, Белого, Ахматовой, Цветаевой, Ходасевича, Пастернака и других (далее, однако, мы будем говорить о поэзии модернизма в целом и иметь в виду именно Мандельштама). Эту цитатность надо было (да и сейчас необходимо) каким-то образом объяснить.
Построения Тарановского и Ронена, с одной стороны, связаны со структуралистскими идеями, с другой – опираются на теорию интертекстуальности33
См. нюансированный обзор генезиса и особенностей парадигмы подтекстов, написанный сторонником сложившегося подхода: [Сошкин 2015: 9–44; прим.: с. 227–301]. Наше описание несколько отличается от указанного, оно более схематично и исходит из позиции внешнего наблюдателя, а не ведется изнутри парадигмы.
[Закрыть]. Западная мода на Бахтина и на его концепцию «двуголосого слова», переосмысление его идей Ю. Кристевой и Р. Бартом обеспечили возникновение интертекстуальности в широком понимании (см. подробнее: [Пьеге-Гро 2015]). Согласно этой теории, говоря предельно обобщенно, все уже было сказано, и каждое произведение в разных пропорциях комбинирует элементы речи из многочисленных предшествующих дискурсов. Любой текст таким образом оказывался состоящим из «чужих слов». Эта идея, кстати, сейчас более чем понятна, потому что появление интернета, поисковиков, GoogleBooks, НКРЯ позволяет наглядно показать, как какое-либо стихотворение буквально соткано из предшествующих текстов (попытки так читать Мандельштама тоже предпринимались, но в той же парадигме подтекстов, поэтому выглядят не очень убедительно).
Несложно заметить, что подход Тарановского и Ронена во многом близок этой теории. Однако есть существенное различие. Если, например, для Барта интертекстуальная насыщенность любого текста – в каком-то смысле априорное знание, и потому имеет смысл сосредоточиться на том, что именно текст сообщает, то для мандельштамоведов «чужое слово» оказывается и маркированным, и интегрированным в смысл произведения.
В самом деле, ничто не мешает считать, что каждый текст Мандельштама состоит из многочисленных цитат, аллюзий и реминисценций, но относиться к этому со спокойствием, как к данности и анализировать то, что сказано в тексте, а не то, из чего он соткан (то есть «чужое слово»). Вопрос, соответственно, заключается в том, почему в этой области знания регулярно возникает как маркированность «чужого слова», так и идея, что оно детерминирует буквально весь смысл.
Мы можем наметить два объяснения, одно – скорее психологическое, другое – историческое.
Объяснение психологическое. Начать стоит с того, что в репертуаре филолога есть две взаимосвязанные, но все же различные исследовательские позиции. Для ясности мы их идеализируем и рассмотрим как бы в чистом виде. Первую позицию можно назвать позицией историка литературы, вспомнив об исторической поэтике и А. Веселовском. Вторую – позицией интерпретатора (если думать о герменевтике, Х.-Г. Гадамере, П. Рикере и других).
Историк рассматривает свой предмет с дистанции и анализирует конкретную проблему, будь то история мотива, динамика ударности четырехстопного ямба, язык романтизма или рефлексы «Выхожу один я на дорогу…» в русской поэзии. Интерпретатор прежде всего сосредоточен на конкретном произведении, чаще всего – на шедевре, и свою задачу видит в том, чтобы дать непротиворечивое и глубокое прочтение текста таким образом, чтобы как можно больше его элементов получили связное и глубокое объяснение.
Историк обеспокоен анализом выявленной (или кажущейся) закономерности и не претендует на «правильную» трактовку конкретного текста. В идеальных условиях область всего смысла конкретного произведения его не интересует. Интерпретатор, напротив, обосновывает единственно правильное, с его точки зрения, толкование и предлагает его сообществу, причем своей задачей он видит дать толкование всему смыслу текста, всем его нюансам и особенностям (см. привычные ряды – биографические обстоятельства объясняют шедевр так-то и так-то, политический контекст вносит в него то-то и то-то, полемика с современником добавляет такой-то нюанс, а обращение к классику – другой оттенок и т. п.). При этом в каждом конкретном случае толкователь вынужден решать, какие элементы текста нуждаются в особом прочтении и в какой мере ему необходимо учитывать наработки историка.
Обе позиции необходимы культуре: она нуждается как в выявлении закономерностей и механизмов своего существования, так и в образцовых прочтениях канонических текстов, часто предлагающих новую культурную механику. Культуре в равной мере необходимо компактно хранить знания о самой себе (закономерности, выявленные историком литературы) и неэкономно знать во всех подробностях свою уникальную продукцию (прочтения, предложенные интерпретатором). Точно так же культура основывается не только на трансмиссии текстов, не привязанных к интенции и психологии автора и его замысла, но и на подробном знании о творце шедевров, на понимании его замыслов и хода мыслей. Поэтому не стоит думать, что какая-то из описанных идеализированных позиций чем-то лучше другой – они разные и поддерживают различные сегменты культурного поля.
Просим читателя проявить снисходительность, если наши рассуждения кажутся очевидными. Из этих трюизмов и очевидностей вытекают, с нашей точки зрения, некоторые не столь банальные следствия.
Обратимся еще раз к позиции интерпретатора. Допустим, он хочет предложить сообществу прочтение «Концерта на вокзале». Перед ним открывается ряд возможностей: можно объяснить текст в биографическом ключе и свести его смысл к жизненному ряду; можно сосредоточиться на медленном чтении и формализовывать смысл слово за словом; можно объяснить значение текста, исходя из литературной традиции, и усмотреть в нем полемику или развитие мыслей классиков, а то и современников (конечно, вариантов еще больше, но мы ограничимся названными).
Подчеркнем, что в этот момент еще не возникает необходимости трактовать «чужое слово» как неотъемлемую часть смыслового ядра текста. Считать так – выбор, а не обязанность толкователя. Быть может, интерпретатор, вооруженный теорией большой интертекстуальности, уже знает, что все слова в конечном счете «чужие» и потому допустимо сосредоточить внимание на смысле, а не на цитатах (их не обязательно увязывать). Или, быть может, исследователь решит, что текст не преодолел влияние классиков и современников и потому повторяет их «формулировки».









































