Читать книгу "Неизвестные записки врача"
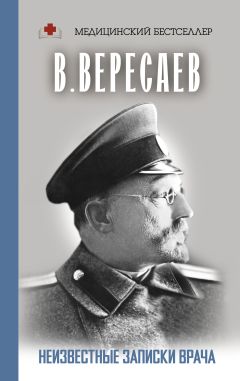
Автор книги: Викентий Вересаев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Викентий Вересаев
Неизвестные записки врача
Предисловие
О писателях-врачах, и российских, и зарубежных, написано большое количество работ и научных исследований. Сказать об этом что-то новое и нетривиальное достаточно сложно, особенно если рассматривать и анализировать этот феномен как таковой.
Существует несколько предпосылок, характерных для России, которые сформировали и развили определенные личностные черты этой группы писателей и общественных деятелей. Одной из структурообразующих причин являлась очень сильная изоляция между различными социальными и профессиональными группами населения, которая сохранилась уже после отмены института крепостного права. Это усугублялось изоляцией пространственной, определяемой большой территорией и существованием каждой губернии как самостоятельного анклава.
Книга «Записки врача» была опубликована почти 120 лет назад, в 1901 году. Её многократное переиздание в России и перевод на все основные языки мира не может определяться только литературными достоинствами этого произведения.
Необходима совокупность случайных и закономерных факторов, которые приведут к такой популярности и востребованности для следующих поколений читателей. Попробуем определить хотя бы часть тех причин, которые формируют этот объективный феномен.
Во-первых, личность самого автора. В. В. Вересаев (Смидович) принадлежал к «неправильной» семье: потомки родовитого дворянского семейства, которые волею обстоятельств были вынуждены жить собственным трудом, не имея никаких доходов и недвижимости, заработанных и полученных предыдущими поколениями. В свою очередь это определило нетипичное воспитание в семье, отношение к выбору карьерных устремлений и многое другое.
Автор «Записок врача» публиковался с 1884 года и более чем за полтора десятилетия особой писательской известности не снискал. Уже став известным, он, со свойственной ему прямотой, говорил о себе: «Я не писатель, я – литератор».
Во-вторых, вопросы, поднятые в книге, обусловлены не только профессиональными трудностями в области медицины и лечения. Они связаны с этикой, моралью и поэтому, не имея окончательного ответа, остаются открытыми.
Еще одна – субъективная, но очень важная – причина популярности «Записок врача»: возмущение книгой значительной части сообщества врачей. В момент её издания между людьми этой профессии существовал негласный кодекс неразглашения некоторых малоприятных проблем, которые существовали и существуют до сих пор. Вересаев, с их точки зрения, поступил «неправильно» и нарушил цеховые, кастовые устои врачебного сообщества.
Остановимся более подробно ещё на одной причине – неоднородности самого врачебного сообщества. К концу 19 века в крупных городах сформировалась прослойка высокооплачиваемых и «модных» врачей. Это оказало большую и неожиданную услугу книге «Записки врача», поскольку именно эта социальная группа была наиболее возмущена и воплотила свое негодование в многочисленных публичных выступлениях и газетных публикациях. Раздражение определенных слоев интеллигенции при подобных событиях очень достоверно описано в романе К. М. Станюковича «Жрецы» (1911 г.).
Сам В. В. Вересаев, как и его отец, принадлежал к категории земских врачей.
Создание в 1864 году института земских врачей, вынужденных в силу осознанной профессиональной необходимости вступать в контакт с самыми различными малоимущими слоями населения, сформировало достаточно заметную социальную группу в России, которая была начисто лишена иллюзий по поводу действительных потребностей народа. Кроме того, они в значительной степени преодолели социальный барьер недоверия к себе со стороны крестьянских и ремесленных слоев населения. Это определялось тем, что обращение к земскому врачу было добровольное, связанное с невозможностью разрешить возникшие проблемы со здоровьем самостоятельно.
Естественно, что внутри этой группы появлялись публицисты, а наиболее одаренные из них избрали в дальнейшем писательскую деятельность. Это в полной мере относится и к В. В. Вересаеву. Обратим внимание на следующие особенности его творчества, которые в равной степени характерны для всех врачей-писателей: отсутствие избыточного пафоса и склонности к надуманной драматизации, нежелание немотивированных, необдуманных и бездоказательных социальных обобщений.
Но, наверное, самое главное – это уровень спокойной, неаффектированной доброжелательности, стремление разобраться в том, чем можно помочь конкретному человеку. Раньше это называлось очень просто: любовь к ближнему.
Еще одна отличительная особенность писателей-врачей – отсутствие вражды между ними, что бывает не так уж часто в писательской среде. Почитайте воспоминания В. Г. Лидина о том, как общались Вересаев и Чехов: они понимали друг друга с полуслова.
Именно В. В. Вересаев стал тем «мостом» во времени (так и хочется сказать: «каменным»[1]1
«Каменный мост» – шутливое прозвище, данное В. В. Вересаеву в литературно-художественном кружке «Телешовские среды», где каждый получал московское топонимическое прозвище, соответствующее его личности и характеру.
[Закрыть]) между Чеховым и Булгаковым. Сколько помощи и понимания было в его отношении к молодому (писателю (М. А. Булгакову)), приехавшему в Москву из Киева. Общеизвестно, что цикл рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (1925–26 гг.) созвучны и перекликаются с «Записками врача» В. В. Вересаева.
«“Ну, нет… я буду бороться. Я буду… Я…”. И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская… и в ней будто бы я… не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед…». Это написал Булгаков, но представить себе молодого врача Вересаева, который пишет в своих дневниках нечто подобное, не составляет труда.
Много позже, в 1987 году, в своей Нобелевской лекции И. Бродский произнесет горькие и оптимистичные слова: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно».
В заключение я бы хотел отметить, что каждому поколению необходимо сделать важный вывод: личное обогащение не должно быть главной профессиональной целью. В любой исторической эпохе существуют привилегированные и высокооплачиваемые группы: юристы, врачи, чиновники и так далее. Каждая группа имеет набор негласных табу и запретов. В этих группах могут появиться люди с «неправильными» и «неудобными» вопросами. Книга «Записки врача» именно об этом.
Лев Разумовский,правнук родного брата В. В. Вересаева
Записки врача
От автора
Я кончил курс на медицинском факультете семь лет назад. Из этого читатель может видеть, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои это не записки старого, опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдениям и размышлениям, выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии; это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я обыкновеннейший средний врач, со средним умом и средними знаниями; я сам путаюсь в противоречиях, я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают предо мною на каждом шагу. Единственное мое преимущество, – что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду писать о том, что я испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее, и что она мне дала, буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне.
I
Я учился в гимназии хорошо, но, как и большинство моих товарищей, науку гимназическую презирал до глубины души. Наука эта была для меня тяжелою и неприятною повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но которая сама по себе не представляла для меня решительно никакого интереса; что мне было до того, в каком веке написано «Слово Даниила Заточника», чей сын был. Оттон. Великий и как будет страдательный залог от «persuadeo tibi»? (Уверяю тебя (лат.) – Ред.)
Развитие мое шло помимо школы, помимо школы приобретались и интересовавшие меня знания.
Все это резко изменилось, когда я поступил в университет. На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественнонаучные предметы – химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знание настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладели мною все вокруг меня и во мне самом, на что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным и меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня «открытия» я был поражен, узнав, что мясо, то самое мясо, которое я ем в виде бифштекса и котлет, и есть те таинственные «мускулы», которые мне представлялись в виде каких-то клубков сероватых нитей, я раньше думал, что из желудка твердая пища идет в кишки, а жидкая – в почки, мне казалось, что грудь при дыхании расширяется оттого, что в нее какою-то непонятною силою вводится воздух, я знал о законах сохранения материи и энергии, но в душе совершенно не верил в них. Впоследствии мне пришлось убедиться, что и большинство людей имеет не менее младенческое представление обо всем, что находится перед их глазами, и это их не тяготит. Они покраснеют от стыда, если не сумеют ответить, в каком веке жил. Людовик XIV, но легко сознаются в незнании того, что такое угар и отчего светится в темноте фосфор.
Что касается анатомии, то часто приходится слышать, какою тяжелою и неприятною стороною ее изучения является необходимость препарировать трупы. Действительно, некоторые из товарищей довольно долго не могли привыкнуть к виду анатомического театра, наполненного ободранными трупами с мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами; одному товарищу пришлось даже перейти из-за этого на другой факультет – он стал страдать галлюцинациями, и ему казалось по ночам, что из всех углов комнаты к нему ползут окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привык к трупам довольно скоро и с увлечением просиживал целые часы за препаровкою, раскрывавшею передо мною все тайны человеческого тела, в течение семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей, – и на это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шел по улице, следя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более, как живым трупом вот теперь у него сократился glutaeus maximus, теперь quadriceps femoris, эта выпуклость на шее обусловлена мускулом sternocleidomastoideus, он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку, это сократились musculi recti abdominis и потянули к тазу грудную клетку. Близкие, и дорогие мне люди стали в моих глазах как-то двоиться; эта девушка, – в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе становится хорошо и светло, а между тем все, составляющее ее, мне хорошо известно, и ничего в ней нет особенного на ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов, мускулы ее так же насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов, и вообще в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтического.
Еще более сильное впечатление, чем предлагаемые знания, произвел на меня метод, царивший в этих знаниях. Он вел вперед осторожно и неуклонно, не оставляя без тщательной проверки самой ничтожной мелочи, строго контролируя каждый шаг опытом и наблюдением – и то, что в этом пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назад. Метод этот так обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела – каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собою твердили золотые слова. Бэкона «non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura facial aut ferat, – не выдумывать, не измышлять а искать, что делает и несет с собою природа». Можно было не знать даже о существовании логики, сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, – вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения, – прямо резало глаза своею ненаучностью.
На втором курсе подготовительные, теоретические предметы закончились. Я сдал полулекарский экзамен. Начались занятия в клиниках.
Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек; теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечною вереницею потянулись перед глазами: легких больных в клиники не принимают, – все это были страдания тяжелые, серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на меня ошеломляющее действие, меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа, – мук, при одном взгляде на которые на душе становилось жутко.
Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный и мускулистый, с загорелым лицом; весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами; при малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу больной начинал медленно выгибаться: затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели; от головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги, эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел.
Ужасно было не только то, что существуют подобные муки; еще ужаснее было то, как легко они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника. Шел по двору крепкий парень-конюх, поскользнулся и ударился спиною о корыто, – и вот он уже шестой год лежит у нас в клинике ноги его висят, как плети, больной ими не может двинуть, он мочится и ходит под себя, беспомощный, как грудной ребенок, он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней, и нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее. Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору.
– Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя, одного только я у вас прошу!
В хороший летний вечер он посидел на росистой траве.
Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше – это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды, незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку.
Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью», при настоящих же условиях болеют все бедные болеют от нужды, богатые – от довольства, работающие – от напряжения, бездельники – от праздности; неосторожные – от неосторожности, осторожные – от осторожности. Во всех людях. С самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, составляют исключение, в. Баварии среди пятисот учеников народных школ было найдено лишь трое с совершенно здоровыми зубами. Д-р Бабес вскрыл в будапештской больнице сто детских трупов, и у семидесяти четырех из них он нашел в бронхиальных железах, туберкулезные палочки; а все эти сто детей умерли от различных не туберкулезных болезней. Уж дети встают после сна с «заспанными», гноящимися глазами; уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка, – всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости женщин, то они уже нормально, физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней.
С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек – это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы.
Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет; я не мог от нее оторваться; подобный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался передо мною «нормальный» «физиологический» процесс родов. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болезненные родовые потуги, весь этот ужасный, кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров – все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина. Помню хорошо, как сегодня, и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая. Она лежала на спине, с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки, с выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.
– Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! – невозмутимо-спокойным голосом уговаривал ее ассистент. Ночь была бесконечно длинна. Роженица уж перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку; бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом.
– Доктор, скажите, я не умру? – спрашивала она с тоскою.
Утром в клинику пришел наведаться о состоянии роженицы ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым, неприязненным чувством; это был у них второй ребенок, – значит, он знал, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это… Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка, все тело роженицы стало судорожно сводиться в отчаянных усилиях вытолкнуть из себя ребенка; ребенок, наконец, вышел; он вышел с громадною кровяною опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным, длинным черепом. Роженица лежала в забытьи, с надорванною промежностью, плавая в крови.
– Роды были легкие и малоинтересные, – сказал ассистент.
Это все тоже было «нормально»! И дело тут не в том, что «цивилизация» сделала роды труднее: в тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью и не мог объяснить ее иначе, как проклятьем бога.
Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, все усиливая густоту красок.
Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому, темному переулку: на меня наехала карета, ударила дышлом в бок, и у меня образовался pneumothorax. Я сел на постели. Бледная ночь смотрела в окно; вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом; в кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайностей, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его, здоровья, – с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять – значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно – высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно! Пришлось бы всю жизнь, все силы положить на это; но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни. Притом, все равно ничего не достигнешь даже в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость; птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка, мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы ничего не знаем, отчего происходят рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как ни берегись, а может быть, через год в это время я уже буду лежать, пораженный pemphigo foliaceo; вся кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает; и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает жгучие боли. Об этом смешно думать? Но ведь и тот больной с pemphigus`ом, которого я на днях видел в клинике, полгода назад тоже был совершенно здоров и не ждал беды. Ни один час здоровья нам не гарантирован. Между тем хочется жить, жить и быть счастливым, а это невозможно. И для чего любовь со всей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же «любовь» является не насмешкою над любовью, если человек решается причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике? Страданье, страданье без конца, страданье во всевозможных видах и формах – вот в чем вся суть и вся жизнь человеческого организма.
Вскоре это страданье встало передо мною в реальной форме. У меня на левой руке под мышкою находилась небольшая родинка; ни с того, ни с сего она вдруг начала расти, стала болезненной; я боялся верить глазам, но она с каждым днем увеличивалась и становилась все болезненнее; опухоль достигла величины лесного ореха. Сомнения быть не могло: из родинки у меня развивалась саркома, – та страшная меланосаркома, которая обыкновенно и развивается из невинных родинок. Как на эшафот, пошел я на прием к нашему профессору-хирургу.
– Профессор, у меня, кажется… саркома на руке, – сказал я обрывающимся голосом.
Профессор внимательно посмотрел на меня.
– Вы медик третьего курса? – спросил он.
– Да.
– Покажите вашу саркому.
Я разделся. Профессор срезал ножницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль.
– Вы себе натерли родинку рукавом, – больше ничего. Возьмите себе на память вашу саркому, – добродушно улыбнулся он, подавая мне маленький мясистый комочек.
Я ушел сконфуженный и радостный, и стыдно мне было за мою ребяческую мнительность. Но спустя некоторое время я стал замечать, что со мною творится что-то неладное: появилась общая вялость и отвращение к труду, аппетит был плох, меня мучила постоянная жажда; я начал худеть; по телу то там, то здесь стали образовываться нарывы; мочеотделение было очень обильное; я исследовал мочу на сахар, – сахара не оказалось. Все симптомы весьма подходили к несахарному мочеизнурению (diabetes insipidus). С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни в учебнике Штрюмпеля: «Причины несахарного мочеизнурения еще совершенно темны… Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту; мужчины подвержены этой болезни несколько чаще женщин. Родство этой болезни с сахарною болезнью очевидно; иногда одна из них переходит в другую. Болезнь может тянуться годы и даже десятки лет; исцеления крайне редки».
Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мною делается. По мере того как я говорил, профессор все больше хмурился.
– Вы полагаете, что у вас diabetes insipidus, – резко сказал он. – Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете Штрюмпеля: вы не забыли решительно ни одного симптома. Желаю вам так же хорошо ответить о диабете на экзамене. Поменьше курите, больше ешьте и двигайтесь и бросьте думать о диабете.
Предметом нашего изучения стал живой, страдающий человек. На эти страдания было тяжело смотреть; но вначале еще тяжелее было то, что именно эти-то страдания и нужно было изучать. У больного с вывихом плеча – порок сердца; хлороформировать нельзя, и вывих вправляют без наркоза; фельдшера крепко вцепились в больного, он бьется и вопит от боли, а нужно внимательно следить за приемами профессора, вправляющего вывих; нужно быть глухим к воплям оперируемого, не видеть корчащегося от боли тела, душить в себе жалость и волнение. С непривычки это было очень. Трудно, и внимание постоянно двоилось; приходилось убеждать себя, что ведь это не мне больно, что ведь я совершенно здоров, а больно другому. Потоки крови при хирургических операциях, стоны рожениц, судороги столбнячного больного – все это вначале сильно действовало на нервы и мешало изучению; ко всему этому нужно было привыкнуть.

Дом Смидовичей, где родился и вырос В. В. Вересаев, на Верхне-Дворянской ул. (ныне ул. Гоголевская), Тула, 1909 г.
Впрочем, привычка эта вырабатывается скорее, чем можно бы думать, и я не знаю случая, чтобы медик, одолевший препаровку трупов, отказался от врачебной дороги вследствие неспособности привыкнуть к стонам и крови. И слава богу, разумеется, потому что такое относительное «очерствение» не только необходимо, но прямо желательно; об этом не может быть и спора. Но в изучении медицины на больных есть другая сторона, несравненно более тяжелая и сложная, в которой далеко не все столь же бесспорно.
Мы учимся на больных; с этой целью больные и принимаются в клинике; если кто из них не захочет показываться и давать себя исследовать студентам, то его немедленно, без всяких разговоров, удаляют из клиники. Между тем так ли для больного безразличны все эти исследования и демонстрации?
Разумеется, больного при этом стараются по возможности щадить. Но дело тут не в одном только непосредственном вреде. Передо мною встает полутемная палата во время вечернего обхода; мы стоим с стетоскопами в руках вокруг ассистента, который демонстрирует нам на больном амфорическое дыхание. Больной – рабочий бумагопрядильной фабрики – в последней стадии чахотки; его молодое страшно исхудалое лицо слегка синюшно; он дышит быстро и поверхностно; в глазах, устремленных в потолок, сосредоточенное, ушедшее в себя страдание.
– Если вы приставите стетоскоп к груди больного, – объясняет ассистент, – и в то же время будете постукивать рядом ручкою молоточка по плессиметру, то услышите ясный, металлический, так называемый «амфорический» звук… Пожалуйста, коллега! – обращается он к студенту, указывая на больного. Ну-ка, голубчик, повернись на бок! Поднимись, сядь!
И режущим глаза контрастом представляется это одинокое страдание, служащее предметом равнодушных объяснений и упражнений; кто другой, а сам больной чувствует этот контраст очень сильно.
Но вот больной умирает. Те же правила, которые требуют от больных, чтобы они беспрекословно давали себя исследовать учащимся, предписывают также обязательное вскрытие всякого, умершего в университетской больнице.
Каждый день по утрам в прихожей и у подъезда клиники можно видеть просительниц, целыми часами поджидающих ассистента. Когда ассистент проходит, они останавливают его и упрашивают отдать им без вскрытия умершего ребенка, мужа, мать. Здесь иногда приходится видеть очень тяжелые сцены. Разумеется, на все просьбы следует категорический отказ. Не добившись ничего от ассистента, просительница идет дальше, мечется по всем начальствам, добирается до самого профессора и падает ему в ноги, умоляя не вскрывать умершего:
– Ведь болезнь у него известная, – что ж его еще после смерти терзать?
И здесь, конечно, она встречает тот же отказ:
Вскрыть умершего необходимо, – без этого клиническое преподавание теряет всякий смысл. Но для матери вскрытие ее ребенка часто составляет не меньшее горе, чем сама его смерть; даже интеллигентные лица большею частью крайне неохотно соглашаются на вскрытие близкого человека, для невежественного же бедняка оно кажется чем-то прямо ужасным; я не раз видел, как фабричная, зарабатывающая по сорок копеек в день, совала ассистенту трехрублевку, пытаясь взяткою спасти своего умершего ребенка от «поругания». Конечно, такой взгляд на вскрытие – предрассудок, но горе матери от этого не легче. Вспомните вопль некрасовской Тимофеевны над умершим Демушкой:
Я не ропщу,
Что бог прибрал младенчика,
А больно то, зачем они
Ругалися над ним?
Зачем, как черны вороны,
На части тело белое
Терзали?.. Неужли
Ни бог, ни царь не вступятся?
Однажды летом я был на вскрытии девочки, умершей от крупозного воспаления легких. Большинство товарищей разъехалось на каникулы, присутствовали только ординатор и я. Служитель огромного роста, с черной бородой, вскрыл труп и вынул органы. Умершая лежала с запрокинутою назад головою, широко зияя окровавленною грудобрюшною полостью; на белом мраморе стола, в лужах алой крови, темнели внутренности. Прозектор разрезывал на деревянной дощечке правое легкое.
– Вы что тут делаете, а? – вдруг раздался в дверях задыхающийся голос.
На пороге стоял человек в пиджаке, с рыжею бородкою; лицо его было смертельно бледно и искажено ужасом. Это был мещанин-сапожник, отец умершей девочки; он шел в покойницкую узнать, когда можно одевать умершую, ошибся дверью и попал в секционную.
– Что вы тут делаете, разбойники?! – завопил он, трясясь и уставясь на нас широко раскрытыми глазами. У прозектора замер нож в руке.
– Ну, ну, чего тебе тут? Ступай! – сказал побледневший служитель, идя навстречу мещанину.
– Ребят здесь свежуете, а?! – кричал тот с каким-то плачущим воем, судорожно топаясь на месте и тряся сжатыми кулаками. – Вы что с моей девочкой исделали?
Он рванулся вперед. Служитель схватил его сзади под мышки и потащил вон; мещанин уцепился руками за косяк двери и закричал: «Караул!..»
Служителю удалось, наконец, вытолкать его в коридор и запереть дверь на ключ. Мещанин долго еще ломился в дверь и кричал «караул», пока прозектор не кликнул в окно сторожей, которые увели его.









































