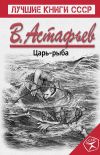Текст книги "Последний поклон (повесть в рассказах)"

Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
У Болтухиных, сменивших и загадивших уже несколько домов, насмехались, ерничали: «Проходите, хвастайте, чего забыли?..» – «Да вот сковороду бы взять, чигунку, клюку, ухват – варить…» – «Дак чё? Бери, как свое…» – Баба вызволяла инвентарь, норовя, помимо названного, прихватить и еще чего-нибудь: половичишки, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста.
Заселившие «справный» дом новожители, прежде всего бабы, стыдясь вторжения в чужой угол, опустив долу очи, пережидали, когда уйдет «сама». Болтухины же следили за «контрой», за недавними своими собутыльниками, подругами и благодетелями – не вынесет ли откудова золотишко «бывшая», не потянут ли из захоронки ценную вещь: шубу, валенки, платок. Как уличат пойманного злоумышленника, сразу в крик: «А-а, воруешь? В тюрьму захотела?..» – «Да как же ворую… это же мое, наше…» – «Было ваше, стало наше! Поволоку вот в сельсовет…»
Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» – говорили. Катька Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятое самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, не одну вещь «выкупила» у Болтухиных и вернула в описанные семьи.
К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок.
Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное, при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе.
Немой Кирила, когда первый раз Платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом.
Кто-то из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кириле, что дома у них неладно, что снова Платоновских выселяют. Кирила примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутое барахлишко. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха хваталась за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее вытащат, но только отпустят, она сорванными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться.
Хозяин, чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену: «Да будет тебе, Парасковья! Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям…»
Ребятишки, их много было во дворе Платоновских, уже и тележку, давно приготовленную, загрузили, вещи, кои дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама. Пойдем…» – умоляли они Платошиху, утираясь рукавами.
Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху. Они столкнули ее с крыльца, но, полежав со скомканно задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки к распахнутой двери. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с наганом на боку пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. «Парасковья! Парасковья! Что ты? Что ты?..»
Тут и раздался утробный бычий крик: «М-м-мауууу!..» Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятые и активисты. Разъяренный Кирила бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса, нашего же, деревенского.
На катере Кирилу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.
Гибель уполномоченного и бесчинство Кирилы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто, никогда, ничего о них больше не слышал.
Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму, а о деде Павле речь впереди.
Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс, потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятишками что-то в доме дорубал, доламывал и сокрушал.
Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет.
После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят.
Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплавили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили.
Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.
Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырье». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра – старых самоваров, плугов, костей, тряпья.
В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.
Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было – один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник.
Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату.
Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радосгь! Это ли не достижение!
Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а-а… И варенье, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится.
Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее. говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.
Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»
– А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! – бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.
– Думаю, скоро, – ответил учитель. – Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь. – Он поклонился дому, бабушке, она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.
Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, – и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, – вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.
Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:
– И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот чё грамота делат! – И увещевала меня; – Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники…
Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить со в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.
Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.
К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас но лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.
Как он много знал! И что кольца у дерева – это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород – он так и сказал, – не из лесин, а из пород! – изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.
Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спасаться от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.
Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменья отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:
– Ой, змея, змея!..
И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасгь, злобно шипела.
Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся, молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.
– Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! – кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.
Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.
– Пойдемте, ребята, отсюда.
Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится.
Под горою учитель забрел в речку – Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил:
– Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?
– Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. – объясняли ребята учителю. – Да вы раньше-то хоть видели змей? – догадался кто-то спросить учителя.
– Нет, – виновато улыбнулся учитель. – Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.
Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!
Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя – с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька.
Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя – сибиряк.
Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями – ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.
Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах – всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.
Я все равно не смеюсь.
Деревенская фотография – своеобычная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда.
Бабушкин праздник
Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня – гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном дому, у матери и отца.
Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег – коли пировать, так и мудровать.
После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка – на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло – и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завалящую постряпушку.
Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.
Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.
Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.
Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечерком, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда – не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.
В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.
Дед даже и ухом не повел.
На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода – от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшенного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить – бабушка не трогала деда сразу после выпивки.
Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.
Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.
Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки – особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девок она растила по-чудному: то милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.
Девки подросли, и старшая – Агашка – пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в…ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.
После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство – привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.
Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.
Терентий открыл створку ворот и в качестве «суприза» катнул во двор пузатенький, ловконький такой бочонок, густо затянутый окислившимися в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню – знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженненькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспеченной, семейной жизни под родной крышей.
Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.
Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство – дом, заплот, ворота – внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород, прокатился бы по грядам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Енисей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.
Тетка Авдотья, хоть и встречь уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петель ее не сорвавший, ногой катнула в обратную сторону, к воротам. Где и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, пришлепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.
После этого тетка Авдотья молча двинулась навстречу лучезарно лыбящемуся мужу, раскинувшему руки для объятий, молча же сорвала шляпу с его головы, кучерявящейся младенческим пушком, шляпу шлепнула оземь и принялась месить ее голыми ногами, втаптывать в пыль, будто гремучую змею. Топтала, топтала, сорвалась на визг. Без слов, без ругани был тот визг. Все в нем спеклось, в этом страшном визге – боль, ненависть, звериная тоска полужены-полувдовы, нужда, одиночество, борьба с девками, перемогание хворей и насмешек деревенских сплетников и блудников, пользующихся услугами мелкой спекулянтки, батрачки, вздорной бабы, позорной, дикой пьянчужки – все-все втаптывала в пыль, в грязь тетка Авдотья.
Натоптавшись до бессилия, навизжавшись до белой слюны, тетка Авдотья молча подняла с дороги шляпу, измызганную, похожую на недосохшую коровью лепеху или гриб-бздех, вялым движением, как бы по обязанности, доводя свою роль до конца, раз-другой хлопнула шляпой по морде мужа, напяливая ее на голову его до ушей, пристукнула кулаком сверху и удалилась во двор.
Весь нижний конец села упивался этой картиной. Задохнувшийся пылью, оглушенный налетом, Терентий долго отплевывался, утирался рукавом, растерянно наблюдая, как Авдотья запирала ворота, как пнула подвернувшегося на пути его любимого пса Мистера, как резко задернула занавески на окнах, даже веревочку порвала у одной занавески, как расшуровала из дому всех, даже девок, выдворила заспавшегося кота, не пощадила и курицу-парунью, сидевшую в сите на куделе, вместе с яйцами хряснула с крыльца и, матерясь, искала еще чего бы сокрушить и выкинуть.
– Во, штурела, курва, во штурела!.. – трусовато, чтоб народ слышал, а баба, впавшая в неистовство, не слышала, частил однозубым ртом Терентий.
Когда тетка Авдотья выдохлась, поутихла, влезла на полати, как всегда, влезла надолго в привычное убежище, дети и внуки, спрятавшиеся в старом амбаре и не смеющие до темноты показываться в избе, наблюдали в щели амбара, как их папа Терентий сидел среди улицы на бочонке с омулем, бил себя кулаками по голове и со слезами взывал в пространство:
– Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?
– А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты за моду взял: наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихорь унесешься? – корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. – Ты подумал бы башкой своей удалой, – бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будто по тыкве, – как твои детки тута? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блюдет себя?.. Или тебе гори все огнем-полымем?
– О-о-ой! – мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. – Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!
Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас. Через день сломленная жалостью бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с «прошлым», будет как «андел» – тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку своей жизни».
Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить но селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, «длинные, фартовые» рубли искать. Тетка Авдотья опять «налаживалась» и хорошо, что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери.
После того, как снова и надолго исчезал Терентий, дом тетки Авдотьи являл собой подобие осеннего, полуубранного огорода или реку после ледохода: все перевернуто и опрокинуто, всюду валялись битые черепки, поленья, ломаные скамейки и табуретки, горшки с замертво выпавшими из них цветками, рванье всякое, распущенная подушка, по столу валялись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась связка луковиц, из переполненной лохани текла зловонная жижа. Кошка куда-то сбежала, во дворе, возле разваленной поленницы, причитал всеми забытый кобелишка по имени Мистер. Совершенно он сбит с толку превратностями жизни. Совсем недавно его от пуза кормили всевозможными яствами – мясом, мозговыми костями, жирными щами, остатками пирогов. Терентий даже пельменей выносил, один раз насильно засунул в рот конфетку. Испытывая отвращение, Мистер через силу счавкал конфетку вместе с бумажкой. Терентий поцеловал его в морду, назвал «вумницей» – и вот на тебе, морят живую душу голодом, не только не кормят, но и не поят, даже с цепочки не спускают, чтоб промыслить чего-нибудь по селу. Более того, распинав всякое битое и драное имущество, если подвернутся, и детей с внучатами распинав, тетка Авдотья, хоть летом, хоть зимой, босая, косматая, выскочив на крыльцо, орет:
– Сдохни! Околей! – и хватается за что попало. Тут уж прячься живей, влезай в какую-нибудь щель – зашибет!
Давно заведенная квашня оплыла по краям, нашлепались на стол серые ошметки. Тесто засыхало само по себе, и в нем, судорожно дергаясь, затихали налипшие мухи и тараканы. Квашня эта, кислый ее запах не давали тетке Авдотье покоя, хлебный дух тревожил ее и звал к печи. Спустившись с полатей, нащупывая ногой обутки, проклиная жизнь и все на свете, тетка Авдотья с трудом растопляла давно остывшую и оттого дымящую печь. Двигалась она словно бы во сне, расходилась словно после болезни, начиная творить привычную бабью работу, распинывая и рассовывая по углам стекла, ломь всякую, тряпье, но, видя, что хлам и сор никуда не деваются, бралась за веник, потом и за тряпку, скребла, мыла, все еще ругаясь, всхлипывая, высказываясь.
Утром в более или менее прибранном доме пахло хлебом, на столе остывали плоские караваи из перекисшего горького теста.
– Жрите! – коротко бросала девкам и внукам, все еще опасливо выглядывающим из-за косяков дверей, из углов, тетка Авдотья: – Да собачонке не забудьте дать.
День, другой, третий, иногда и неделю налаживалась и входила в берега разлаженная, выбитая из колеи жизнь в доме тетки Авдотьи. Потихоньку, помаленьку девки, их дети, затем и сама тетка Авдотья начинали выходить за ворота, являлись селу и людям.
– Сошла луна с ущербу, – понарошке крестилась бабушка. – Чё не заходишь-то?
Тетка Авдотья, пробурчав: «Мы бедны, вы богаты», – отвернувшись, проходила мимо. Одевалась она в эту пору во все драное, старое, заношенное, чтоб треснутые пятки из обуток было видно, чтоб все понимали, какая она несчастная, отверженная, всеми брошенная.
Но вот в прибранном, угоенном доме, во время рукоделия или при починке изорванной одежды, теребления ли пера, а то и у прялки, тетка Авдотья тоненько, без слов принималась чего-то в забывчивости напевать, потом и на слова переходила. Ну, дети уж тут как тут, не отстанут от родимой матушки, радостно подхватят, поведут – заслушаешься. И дойдет у них дело до самой жалостной, самой близкой их сердцу песни про коварную и изменчивую любовь. Хотя и есть в песне предупреждение: «Не любите моряка, моряки омманут», – все равно не устоять слабому девичьему сердцу под напором страстей, и дело заканчивается известно чем: «Месяц светит за окном, дождь идет уныло, а в руках она несет матросенка-сына».
И как разольются по селу, отзвенят отчаянные голоса тетки Авдотьиных девок, долго еще смотрит в окно, в пространствие слепыми от слез глазами сама тетка Авдотья. И чего она там видит, об чем думает и страдает? Спохватится, встряхнется и с протяжным вздохом молвит тетка Авдотья, ловя рукой иголку или веретено:
– Ох, девки, девки! Блядишшы вы блядишшы, я пропаду, и вы пропадете.
Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.