Читать книгу "Убойная реприза"
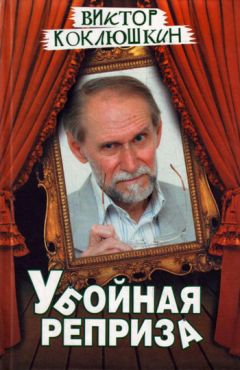
Автор книги: Виктор Коклюшкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Виктор Коклюшкин
Убойная реприза
«Лентяи и бездельники не любят понедельники» – сочинилось у меня в то утро.
Надо было идти в РАО, не хотелось, а что делать?
Что делать, если за рассказ в «Литературной газете» платят пятьсот рублей, т. е. туда и обратно – на такси. Раньше платили рублей сорок, а проезд на метро стоил пять копеек. Сейчас на такой гонорар в метро можно проехать 25 раз, а раньше – 800! Поехал на метро. Прежде называлось: ВААП – Всероссийское агентство авторских прав, теперь: РАО, почти как название власовской армии «РОА».
ВААП находился в Лаврушенском переулке в сером писательском доме. В подвале. РАО в доме на Большой Бронной.
Поехал. Когда не хочется – лучше не делать, а я со скрипом, но поехал. Потому что на гонорар за первую книгу я мог купить однокомнатную квартиру, а за недавнюю – оплатить жилищно-коммунальные услуги. И я поехал, подхлестывая себя мыслями о скудных авторских, которыми пренебрегать нельзя, потому что если раньше…
Раньше рапортички заполняли везде: от захудалого ДК до Дворца съездов. Каждый вечер тут ли, там ли выходили на сцену конферансье, объявляя кокетливо и торжественно: «Мы начинаем наш концерт!» и летели со всех сторон Советского Союза в Лаврушинский переулок рапортички, и ты спокойно смотрел в глаза собачке, жене и себе, глядя на свое отражение в зеркале.
Постепенно, поначалу стыдливо, уловками порвалась сеть связующая. Уже не бегали администраторы и помрежи за артистами: «Вы забыли заполнить!», уже на вопрос артиста: «А где заполнить рапортичку?», чужие и холодные в деле люди спрашивали: «А что это такое?» Да и артисты, кто познаменитей, доход ковали за бугром, ублажая бывших соотечественников, или на концертах, где благодарность выдавали в конвертах. Еще пульсировала связь, перегоняя, как кровь, рубли из концертного зала «Россия», но вот и «Россию» сломали, посулив законсервировать, а потом открыть в новом гостиничном комплексе, на месте которого… как виновато доложил недавно гл. архитектор, временно будет устроен небольшой сквер.
И пошел я куда глаза глядят – в Российское авторское общество. Вышел из метро на Пушкинскую площадь. Слева на постаменте грустный Пушкин, справа – веселенький голубой туалет. У памятника встречаются влюбленные, к туалету украдкой подходит мужичок. Кабинок три. Две действующие, а в крайней к Тверской – с ведром и шваброй женщина. Работа скульптора Опекушина, единственно украшавшая площадь, теперь по яркости и выразительности проигрывает туалетной композиции.
Прохожие воспринимают это как данность, как снег зимой, а меня угнетает. Раньше, в угловом доме, был подземный туалет, просторный, с умывальниками. В Москве было много подземных туалетов.
Как известно, т. Сталин позвонил т. Хрущеву и спросил: «Почему в Москве мало туалетов?», и их сразу стало много. Сейчас позвонить некому. Проезжающим по центральной улице в заграничных лимузинах руководителям невдомек. Их эстетическое восприятие мира не коробит вид безропотной тетеньки в голубой кабинке.
С испорченным настроением двинулся я по Большой Бронной. Мимо «Макдоналдса» проходя, вспомнил, как тут на открытии ресторана стояла двухчасовая очередь желающих вкусить заграничной жизни. Подозреваю, что это были те же люди, что в двухчасовой очереди в Мавзолей и в двухчасовой очереди на колесо обозрения в парке Горького.
За перекрестком перешел на другую сторону, не рискуя пройти у дома, с которого уже не первый год отваливается штукатурка. Меры всякий раз принимаются незамедлительно: три года назад, когда шарахнуло по тротуару, – перегородили путь металлическими барьерчиками. Прохожие с ненавистью их сдвигали, норовя проскочить в опасную зону. Дворники барьерчики выравнивали, прохожие – сдвигали, дворники выравнивали, а потом барьерчики исчезли. Когда обвалился еще один пласт, уж не знаю, задело кого-нибудь или нет? – натянули красно-белые ленточки. Обходить было неловко, нагибаться – оскорбительно. И ленточки вскоре порвали. Беспомощно висели обрывки, привязанные за водосточные трубы, сигналя не о падающей штукатурке, а о безответственности людей.
Как бы в насмешку, на подступах к Литинституту, на боковой стене огромный плакат: «Все ждут новую книгу Пауло Коэльо!» Проходя мимо служебного входа театра им. Пушкина, невольно ускорил шаги. Как бывает ранней весной: попадаешь в тень и хочется поскорее выскочить на солнышко.
А вот и лужа – никуда не делась, родимая. Справа обойти – машина стоит, обойти машину – можно угодить под машину. А лужа на весь тротуар. Лужа имени Николая Васильевича Гоголя! Из двух зол выбрал большую – проскочил по мостовой, пообещав себе больше так не делать.
Было лето 2008 года. Женщины, обнажив пупки, носили брюки с низкой талией, увеличивая число дорожно-транспортных происшествий, потому что взоры многих мужчин неподвластно прыгали в сторону. И если поэт заметил, что трудно найти в России пару стройных женских ног, то пупков красивых оказалось еще меньше. О чем обладательницы не задумывались и, слепо следуя моде, сильно понижали степень своей обворожительности и привлекательности. Мужчины в претензиях на моду тоже не отставали – послушно менявшие галстуки: однотонные на полосатые, широкие – на узкие, в этот год опрометчиво расстегнули под строгими и нестрогими костюмами на рубашках верхнюю пуговицу, а самые притязательные – две! Явив миру не всегда стройную шею.
Отягощенный думами о моде, дотопал я до РАО. Раньше в отделе регистрации все стены были увешаны дареными плакатами известных артистов, композиторов, входишь, бывало, как в букет. Атмосфера медовая, теперь авторские оскудели и в отделе – сумрачно. На втором этаже – там еще пылились, выцветали на стенах узнаваемые лица, а уж тут, на первом, после переезда дух концертно-богемный улетучился напрочь. Обычный учрежденческий отдел: столы, компьютеры.
«Здрасти», – сказал я. «Здрасти, – сказали мне. – Сейчас посмотрим». Побегали женские пальчики по клавиатуре и выскочили на экране буковки моей фамилии, имени и отчества. А под ними названия. И вроде на ТВ текстов поболе прошло – тут маловато. И в кассе, куда заглянул, прибыло помене, чем ожидал. Раз в десять по сравнению с тем же временем прошлого года. Из русских пословиц мне нравится: «Работа не волк – в лес не убежит», а из еврейских: «Деньги – это дерьмо, но дерьмо – не деньги».
В задумчивости покинул я РАО. Словно нитка, выскочила из иголки, а я шил, шил… Вышел за ограду и наткнулся на Эдика. Точнее – он на меня.
– О! – вскричал Эдик. – Вот ты-то мне и нужен!
Четверть века назад он был эстрадным режиссером – это особая порода. Я делал с ним такие шедевры, как «БАМ – строить нам!» и «Любовь моя – Нечерноземье!». Потом сбежал, опасаясь умопомрачения. Театральный режиссер в своем творчестве идет от внутреннего позыва, эстрадный от указа начальника; у театрального под рукой вся мировая драматургия, у эстрадного – календарь: День металлурга, День шахтера, Международный женский день, День города… Театральный режиссер бывает деспотичен, капризен, сумасброден, он жаждет понравиться публике, поразить коллег, очаровать критиков; эстрадный режиссер проще – его творение должно понравиться заказчику и принести деньги. Сбор артистов похож на сбор экипажа пиратского корабля, веселый Роджер должен трепетать над автобусом, когда мчится он по шоссе к областному или районному центру. Не географические или ботанические открытия влекут их, за добычей едут они, за добычей! И балетные тут, и театральные, и киношные – все вырвались на волю, и ждет их впереди не трепет закулисный, не горение творческое, а – стадион!
Конечно, и здесь важен масштаб личности, тезка Эдика привлекал хоры, танцевальные ансамбли. В День колхозника по стадиону ездили комбайны, украшенные флагами, пионеры собирали разбросанные по полю колоски и вязали снопы, маршировали солдаты, олицетворяя собой надежную защиту мирного труда и т. д. Секретарям обкома и райкома подобное зрелище было любо-дорого. А прославился тезка Эдика тем, что когда из самолета раньше времени выпрыгнули парашютисты, закричал в мегафон: «Парашютисты, назад!
Парашютисты, назад!..»
Мне нравятся несдавшиеся люди.
Многие богатыри из моего поколения слиняли, обветшали, иные – просто умерли, унеся в могилу обиду на действительность, и лишь некоторые, и среди них, как я понял – Эдик, остались на плаву.
– Вот ты-то мне и нужен! – обрадовался он, испугав меня, потому что, если ты нужен таким людям, значит, будешь не нужен себе.
Много я поработал на чужое благо, отложив в дальний ящик свои дела, где они и протухли.
– Ты сейчас куда? – деловито спросил он, безразлично пожав мне руку.
– Ну, тут… – неопределенно ответил я, оглядываясь по сторонам. Мы стояли посреди тротуара. Эдик вальяжничал перед прохожими, искоса взглядывавшими на нас. Обычно он говорил тихо и как бы заговорщицки, а на публике, красуясь рядом с артистами, громыхал, ловя внимание и наслаждаясь.
– Понятно, бегаешь по корпоративам? – понял он по-своему, взбесив меня.
Человек я покладистый, взбесить меня можно, только исказив мои слова и поступки своей кривой линейкой, измерив своим сломанным аршином, взвесив на своих разболтанных весах. И приходится сдерживаться: давя в душе возмущение, гася гнев, объясняя, оправдываться. А собеседник и это истолкует по-своему.
– Я на корпоративах не работаю, – сказал я внятно.
– Понял, понял, – отступился Эдик, потому что было видно, озабочен другим. – Может, пройдемся, поговорим? Ты не торопишься?
– Ну… если недолго.
Эдик ухватил меня за локоть, что я весьма не люблю, но из вежливости выдергиваю не сразу, и повлек меня в противоположную от моего маршрута сторону. Вести пустопорожние разговоры я не мастак, с трудом открываю рот. Жена уверяет, что это от моего эгоизма и высокомерия. Я же считаю, что от простоты и искренности. Однако молчать тоже неловко.
– А ты в ВААП… в РАО ходил? – спросил я, чтоб что-то спросить.
– Нет, я – сюда, – показал он на актерский дом, мимо которого мы проходили. И добавил, увидев в моих глазах удивление: – По делам, по делам…
Локоть я высвободил; по тому, как уверенно Эдик вышагивал, было ясно, что мы не просто гуляем. И точно!
– Сейчас зайдем к нам! Выпьем кофейку! А может, что покрепче? – предложил он и, я заметил, насторожился – вдруг соглашусь?
Не от жадности – жизнь гастролирующего режиссера научила бояться запойных. Да и мне столько раз приходилось видеть, как нормальный вроде человек после третьей-четвертой рюмки становился неуправляемым, обузой, и весьма опасной.
– Сейчас выпьем кофейку, – повторял он, взглядывая, оценивая и примеряя меня к чему-то, – поговорим, пообщаемся… дома-то как, нормально?
Идиотский вопрос – для одних нормально, когда «Мерседес» в гараже, для других – отсутствие боли, а для иных нормально, когда жена и любовница не донимают упреками, а для кое-кого нормально, если с утра на холсте, на бумаге нотной, бумаге писчей остались его мысли, чувства, звуки, слышимые только им одним, вот это для них нормально. А случись, исчезнет способность творить, поймут, что это было – счастье, которое, обесценивая, воспринимали как норму.
Мы подошли к подъезду старого, гладко отремонтированного дома. Этажей шесть – все рамы из белого пластика, а стекла – мертвы. Эх, никогда уже Москва не будет Москвой! Не будут в открытых окнах цвести настурции и столетники, висеть клетки с канарейками и щеглами. Не будут в небе, над зелеными дворами, летать белые голуби, не будут из открытых окон кричать мамы своим деткам: «Витя, Саша, домой!» Не будут наши терпеливые, ласковые бабушки вставать в шесть утра и печь пироги, хотя в соседней маленькой и в большой филипповской булочной продаются калорийные булочки с изюмом и орехами, и французские булочки с вкусной поджаристой корочкой, которые в архиважных политических целях были переименованы в конце 50-х из французских в городские, отняв у них одну из составных притягательности.
Не нажимая на кнопки и не прикладывая ключа, Эдик потянул дверь, должно быть, нас заранее углядел в видеокамеру охранник. Поначалу меня это кололо, как булавками: из дома выходишь, в спину смотрит глазок, идешь к метро мимо банка – опять телекамеры, в магазине – изо всех углов. Хрен куда спрячешься! Ходишь по Москве как под неусыпным взором Господа Бога, прости, Господи!
Охранник, пожилой человек в форме, которая не молодила, а будто насмехалась над возрастом, смотрел с любопытством. Забавно, что, когда мы вошли, в телевизоре, под потолком, показывали меня.
Эдик, конечно, сразу залучился, хотя из зрителей был только один охранник. Вот уж точно – бодливой корове Бог рогов не дает.
Будь он популярен, ходил бы по улицам, млея и щурясь, и угодил под машину, которые носятся как сумасшедшие. ГАИ с этим по мере сил борется, а главный наставник человечества – телевизор, без устали показывает «Такси», «Такси-2»… «Такси-4», вдалбливая телезрителям правила неправильного поведения. Да и артисты наши, сделавшиеся по вине телевидения властителями дум, так и норовят рассказать, как они пьют и лихо гоняют на своих иномарках.
Прошли мы налево по коридору, переступили порог и очутились в офисе, который был похож на офис. Кинулись россияне за европейским стандартом, забыв опрометчиво о своей самобытности, и куда ни зайдешь, будто отсюда и не уходил! Серые стены, пустые окна, коробочки компьютеров… И это в Москве! Чей архитектурный символ – храм Василия Блаженного!
Ну, не предательство ли: очаровательным и не похожим друг на друга женщинам, внушать, что они будут обольстительными лишь в размерах: 90-60-90?
Именно такая сидела в офисном предбаннике, изображая секретаршу, хотя секретарить здесь явно было нечего.
– Настя, – представил Эдик и изобразил на лице по отношению меня: эту-то персону представлять не надо!
Настя улыбнулась, как ей показалось, обворожительно и, привстав, спросила, как показалось, изысканно:
– Чай, кофе?
– Нет, нет! – замахал я руками. – Спасибо!
– Ну, если захотите, тогда скажите, – обиделась она.
В кабинетике Эдик завалился в кресло, будто еле дошел, и ткнул мне в другое.
Опустился в кресло и я, предварительно смахнув с него крошки. Окно за спиной Эдика выходило в глухую кирпичную стену, напомнившую мне детство: два окна нашей комнаты тоже выходили на стену, развивая воображение. Что увидишь, если открывается чудесный вид – лишь то, что видишь. А глядя в темные кирпичи, многое можно напредставлять! Любопытно, что дом тот старенький двухэтажный, заслонявший мне белый свет, еще в мои детские годы собирались снести, и… четырехэтажные соседи его сгинули, а он, замухрышка, сияя новой оцинкованной крышей, соседствует теперь со стеклянным корпусом банка, возведенного турецкими строителями по австрийскому проекту. Кто? Когда? Чья легкая рука влепила его в Москву-матушку?!
Да, постарел Эдик, но не обветшал – перстень на мизинце (у писателей верный признак, что пишет теперь плохо, думая, что – хорошо), щечки пухлые и седая ровная бородка. А я? В детстве был горд, когда научился завязывать шнурки на два бантика. А до того с замиранием сердца смотрел, как это делают другие. Нет, не завидовал, не зависть, слава Богу, пронес через всю жизнь, а изумление чужой умелостью. Сокрушался, что так никогда и не научусь время узнавать, а уж когда получилось: сначала по маленькой стрелке – часы, а потом – неужели я сам! – и по большой – минуты, счастью моему не было предела. Меня аж распирало от счастья, и когда мне говорили, что есть еще секундная – я отмахивался: да что вы, мне хватит! Я и так, без секундной, благодарно проживу свою жизнь! И прожил…
А уж как ошарашенно удивился, впервые столкнувшись на концерте с Евгением Леоновым! Ну, мне, молодому и безалаберному, не в укор потешать публику, но зачем – он?! Изображая пьяного, выходил на сцену с бутылкой водки в авоське. Это для меня было несоразмеримо, несопоставимо с его талантом. А когда в платежной ведомости, выискивая свою фамилию, наткнулся на его и увидел, что сумма такая же, я почувствовал себя соучастником обмана.
Потом повидал я народных и знаменитых!.. «Десять минут позора и – месяц спокойной жизни», – сказал как-то в Коломне один из них, хотя ему и замечательным другим за заслуги перед отечеством надо дорогу соломой выстлать, чтоб только доехали, только чтоб из дома вышли, чтоб лишь хотели выйти и поехать – деньги под дверь подсунуть и убежать, и сгорать от счастья, что они их взяли, а не выбросили презрительно в окно!
Эдик считался успешным режиссером, не таким, конечно, как его тезка, который успел и в тюрьме посидеть, но тоже не промах.
– Слушаю вас, – сказал я.
– Мы же на «ты», – убеждающе напомнил он.
– Я шучу, – успокоил я. – Итак, что вы предлагаете – ограбить банк? Судя по вашему респектабельному виду…
Вид у Эдика был не респектабельный.
Невзирая на видимые старания. С трудом дается нашим актерам изысканность, и еще почему-то не могут они изображать иностранцев, как ни тужатся – все получается какая-то пародия. Поэтому и демократия забуксовала и съехала поломанной телегой на обочину. А социологи и политологи головы ломают, отгадку ищут, грешат то на иноверцев, то на коммунистов. Одно успокаивает, что и иностранцы изображают нашего брата недостоверно. При всем почитании Достоевского, Чехова и Толстого.
Эдик был одет дорого, а поставь его рядом с мусорным контейнером, покажется, что все там нашел. Но вид у него был не злой, а тут, в его комнатке, без посторонних глаз, даже радушный. Впрочем, меня это обмануть не могло, я помнил, как легко он поворачивался спиной, отдавая свое внимание более, на его взгляд, важной особе.
– Есть очень приличное дело, – перешел Эдик к делу, – тебе понравится.
Я молчал и смотрел поверх Эдиковой головы на кирпичную стену. «Интересно, кто ее выкладывал? Пожилой, уверенный в себе мастер? Деревенский мужик, пришедший в город на заработки с мечтой купить корову? У Гиляровского в „Москве и москвичах“ про эти артели написано… А сам Гиляровский – рыцарь репортерского цеха, взял название у Загоскина, – вспомнил я, – а в „Ревизоре“ у Гоголя две фамилии писательские упоминаются: Пушкин и Загоскин…»
– Эдик, ты тут главный? – в лоб спросил я.
– Нет, ну…
– А кто?
Эдик показал глазами на потолок и скривил губы, изображая, что лучше не спрашивать.
– Я отвечаю за конкретные мероприятия. Они без затей, а надо бы как-то разнообразить. А ты, я помню, и рассказы всегда писал какие-то такие… Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я?
Я не понимал. С одной стороны, раньше Эдик не подводил, хоть и ловчил, с другой – времена поменялись и вокруг процветает, не хоронясь, кидалово. С третьей стороны: на хрена мне нужны приключения, которые как дорогая шуба на плечах, но летом, а с четвертой…
– Короче, сценарий, что ли, писать? – прямо спросил я.
– Вроде этого, но не представления, а как бы представления в жизни.
Мне стало чуть интереснее. Уловив, Эдик солидно произнес:
– Про оплату не сомневайся – все по высшему разряду.
– Какой он у вас – высший?
– Тысяча…
– Зеленых?
– Зеленых, конечно, и – выше…
– До бесконечности?
– Ты почти угадал, – без улыбки сказал Эдик, – для начала возьми что попроще, например – день рождения.
О существовании подобного бизнеса я слышал. Особо процветал на этой ниве бывший фельетонист. Выпускник МГУ, с педантичностью ученого, он изучал личные дела, выспрашивал забавные случаи, происшедшие с тем или иным сотрудником фирмы, и перерабатывал их с профессиональным мастерством во всеобщее посмешище. При этом величал по имени-отчеству с упоминанием мелких деталек, что подкупающе действовало на психику «белых воротничков». Хлеб казался легким, и другие из обмелевшего эстрадно-юмористического моря пытались заняться этим – не у всякого получилось. Работавшие на штампах и старых анекдотах свалили на путь проведения свадеб, а более щепетильные и стыдливые соблазненно попробовали, да чуть здоровья не лишились. Один, прошедший огонь, воду и частично медные трубы, с инфарктом в больницу угодил. Другой, писавший монологи для Хазанова, Петросяна, Винокура, сочинил по заказу банкира, возомнившего себя юмористом (а почему не возомнить, если деньги есть?), довольно смешной текст, банкир на юбилее, подражая Жванецкому, зачитал его с бумажки в гробовую тишину, а это хуже, чем проиграть в казино сто тысяч, потому что сто тысяч можно выиграть завтра, а недоумение и неловкость, попросту говоря – позор, из чужой памяти не выковырять. Смыть можно только большим успехом. А как рассчитывать на успех, если нет гарантии и опять может быть провал?
Всю силу неудачи банкир обрушил на автора, и тот месяц глотал таблетки. Забыл писака незыблемый закон: если у артиста успех – это заслуга артиста, если провал – вина автора!
На корпоративах удобно выступать тем, кто поет и пляшет, и уж совсем необременительно иллюзионистам. Выведет он какого-нибудь начальника на сцену, достанет у него из кармана бюстгальтер – радости нету предела! А уж когда начальник вернется на место, а фокусник спросит у него: «Сколько время?» и достанет из своего кармана его часы, и покажет захлебывающейся в злорадном хохоте публике…
– Ну, можно попробовать, – раздумчиво сказал я.
– Но учти, – посерьезнев, сказал Эдик, – нам нужен эксклюзив! Делай, что хочешь, но – эксклюзив. Поэтому я к тебе и обратился. Я помню, ты делал для Росконцерта, в театре Эстрады… – завел он, надувая мою значимость, что я терпеть не могу, осознавая свое значение. И когда шел в театр Эстрады на репетиции, не обольщался будущим, а довольствовался уже тем, что репетируется спектакль по моей пьесе, а я – Витя, иду вдоль Кремлевской стены по Александровскому саду, иду не спеша, потому что чувствую неповторимость происходящего. И через 10–15 минут сяду в пятом ряду в красное кресло и буду своими подсказками мешать режиссеру играть в режиссера.
– Успокойся, – пресёк я Эдика, – и давай показывай, что там у тебя есть?
Я выбрал день рождения и попрощался. Настя, не учуяв во мне достойную ее взысканиям персону, кивнула вежливо и равнодушно, как кассирша в супермаркете. Эдик напутствовал словом: «Жду!»
Вышел я на старую московскую улицу, длинно заставленную автомобилями, посокрушался привычно, уже смирившись, уже простившись с моей Москвой, и направился сквозь солнечный день к Патриаршим прудам.
Патриаршие всегда как бы соперничали у москвичей с Чистыми. И равно озадачивали непросвещенных: случилось, водил по Москве иностранца. «Вот, – говорю, – Патриаршие пруды». Он удивленно: «Здесь же один!», я говорю: «Остальные украли». Он глаза вытаращил, спрашивает: «Как?» Я говорю: «Ночью. Подкрались трое». Он понял, что я шучу, приехали к Чистым. «Вот, – говорю, – Чистые пруды». Он смеется: «Остальные украли?» Я говорю: «Да, и этот скоро тоже».
В каждой шутке есть доля правды – эта доля сейчас на Чистом пруду угнездилась. Ну, какую мудрую голову осенило поставить на памятнике природы харчевню? Урвав от него часть и исказив пейзаж?
Поначалу на моем веку первенствовали Чистые. Летом здесь катались на лодках, зимой – на коньках. Кинотеатр «Колизей» здесь был, и редакции газет «Вечерняя Москва» и «Московская правда», и действующая церковь Михаила Архангела поодаль, но когда появился в журнале «Москва» роман «Мастер и Маргарита»…
Заглянул на Патриаршие. С грустью отметил, что сокровенность места пропала. Будто бездарный журналист из «желтой» газетки переписал заколдованный роман.
Сел на скамейку у памятника баснописцу Крылову. Светило солнце, трепетала листва, в траве валялись пивные банки. Раньше на бульваре играли в шахматы, читали, гуляли с малышами. Нынче не играют, не читают, да и пиво-то пьют чаще на ходу, будто уж так торопятся, по таким важным делам, что и присесть некогда. А те, кто присядет, пьют, сосредоточившись на чем-то довлеющем. Посидят, потом потрясут банкой, проверяя: есть ли там еще? Бросят под себя или сбоку и поспешат дальше. А ведь хорошие люди… если их построить да заставить сделать двадцать приседаний, а потом по бездорожью километров пять в сапогах с портянками – вполне могут научиться пустые банки аккуратно опускать в урны.
Я смотрел на пруд, на уток, на молодую мамашу, неспешно катящую перед собой коляску и бережно покуривающую в сторону. Перед памятником прохаживался мужичок предпенсионного возраста. Поначалу ходил пружинисто, свежо вглядываясь в даль аллеи. Потом стал ходить медленнее и нервно взглядывать на часы, потом пошел было прочь, вернулся. Потоптался, ушел, и… явилась она. Снисходительно глянула по сторонам и села на скамейку, делая одолжение и скамейке, и дедушке Крылову, и солнечному дню, и, разумеется, тому, кто, не дождавшись ее, ушел. Посидев секунд десять, закурила, достала из сумочки мобильник и стала звонить.
Откуда-то шустро припорхнул сизарь, два раза клюнул шелуху от подсолнухов – тут же прилетели еще три. Деловито обследовали прискамеечную территорию и шумно улетели.
Красивая неласковая рябь зеркалилась на пруду. Я представил, что ушедший мужик не ушел, а утопился… и меня осенила идея «дня рождения». Я встал со скамейки и… сел. Откладывать было негоже – жизнь показала, что дело подчас не в сюжете, а в энергии, которая его наполняет. Приедешь домой, остынешь и подумаешь: какая ерунда! А если, не остывая, наполнить эту, подчас действительно ерунду, энергией слов… Вот, к примеру, «Швейк»: в первой части энергии много, а потом… Или «Дон Кихот» – там тоже… Или…
Я поозирался – вроде бы внимания не привлекаю: не косятся, не лезут за автографами, не просят сфотографироваться. Жена недавно сказала: «Ты бы хоть деньги с них брал». Я спросил: «За что?» Она говорит: «Я видела на Арбате с обезьянкой фотографируются за деньги». Она пошутила, а я промолчал, что за деньги пришлось фотографироваться… Вицину. Выступали они, старики, в юмористическом концерте в театре Киноактера, а потом он – великий, выходил в фойе, и дошлый, хваткий фотограф снимал…
Женщина, не дождавшись и докурив сигарету, без сожаления ушла; слева, на ближней лавочке, примостились два молодых бизнесмена, захлебываясь, балаболили: доллар… евро… курс… предоплата…
Но на чем писать? Я достал конверт, в который мне положили в раоповской кассе деньги (а писать на таком конверте – верный признак удачи), и мелкими буковками убористо настрочил сценку, исписав конверт с двух сторон. Не минуло и получаса, а тысячу баксов я, считай, уже заработал. Поднялся и с чувством исполненного перед семьей долга двинулся к Тверскому бульвару.
Утром, пробудившись и еще не открывая глаз, я перебрал по косточкам вчерашний день и по-звериному почувствовал, что эта тропа может привести к водопою. Жена, утомленная полуночным хождением в Интернет, устало спала. Когда она читала перед сном «Как заработать миллион» или «Как похудеть за неделю», правда, не более двух страниц, у нее на лице отдыхала улыбка.
За окном шумела и вскрикивала нервными автомобильными гудками наша маленькая улица. На соседней, большой, по утрам пробки, и вот повадились объезжать по нашей. Дожили! По статистике больше всего дорогих «Мерседесов» – в России! Где средняя пенсия ниже прожиточного минимума! Холодильник опять пустой! Жрет он, что ли, по ночам продукты?!
Я вылил кофе и, не дожидаясь одиннадцати, позвонил Эдику – небось, не артист, должен вставать рано. Артиста утренним звонком лучше не тревожить: во-первых, можно разбудить, а во-вторых, человек, который в одиночку общается с тысячными залами, может спросонья так рявкнуть, что комок его негативной энергии влетит в ухо, как пуля. И ранит на весь день.
– Что, уже сделал? – удивился Эдик. – Ну, тогда перекинь мне, у тебя компьютер есть?
Ох, уж эти вопросы! Но общаешься с людьми – терпи! Не хочешь объяснять – терпи! Если объясняешь, а не понимают – общайся с теми, кто поймет! А понимает меня лучше всех Джек. Сколько раз, бывало, втолковываю на кухне, что такое Жизнь! Сын, немного послушав, потихоньку уходит, жена – засыпает, и только Джек – немецкая овчарка, уши навострит, смотрит, не мигая. Изумляется: какой Витя умный! И радуется и гордится мной!
Отдать эстрадный текст без разъяснений – это все равно что цветок розу сразу отнести на помойку. Сколько раз попадал впросак, доверившись, понадеявшись. В Москонцерте, бывало, смотрит редактор в рукопись, ожидая привычных реприз и не понимая, где же тут смех? И в театре – на праздновании 90-летия МХАТа у Дорониной, доверился я, затюканный бытом, режиссеру, не ходил на репетиции, а когда пришел в верхний малый зал – увидел на сцене понурых актеров, расстроенного режиссера и взбешенную львицу Татьяну Васильевну.
Как холодной водой окатило меня. Сел в задний ряд и слышу ее голос: «Кто эту ерунду написал?!»
«Я!» – сказал я. И вышел на сцену. Подмостки меня всегда успокаивали – может быть, жена права, и я действительно высокомерен? Но спасибо, закалила она меня: никогда я не мог доказать зимой, что на улице – зима, если ей хотелось, чтоб было лето! В лучшем случае, сводилось к тому, что да, холодно, снег, но в этом виноват я. Вышел я на сцену, как на боксерский ринг, однако народная артистка враз уловила, где собака зарыта. Откопали псину, и та радостно загавкала. И отлегло у всех от сердца. Даже Вл. Бондаренко, служивший тогда у Дорониной зав. литературной частью и сидевший с двумя продуктовыми наборами на коленях, повеселел. Что можно, наконец-то, идти домой со спокойной совестью, потому что сценария он не читал, а в пакетах могло что-нибудь подтаять, год-то несытый был – 1989-й!
И позже тоже… Союзконцерт делал презентацию книжки Лужкова. Гр. Горин написал монолог Гоголя для Хазанова, я меня уговорили написать монолог Гиляровского – дяди Гиляя, для Ляховицкого; и я написал и, затюканный жизнью, не ходил на репетиции, а потом позвонил режиссер, тот самый легендарный Эдик, и сказал, что надо что-то делать, потому что монолог «не идет», и что машину за мной он уже послал. И я приехал, и на втором этаже у окна, выходящего на Неглинку, показал артисту, где сделать акценты и с какой интонацией, и он, с ходу вняв, обрадовался и на выступлении в концертном зале «Россия» имел успех. Потому что истинный юмор прячется не снаружи, а внутри слов, как косточка в персике, как деньги в бумажнике, как…
Послать по электронной почте я могу, а что толку – если все равно придется ехать и объяснять?
– Ты скажи лучше, кто будет ставить?
– Режиссер, – быстро заверил Эдик.
– И фамилия у него есть?
– И даже имя, – сказал Эдик с ударением на «имя».
– Ну, тогда надо как-то встретиться поговорить…
– Жди! – пообещал Эдик.
Ждать пришлось недолго.
– Виктор Михайлович, это – Икс Игрекович, – сказал глуховатый, тревожно-знакомый голос. Конечно, не Икс Игрекович, но про себя я могу откровенничать, а другие пусть сами решают, как им предстать миру.









































