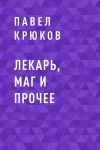Текст книги "Проклятие"

Автор книги: Виктор Муйжель
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Виктор Муйжель
Проклятие
I
Когда Петровским постом, в праздник, была подана на обед уха из пойманных накануне Мишкой окуней, Феня поднесла ложку ко рту и остановилась. Противный рыбный запах легкой тошнотой сжал горло, вызывая на лицо брезгливую гримасу.
– Ты чего же? – чуть вскинув глазами, спросил старик.
– Сыта, не хочу…
Старуха зорко поглядела на нее. Феня сидела, опустив голову, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать этого отвратительного для нее запаха вареной рыбы.
А вечером в тот же день, когда она ложилась спать, старуха пришла к ней и долго расспрашивала ее, все так же зорко и недоверчиво поглядывая. И потом сказала угрюмо, с темной и злой угрозой, как говорят иногда очень старые и брюзгливые старухи:
– Допрыгалась… Все гулянки, да погулянки, песни да посиделки… Беременна ты!..
Феня смотрела на нее остановившимися глазами, не понимая ее слов, но чувствуя, как мучительный стыд душной волной охватывает ее.
Старуха повернулась и, охая и кряхтя, как всегда, когда была очень сердита, пошла к двери. Феня спала в амбаре и на ночь оставляла дверь открытой, потому что было там душно и крепко пахло новой кислой кожей от развешанной под потолком сбруи.
Старуха тоже не закрыла двери, и ночь глядела в светлый квадрат призрачно и таинственно, полная серебристого сумрака молодого еще месяца и звонкой, как стеклянная, тишины. Где-то, должно быть очень далеко, на какой-нибудь росистой, закутавшейся седым туманом лужайке, звучно и коротко отдергивал свою односложную песню коростель-дергач, и от этого было жутко: все спит, и темным, и неподвижным стоит лес, и поле мертво и беззвучно, и, утопая в огромном бесконечном холоде, висит молчаливый месяц, а он не спит и живет своей таинственной, ему одному известной жизнью, и одинокий затерявшийся в тишине и сумраке ночи человек слушает его с мертвой тоской в груди.
Потом Феня плакала.
Так вошло в жизнь то новое начало, что внезапно и странно изменило весь мир. Он был таким же, как и прежде, и так же вставали по утрам люди и работали, сходились к обеду и бранились, так же приходила ночь, но не приносила она уже долгожданного забытья и отдыха, а была полна новых, жутких мыслей.
И то, что раньше будило отзвук тихого восторга – обрывок песни и острые звуки далекой гармоники, доносившиеся в открытую дверь сарая ночью, – было чуждо и ненужно, и самая память о веселой гулянке на улице с молодежью потускнела и ушла, и умерла, как умерло веселое, беззаботное девичество…
Широко открыв глаза и неотступно следя за тем, как медленно и неуклонно двигался голубой квадрат лунного отсвета на полу, Феня лежала в душном, пахнущем новой кожей сарайчике, но уже не плакала. Высохли слезы, хотя хотелось плакать, и – знала – легче было бы плакать, а их не было, как будто все они собрались терпким, сухим комком у горла и давят грудь тупой безысходной тяжестью и не могут пролиться.
Внезапно и неожиданно громко пел петух, где-то недалеко, на соседнем дворе ему отвечал другой, потом третий, и еще, и еще, потом все умолкали и прислушивались. Наполненная росистым запахом пряной проростающей травы, как густое прозрачное вино в хрусталь ной чаше, стояла тишина, пронизанная несмелым призрачным светом месяца… И когда уже последний отзвук странной ночной переклички замирал где-то над дремотными полями, издалека, словно из другого мира, знакомым и тихим эхом отзывались петухи другой деревни. И от их бледного, затушеванного расстоянием крика было жутко…
Все спят, а не спит только одна девушка и подслушивает незнакомую ночную жизнь и смотрит в светлый квадрат двери испуганными глазами, а где-то в ней в таком молодом и знакомом теле, незримо свершается таинственная работа. И новая, требующая правда войдет – уже вошла в ее жизнь, и стала над нею терпеливая, немая и близкая.
А днем неотступно и упрямо, как злой ростовщик, всюду шла за ней одна мысль. Работала она на огороде, помогая старухе сажать капусту, нося воду и окапывая ямками бледные, слабые листочки рассады, или обряжала скотину, задавая на ночь корм, или сновала по избе за стряпней, – всегда думала о ненужности, нелепости рождения нового, неизвестного человека, которого никто не хотел и который ломал и коверкал ее нужную и известную жизнь.
Так было странно, что, вызванный из мрака, придет он и властно заявит о своем праве жить и потребует, чтобы жизнь других людей подчинилась ему…
Зачем? Да, зачем?!
II
С тех пор, как семья узнала, что произошло с Феней, с ней почти не говорили или говорили только по делу, когда надо было послать на работу или побранить за худо сделанное.
Отчуждение и враждебность стали невидимой стеной между нею и семьей, и было страшно это, потому что прежде все обращались с ней хорошо и внимательно. Никто не говорил о сватовстве, а известно было, что старик-дядя ездил уже два раза в Красноселье, и они сладились уже с лавочником о свадьбе. Она знала лавочникова сына, встречая его на гуляньях и праздниках, и такой трогательной казалась ей его робкая застенчивость, чуждая обычному озорству деревенской молодежи, так нравилась ей его скромность, то, что он не пьет, что он читает книжки и редко бывает на гуляньях. И когда она думала о свадьбе, – спокойное, немного даже гордое чувство тихо и сладко волновало ее; и часто, стоя где-нибудь между гряд или у колодца, она мечтала: выйдет замуж и будет холить этого хрупкого, задумчиво-грустного Яшу, с нежной заботливостью ходить за ним и беречь незнакомую ей, немного таинственную и оттого особенно важную жизнь его…
О том, что было, она не вспоминала. Это было недавно, но казалось, что прошли целые годы, и серая паутина покрыла прошедшее, так что трудно было вообразить живо и ярко, как это было. И того, кто посмеялся и ушел в далекий и чуждый город, тоже не вспоминала. Было, прошло и исчезло, оставив мутный осадок тайного стыда и позднего сожаления. И было время, когда это так забылось, что можно было поверить, будто этого и совсем не было. Прошло, как сон, волнующий и страшный, а потом забывшийся под сменой сегодняшних мыслей и сегодняшнего дела.
И вдруг, когда это особенно было ненужно, когда особенно мешало, – оно молча вошло и остановилось перед будущим, как неумолимый и злой сторож его.
Как чужая была Феня в семье, потому что все надеялись, что она выйдет замуж, и тогда все пойдет иначе: не будет нужды и недохватки. А она обманула, и горечь неудавшейся жизни всех выражалась упреками, бранью, презрением.
С утра все вставали хмурые и раздраженные и не говорили, а перебранивались и готовы были каждую минуту придраться к ней. Никто не упоминал о том, что она сделала, также не говорили о несостоявшейся свадьбе, но угрюмая туча разочарования и обиды висела над домом, и всем было тяжело.
Ходил насупленный Мишка, брат Фени, работал и каждое дело не делал, а рвал и ругался нехорошо. Он был здоровый, широкоплечий парень с толстой, красной шеей и бессмысленным круглым лицом, на котором маленькие зеленоватые глазки прятались в жирных складках век. Взгляд их был туп и невыразителен, и, весь малоподвижной, он имел привычку странно подолгу упираться им в одно место, не разбирая, было ли то лицо человека, или пень, или просто пустое место. И когда он смотрел так на того, с кем говорил внезапно обрывая разговор странным молчанием, – собеседнику становилось неловко до жуткости. Что-то темное, тупое и злобное было на дне этих прячущихся зеленоватых глазок, и, глядя в стеклянную прозрачность их, невольно думалось о том, что этот неуклюжий, малоподвижной человек способен вдруг без всякой видимой причины вспыхнуть диким нелепым бешенством.
Порою он упирался глазами в Феню и смотрел на нее долго и неподвижно, громоздкий, тяжелый и страшный своим молчанием. Тогда у ней опускались руки, она отворачивалась, старалась не встречаться с ним взглядом и, отвернувшись, чувствовала, как острый холодок дальнего бессознательного ужаса сдержанной волной бежит по ее плечам.
Временами Мишка запивал. Тогда, являясь домой, он начинал буянить и, выкрикивая бессмысленные ругательства, бил посуду и ломал скамьи. Страшно было глядеть на этого угрюмого человека, когда он, ухватив одной рукой тяжелую скамью, с размаху ударял ее об пол, так что летели щепки, и орал, неизвестно к кому обращаясь:
– Убью!.. Дай срок – только мокро будет! Убью, чтоб вас всех…
И тогда казалось, что он действительно кого-нибудь убьет, – убьет неожиданно и страшно.
А на следующий день он опять молчал, работал в поле и на дворе, угрюмо отругиваясь, часто и подолгу останавливаясь и неподвижно глядя в одну точку.
Сновала по избе старуха-мать, такая старая, злая и видом похожая на бабу-ягу. С тех пор, как она узнала, что произошло с Феней, она как будто сделалась еще злее и пилила ее. Убирая посуду вечером, когда Феня, стоя рядом, перетирала ее, все время грызла обидными, злыми словами, останавливаясь и грозя скрюченным, черным от грязи и застарелого загара пальцем.
– Твой грех – твой и ответ! – скрипела она брюзгливым прерывающимся голосом, – а зачем счастье терять? Мы за что страдаем? Погоди, погоди, узнаешь, как сладко-то это!.. Все гулянки да посиделки – ужо, ужо погоди, хватишь девятого венца! Не даром в Писании сказано: которые в законе по Божьему – за страдание это сорок грехов долой, а которые распутные – смертный час!.. Ужо погоди, гадюка проклятая!..
Грозила сухим черным пальцем и трясла головой, а беззубый провалившийся рот таил хитрую, страшную улыбку, в которую сложились складки мертвеющей кожи…
И от ее слов, как от молчания Мишки, было страшно. Она знала, она помнила, она, старая-старая, в жизни которой было много таких случаев, она не зря говорит… И самое страшное было в том, что никакие силы не могут избавить Феню от грядущих страданий! Где-то в глубине ее тела, медленно и неуклонно развиваясь, приближается он – смертный час!
Смертный – смерть!.. Зачем смерть? И зачем жизнь, – эта новая, неведомая жизнь, которая уже идет, приближается и будет, обязательно будет?!..
Хотелось плакать – скулить, как выброшенному на улицу темной ночью щенку, – а мрачным ходил Мишка, скрипела злобно старуха, и Нюшка, тринадцатилетняя сестренка, шныряла неслышно, с острым недоверчивым любопытством заглядывая в лицо своими темными огромными глазами…
Феня как-то хотела поговорить с ней – так, по пустякам, чтобы только поговорить с кем-нибудь, но она с’ежилась, вобрала голову в плечи и тупо и недоверчиво уперлась в нее взглядом. И на все, что говорила Феня, не отвечала ни словом, а молчала, уныло и злобно как прижатый в угол волченок.
Так шло время и, когда не хватало силы молчать, Феня шла к старику.
По летнему времени его выселили в крохотную пуньку под корявыми и наполовину сухими яблонями, бесплодными и старыми, как он. Прежде, когда жив был отец Фени, он занимался пчелами, и в нее прятали весь прибор, а на зиму ставили ульи. Но умер хозяин – и некому было смотреть за пчелами, рои улетали, а оставшиеся хирели и погибли. Мишка стащил колоды в пуньку, набросал поверх их доски, и каждое лето выселяли старика сюда.
Старик доводился семье каким-то дальним родственником, и когда-то в старые времена, о которых все забыли, а он сам говорил редко и мало, у него были деньги. Когда все его близкие перемерли, он отдал деньги Фениному отцу с тем, чтобы его кормили до смерти. Но умер хозяин, а старый все жил и так зажился, что потерял счет годам. Когда его спрашивали об них, – он говорил разно: то ему восемьдесят, то семьдесят, то хватал за сто.
В ясные дни он сидел возле своей пуньки на полусгнившей пчелиной колоде и грелся под солнцем, щурясь и улыбаясь беззубым ртом. И когда к нему приходил кто-нибудь, рассказывал про одно и то же: как умирали один за другим члены его семьи, потом знакомые, потом соседи, потом хозяин, приютивший его, – разводил руками, морщился и удивлялся.
– А я зажился!.. Поди-ж ты – живу да живу и конца краю нет… А стар: спина на погоду во как гудет, а живу! Скажи-ж ты на милость – конца краю нет!..
Феня приходила к нему, садилась около и плакала. Сначала молча, потом начинала причитать и в этих причитаниях изливала всю наболевшую, обиженную душу. Старик молча слушал, кряхтел и кивал лысой головой.
– Жисть, жисть… Все помрем, что же… Зажился, конца краю нет!..
Может быть, он и не понимал толком, о чем плакала Феня, а, может быть, в его утомительно долгой жизни слишком много было слез, чтобы отвечать на них сочувствием и утешением. А может, он просто не слушал того, что ему говорили, занятый своими мыслями и своей догорающей жизнью… Но около него было легко, потому что не было в нем враждебности, как не было и сочувствия.
– А они-то, они, – плакала Феня, – не глядят даже… Марья намедни встретилась, фыркнула носом, морду отворотила… А прежде сама улещала – чего, мол, иди спать-то, он худого не сделает, он не такой! А теперь ищи… Кто-ж не ходит – все девки наши по гумнам с парнями спят, одначе, парни себя соблюдают!.. А он охальник… Ушел! В город, говорят, на лесном заводе… А она фырчит…
Старик качал головой и разводил руками.
– Поди-ж ты – зажился! – бормотал он сухими провалившимися губами. – Помню, как царю Николаю на престол ступить – мальчонкой тогда был, еще бунт вышел тогда – которому на царстве сидеть, тоже вот солдата нашей роты в некруты угнали… Девка-то пропита была, ладились свадьбу играть – потом не стерпела… После тот вернулся – болесть что ли в его открылась, а она-то в петлю… Давно было, страсть давно… Зажился, зажился – прямо, так сказать надо, конца краю нет…
– А тут-то – Яшечка-то – смирненький, тихонький, – плакала Феня, – книжки читает!.. Жисть, жисть какая! Да ведь не он, он не поглядел бы, он добрый, он знает как – тоже к Доньке Сибировой, хоть и тихонькой, ночевать в овин бегал, да его-то лихори… что мои злодеи!.. А ведь жисть-то какая – Господи! Книжки читает…
Она поникла головой и тихо, беззвучно плакала, а старик грел костлявые плечи и шептал что-то: может молился, а может просто жевал сухими омертвевшими губами.
А вечером Феня лежала у себя в амбаре и глядела широко открытыми испуганными глазами.
Так же голубым квадратом открытой двери глядела пахучая ночь и чутко слушала одинокие мысли. Где-то внизу, под полом, неутомимо трещала медведка, занятая своей невидимой работой. И дальняя собака, вспугнутая загулявшим, пьяно оравшим мужиком, выла надрывисто и жутко.
В темноте маленького амбара, среди развешанной сбруи, мешков с овсом и старого, неизвестно кому нужного хлама, сваленного в углу, был еще кто-то, кроме Фени.
Неведомый и близкий, стоял он возле и ждал. Молча, терпеливо и упорно, уверенный в том, что еще придет его время, и ничто не может предотвратить его. И не имеющий еще жизни, копил ее и властно намечал пути другой жизни, такой заброшенной, одинокой и тоскливой.
III
Уже пришло лето – незаметно подобралось полными работы днями – и жарким солнцем стало посреди неба – темного, глубокого и сверкающего. Стали безросыми сухие короткие ночи, и пьяным ароматом увядающих трав дышала нагретая за день земля; и не успевала отдохнуть, как на востоке властно и быстро загоралась пылающая заря.
Спали мало, а много было работы; незаметной чередою полных дней, в которых не было свободной минуты, придвинулся покос.
День, когда было решено делить луговину на шесты пришелся в воскресенье, и перед дележом крестьяне отправились в церковь.
Феня осталась дома одна, и непривычная тишина охватила ее смутным волнением. Так странно было, что нет угрюмого Мишки, нет старухи, что брюзжит вечно, нет дикой, недоверчиво-испуганной сестренки.
С наростающим изумлением двигалась Феня по избе, выходила на двор под пламенное солнце, заглядывала в хлевы. И, склонив голову на бок, прислушивалась к чему-то, что должно было совершиться вокруг нее и стояла так долго.
На дворе бродили куры, и большой голландский петух с необычайно длинными голенастыми ногами и вырванным совершенно хвостом выступал среди них, самодовольный и важный, как паша. При виде Фени он подымал одну ногу и, забыв ее опустить, стоял на другой, искоса, сбоку поглядывая на нее круглыми оранжевыми глазами. Смотрел долго и внимательно и тоже ждал, как видно, чего-то.
И все ждало. В неподвижном ожидании замерли глянцевитыми яркими листами березки на огороде – белые и чистые, как девушки, ждала темная покосившаяся изба, живая смутной памятью многих поколений родившихся, выросших и умерших в ней, и внимательно, ни на секунду не отступая, глядело сверху солнце, одинокое и могучее в безграничной глубине неба.
Феня заглянула в садик к пуньке. Вытянув сухие, темные, как у трупа, руки, на которых жилы натянулись толстыми, узловатыми веревками, прямо уставив длинные костлявые ноги и закинув лысый череп назад, так что солнце ярко освещало лицо, старик сидел на старом улье и, должно быть, дремал. Временами по лицу его скользила неясная тень, и морщины тихо двигались, как ленивая волна по глубокому заросшему пруду. Потом опять они замирали неподвижно, и тогда лицо было как мертвое каменной неподвижностью темных, привычно изогнутых складок своих.
Опять шла Феня домой, долго стояла в сенях, в прохладной полутьме их, входила в избу – и все было, как новое.
Чисто вымытая и прибранная, была готова она к какому-то великому празднику, а светившаяся теряющимся в дневном свете желтым огоньком лампадка у образов будила в душе тихое чувство умиления и покоя.
Феня долго смотрела на ее неподвижный скромный язычек и думала. Потом, вздохнув, принялась за работу.
Надо было растопить таган на припечке – скоро должны придти из церкви. Придут, обедать сядут, а не готово – ругаться будут. И потом надо было принести дров из сеней и разложить их по печке. Старуха давно уже ворчала, что нет сухих дров на растопку.
Феня вышла и, подойдя к сложенному в сенях костру толстых березовых поленьев, присела на корточки и стала набирать на руки дров. Она набрала на руку большую охапку и хотела подняться, как вдруг испуганно ахнула и опустила руки, с громом рассыпая набранные дрова.
Что-то чужое и постороннее упрямо и сильно толкнуло ее в левой нижней части живота – толкнуло раз, потом другой и еще раз. И затихло, как бы прислушиваясь, как настойчивый гость поздней порой, когда все спит и темно, а он стоит у двери и ждет и слушает – не идут ли?
И это было так страшно, так удивительно было это проявление самостоятельной, не связанной с ее волей жизни другого существа, уже живущего, уже двигающегося где-то в ней, что Феня глядела перед собой испуганно и удивленно, еще не отдавая себе отчета – что это, а только прислушиваясь.
Но все было тихо в ней и неподвижно, и впечатление толчков мелькнуло и исчезло так, что трудно было понять, было ли это на самом деле, или только показалось.
Феня собрала рассыпанные дрова, снесла их в избу и разложила на печке. И, растопив таган, стала варить обед, ожидая домашних.
Они пришли из церкви особенно злые и угрюмые и все время молчали, пока не утолили первый голод. Только с’ев похлебку и принимаясь за вареную картошку, Мишка буркнул коротко:
– Покос делить надо… Сичас пойду… Пущай Фенька за вином на село сходит!..
– Али поить надо? – спросила старуха.
– К нашей пашне Дёмкин клин отойти должён… Может, выпою!..
Он помолчал, неподвижно упершись глазами в лицо сидевшей напротив него младшей сестры, потом тяжело перевел глаза на Феню и вдруг проговорил со спокойной, равнодушной злостью:
– А ты, стерва потаскучая, слушай и молчи… Да, молчи, – повторил он, хотя Феня ни одним словом не возражала, – из-за тебя срама не оберешься, люди глядеть не хотят – вышли из церкви все спиной да спиной, слова не молвят, да… Ужо погоди, будет тебе…
Он не договорил, опять замолчал угрюмо и сидел, тупо глядя в лицо сестры. И от этого неподвижного тупого взгляда сонных, холодно злобных глаз, так же, как от коротких медленных слов, Феня почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось и упало, а губы помертвели и обессилили, так что трудно было вымолвить слово.
Донька дико метнула на нее своими черными, как уголь, глазами и даже отшатнулась как будто. А старуха замигала красными воспаленными веками, пораженными застарелой трахомой, и пожевала губами.
Мишка встал, натянул на затылок картуз и вышел. Поднялась и старуха, а за нею и все – и стали убирать посуду.
– Гадина проклятая! – шипела старуха, перемывая чугуны и чашки, – честную семью осрамила… Егор Лукич – дяденька подошел возле церкви к нам с Мишкой да давай громить: как, мол, это вы – семьи честной мать с сыном – девку до греха допустить могли? Да как же вы смели волю ей дать? Да жив бы был отец-то, да он бы вас!.. Мишка, ты-то, балбес стоеросовый, глядел чего? Ну мать – старая дура из своего бабьего ума выжила, а ты-то чего, дубина этакая!.. Срам! Народу много надвинулось, слушают, а он честит, а он восхваливает… Сквозь землю уйти в пору, сука проклятая!..
Она долго еще бранилась и рассказывала о том, что произошло у церкви, и слова ее падали в мирной тишине празднично-убранной избы, как тяжелые, густые и ядовитые капли.
– Ну, собирайся на село то за вином, иди, нечего, а то Мишка вернется – он те даст, когда вина не будет, – закончила старуха, когда посуда была убрана.
В то время, как Феня одевала башмаки и платок, она слазила в сундук, что стоял возле кровати за занавеской, долго копалась там, брякая чем-то, потом опять зазвенела ключами, щелкнула замком и вынесла смятую трехрублевую бумажку.
– На, да сдачу, гляди, не потеряй! – бормотала она, – два шестьдесят пять четверть вина стоит, что ли… Дорого вино-то нынче стало, страсть дорого…
Феня взяла деньги и пошла. Она шла по улице и глядела в землю, потому что ей казалось, что все смотрят на нее, указывают пальцем и шепчутся, ехидно посмеиваясь. Никого не было дома, потому что все почти выбрались на луг, где делили траву: мужики, чтобы делить, а бабы, чтобы поддержать в случае чего слабых мужиков. Тиха и пустынна была улица, но каждый дом был, как враг, под злобным и презрительным взглядом которого надо было пройти.
На пожне за деревней, где кучи обломков и заросший травою квадрат вросшего в землю фундамента показывали место сгоревшей лет двадцать тому назад корчмы, скрипела гармоника и, ярко-цветными пятнами рассыпавшись по зеленой изумрудной траве, ходили, стояли и сидели девушки. Там и сям между ними виднелись темные кучки парней в новых картузах и пиджаках, прохаживающихся между девушками.
Еще не началось гулянье, потому что было рано, но скучно было быть не вместе. Девушки пели – и звучный, одноголосый и согласный хор их шел чередою с гармоникой, заливавшейся в куче парней.
Еще не было весело, но уже предчувствовалось, что вечер принесет с собой веселье и смех и тайное ожидание условленных встреч где-нибудь за деревней, возле ручья у овина…
И так знала это все Феня, так хорошо это было, что острая внезапная тоска сжала ей сердце и выдавила на глаза теплые щекочущие слезы.
…Прошло и никогда не вернется! И не будет уже никогда, никогда светлого девичества, с задорным смехом, веселой шуткой, темной сладостью условленной встречи и стыдливого трепета сердца… Прошло – и нет, и никогда не будет, как не будет яркого детства, не будет счастья.
…А впереди темно, и холодно, и страшно новым грядущим страданием, людской злобой и острой тоской отчаяния…
…Зачем же, зачем так вышло, зачем это несчастье, что зреет где-то в темных тайниках ее тела, зачем разбита, разломана и растрепана вся жизнь, которую так жаль, ах, как жаль!
Ведь она была молодая, такая чистая, сверкающая, как весенняя березка, и яркий здоровый смех вспыхивал в ней манящим огоньком, и все было так хорошо… Все добрые, все ласковые, с надеждой и скрытой гордостью глядящие, и все прошло и никогда не будет…
…Никогда, никогда, никогда…
Феня шла и думала, и слезы струились по лицу, падали на грудь, мочили лицо. Так жалко, ах, как жалко было!..
Она купила четверть вина в селе, завязала в узелок сдачу и пошла назад.
Тупое равнодушное спокойствие спустилось на душу гнетущей тяжестью и смутным туманом заволокло все вокруг.
Было жарко – твердо и неотступно упиралось солнце горячими лучами в плечи и голову, и пот струился по лицу, скатывался под брови и щипал глаза едко и противно. А тут еще бутыль с вином. Она была тяжелая и невыносимо оттягивала руки, а солнце за каждым шагом ослепительно сверкало на ней, так что глазам было больно.
На полдороге до дому Феня хотела присесть, но в поле было очень жарко. Кругом была пашня, с правильною чередою уходящими вдаль кучами сложенного, но еще не разбитого навоза, наполнявшего воздух кислым, затхлым запахом; дальше шла болотина с широкой, сверкающей жидким серебром канавой посередине, а еще дальше, на небольшом холме, хохолок красных от солнца сосен старого могильняка.
«Дойду!» – подумала она о нем, чувствуя, как ноги слабеют, а в глазах плывут красные круги.
Она дошла совершенно истомленная, мокрая от пота, с пересохшим горлом и запекшимися губами. И первое, что охватило ее упругой и густой волной, – это был крепкий и теплый запах смолы и разогретой солнцем хвои. Он стоял здесь, пронизанный солнцем, хрустально чистый и острый, как крепкое пьянящее вино.
Чудесно было лечь на горячую сухую хвою и вбирать измученной грудью его. Стояли красные шершавые стволы сосен, веками облегающих почти сравнявшиеся с землею могилы давно уже умерших людей, и кое-где на этих стволах сверкала под солнцем светло-желтая чистая капелька выдавленной зноем смолы, как одинокая слеза великана-дерева.
Так тихо, казалось, было, а послушаешь – где-то вверху плывет ровный и тягучий гул, дремотный и спокойный, от которого веет глубокой и тихой печалью.
На земле, на седых, покрытых сухим мохом опавших ветвях, с желтой, словно охваченною огнем, посохшей хвоей, на сизых от старости деревянных крестах, полуобвалившихся и совсем свалившихся, на резных листьях папоротника, – везде беспорядочно и неподвижно лежали солнечные пятна, жаркие и сверкающие. И смерть стояла среди них не пугающей, а внимательной и ласковой тишиной и была не страшна, а близка.
Еще не было вечера, но уже можно было угадать приближение его по теням, потерявшим свою плотную определенность, ставшим прозрачнее. И даль не струилась уже так перелетным дрожащим паром, а заволоклась голубоватой прозрачной паутиной.
«Надо идти»… – думала Феня, оглядываясь, – хорошо отдохнуть здесь… Видно хорошо полита сопочка-то здесь, что буйно разрослись здесь сосенки, да гущера – мелочь… Много полита теплыми слезами, хорошо полита…
Она поднялась, с трудом взяла бутыль и пошла прямо через могильняк чуть приметной тропинкой. Кое-где к ней наклонились погнившие кресты, кой-где и их не было; чуть виднелся холмик, усыпанный старыми сосновыми иглами; иногда она огибала тяжелую, вросшую глубоко в землю плиту – безымянную и немую, как тот, что лежал под ней. У изножия холма стояли ворота – тоже полуразвалившиеся, когда-то окрашенные в красную краску, теперь побуревшую и полупившуюся тонкой покоробленной чешуей.
У ворот сидел кто-то. Еще Феня не рассмотрела – кто, но сердце вдруг остановилось на мгновение и твердо и сухо стукнуло в грудь. Потом затрепетало, как внезапно схваченная в темноте птица, и замерло.
Сидевший поднялся, и по несмелому движению, по особой застенчивости, чувствовавшейся в покорном и слабом наклоне головы, так же, как в смущенной неловкости положения, в котором он, поднявшись, стоял, – а главное, по этому испуганно-дрогнувшему сердцу своему – Феня узнала, вернее, угадала Якова лавочникова.
Она остановилась, и он стоял, очевидно, не зная, что ему делать, – подойти к ней или повернуться и уйти от нее… Наконец, с видом человека, махнувшего на мешающее ему рукой, он двинулся и подошел к ней.
– Здравствуйте, Ефимия Васильевна! – негромко проговорил он и протянул руку.
– Здравствуйте, Яков Федорович! – прошептала Феня, вся багровая от стыда, и протянула свою с прямо вытянутыми пальцами и твердой, как доска, ладонью.
Они поздоровались и замолчали неловко. Наконец, Яков шевельнулся и также тихо промолвил:
– Домой идете?
– Да… домой…
Опять помолчали.
Он стоял, опустив голову и как бы задумавшись о чем-то. И теперь видно было, что, в сущности, он не смущается и не испытывает неловкости, а казалось так прежде потому, что он очень сдержанный человек. Феня стояла, рассматривая концы своих башмаков и не смея поднять глаз. Наконец, она решилась и мельком скользнула по его лицу, и в то же самое мгновение он поднял глаза.
– Давно не виделись мы… – проговорил он с особенной, проникновенной грустью, от которой сердце у Фени сжалось мучительной жалостью не то к нему, не то к себе, – очень давно…
Она еще больше закраснелась и прошептала что-то.
– Что такое? – не разобрал он, наклоняясь.
– Сами знаете! – так же отрывисто, шопотом повторила она.
Она не ответила на замечание его, но он понял. Она хотела сказать: вы сами знаете, как хотела бы я видеть вас, так же, как знаете, почему это невозможно. И еще вы знаете сами, как тяжело и больно мне теперь и как мучаюсь я оттого, что моя жизнь разбита.
И он понял ее. И опять не то законфузился, не то задумался. Опустил голову и стал внимательно перебирать концы пояса. Ему хотелось сказать, что сам он может простить и забыть, что, в сущности, ничего не разбито – или может быть не разбито – и что они могли бы пожениться и жить в мире и добре, если бы не его семья, но сказал только:
– Батюшка вот…
И так же, как он, она поняла все, что хотел сказать он.
Они еще постояли, молчаливые и грустные, среди старых могил, прямых сосен и тихо шевелящихся пятен света; наконец, Феня сказала:
– Прощайте, Яков Федорыч…
Он поник еще ниже, как будто сказанное ею наваливало на его плечи огромную тяжесть, и ответил:
– Прощайте, Ефимия Васильевна, – и опять протянул руку, в которую та на момент вложила свои сухие и твердые пальцы.
Феня быстро, не оглядываясь, пошла вперед и шла как во сне: старые облупившиеся ворота расплылись и трепетали в налившихся неожиданными слезами глазах, струилось озимое поле с правильными рядами навозных куч, и долго и неотступно преследовал страшный и грустный запах теплой тягучей смолы и накаленной солнцем горячей хвои…
И только когда была уже далеко от старого могильняка, острая, рыдающая жалость забилась в груди сухо и горько и так больно, что она застонала…
«Да, прощай, прощай, любименький, прощай ясненький, золотинушка светленькая, цветочек аленький!.. Не видеть счастья родного, не чесать кудри мягкие, не холить тебя, голубочка сирого!.. Ой, дни бедные, дни сиротские, горькие, горюч-пламень слезы, как смола, кипят, душа светлая, что горлица сверстит: вдарится об землю – там трава повянет, уйдет в поднебесье – звезды меркнут, в темный лес залетит – деревья шумят!..»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!