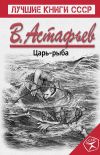Текст книги "Мой XX век: счастье быть самим собой"

Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Так вотя и выступаю не для дискуссии, а чтобы сказать, что очень часто сообщают сведения неверные. Я ничего не имею против того, чтобы пьесу ругали как угодно, я к этому привык, но я хотел бы, чтобы сообщали точные сведения. Я утверждаю, что критик Орлинский эпохи 1918 года, которая описана в моей пьесе и в романе, абсолютно не знает.
Дальше опять-таки т. Орлинский неверно цитирует мой роман и предъявляет совершенно неприемлемые требования в отношении к пьесе в виде денщиков и прислуги и т. д. Вот приблизительно все, что я хотел сказать, больше ничего (аплодисменты)».
Сейчас настало время трезвого, объективного анализа творческого портрета Михаила Булгакова, где не должно быть ни отсебятины, ни ложной сенсационности, МА. Булгаков никогда не считал себя «внутренним эмигрантом», как сейчас пытаются его представить в некоторых зарубежных кругах. Все, что происходило в Советской России, кровно и глубоко интересовало его. Не все он понимал, не со всем соглашался. Он остался в России вместе с Турбиными и Мышлаевскими. Художник и гражданин, он не мог жить без России, он видел ее великие свершения и отдельные ошибки. Видел и думал о великом будущем своей Родины.
В некоторых литературных кругах подход к жизненным и литературным явлениям в то время упрощался: все окрашивалось в два цвета – красный и белый. И уже одна эта окраска все предопределяла: нравственную и моральную чистоту одних, высоту их духовных помыслов, благородство их поступков и действий и жестокость, низость, моральную деградацию других. В этих литературных кругах обрушивались и на молодого Шолохова, обвиняя его, по сути, в том, в чем и Михаила Булгакова, – в контрреволюционности. Л. Авербах, как и рапповская критика вообще, относил произведения Булгакова «к откровенно реакционным произведениям, выражающим психоидеологию новой буржуазии». Для М. Булгакова создавалась тяжелая обстановка. Ответ И.В. Сталина на письмо Билль-Белоцерковского, при всей его резкости и прямолинейности, в сущности, брал под защиту Булгакова от литературных налетчиков.
Сталин писал: «...Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»
Авербах, Гроссман-Рощин, Мустангова, Блюм, Нусинов и многие другие планомерно и сознательно травили Булгакова. За короткий срок ими было опубликовано, по свидетельству самого М. Булгакова, 298 «враждебно-ругательных» отзывов о его творчестве. Но это не устрашило М. Булгакова. Он делал аккуратные вырезки публикаций, наклеивал их в альбом или вывешивал на стены комнаты, явно издеваясь над всей шумихой недоброжелателей. Но так было не только с «Днями Турбиных», но и с «Бегом» и «Мольером». Так было не только с одним Булгаковым. Резким нападкам подвергались Шолохов, Леонов, Шишков, Есенин, Пришвин, Сергеев-Ценский, Чапыгин, то есть писатели, которые своим творчеством демонстрировали неразрывную связь новой, Советской России с ее многовековой культурой. Новая Россия – наследница подлинных национальных богатств – вот мысль, которая в числе других объединяла столь разных художников. А это не нравилось некоторым критикам.
«Сейчас торжествует «международный писатель» (Эренбург, Пильняк и друг.)», – писал в те годы Пришвин Горькому, который много внимания уделял молодым русским писателям, видя в них продолжателей великих традиций национальной культуры. В начинающем М. Булгакове Горький тоже заметил по-настоящему русское дарование. Отсюда его интерес к нему.
Уже в 1925 году Горький обратил внимание на Булгакова: «Булгаков очень понравился мне, очень...» В 1926 году он спрашивает одного из писателей: «Не знакомы ли Вы с Булгаковым? Что он делает? «Белая гвардия» не вышла в продажу?»
В письме к П.А. Маркову (от 4 февраля 1932 г.) он писал: «У меня есть кое-какие соображения и темы, которые я хотел бы представить вниманию и суду талантливых наших драматургов: Булгакова, Афиногенова, Олеши, а также Всев. Иванова, Леонова».
Но положение М. Булгакова еще в 1930 году стало просто-напросто трагическим: литературные выпады против него превратились в политические обвинения. И писатель вынужден был обратиться с письмом в правительство.
Известно, что, прочитав письмо М.А. Булгакова от 28 марта 1930 года, Сталин позвонил Булгакову:
« – Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?
– Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, что не может.
– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
– Да, я хотел бы. Но я говорил об этом – мне отказали.
– А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся...»
Этот телефонный звонок вернул Булгакова к творческой жизни.
Булгаков стал заниматься любимым делом, служил во МХАТе режиссером-ассистентом, заново писал роман «Мастер и Маргарита», рукопись которого сжег в минуту отчаяния, работал над «Театральным романом».
Когда Сталин приезжал смотреть «Дни Турбиных» (в музее MXАТа запротоколировано 15 посещений Сталиным этого спектакля), он всегда спрашивал: «А как Булгаков? Что делает? Очень талантливый человек...»
В дневниках Е.С. Булгаковой сохранилась следующая запись: «3 июля. Вчера утром телефонный звонок Хмелева, просит послушать пьесу («Батум». – В. П.). Тон повышенный, радостный – наконец, опять пьеса МА. в театре!
Вечером у нас Хмелев, Калишьян (директор МХАТа. – В. П.), Ольга (О.С. Бокшанская. – В. П.), Миша читал несколько картин. Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХАТе, о системе. Разошлись, когда уже совсем солнце встало.
Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: «Хорошо играете Алексея. Забыть не могу».
«Батум» – это пьеса М. Булгакова о молодом Сталине. И Хмелев должен был играть в ней роль Сталина. Однако Сталин потом сказал: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине».
И еще об одном. За рубежом, да и у нас в некоторых кругах распространяется мнение, будто Булгакова «репрессировали», а потом «реабилитировали», некоторые называют даже точную дату «реабилитации» – 1962 год. Ничего не может быть вздорнее подобных утверждений. В 30-х годах шли его пьесы «Дни Турбиных» и «Мертвые души» (по Гоголю), весной 1941 года состоялись две премьеры «Дон Кихота» (по Сервантесу), с 1943 года шла его драма «Пушкин», в 1957 году поставили «Бег». Над романом «Мастер и Маргарита» он работал до конца своих дней, а «Театральный роман» так и остался незаконченным. М.А. Булгаков умер в 1940 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.
История с Булгаковым не так проста, как многим кажется. Ее не надо упрощать. Булгаков верил в будущее своих произведений, верил, что он как художник займет свое место в русской советской литературе. В этом – главное. И он не ошибся» (Огонек. 1969. Март. № 11).
Перепечатываю здесь и статью «Лев Толстой и современность», которой открывается дискуссия, посвященная столетию романа «Война и мир». Сейчас чаще всего упоминают дискуссию «Классика и мы», состоявшуюся в ЦДЛ в 1977 году... А если читатели вчитаются в то, что говорили в журнале «Молодая гвардия» за десять лет до упомянутой дискуссии (и напечатали!), дав еще один существенный сигнал в процесс формирования нового литературного направления, картина предстанет емче, крупнее, достовернее. К этому я могу прибавить еще и свои статьи в «Огоньке», две статьи «Россия – любовь моя», которые составили сборник «Россия – любовь моя», вышедший в издательстве «Московский рабочий» в 1972 году.
5. Лев Толстой и современность
(К 100-летию романа «Война и мир»)
Столетие со дня публикации «Войны и мира» – этого непревзойденного в истории мировой литературы творения – дает нам повод задуматься над тем, что Толстой, как воистину гениальный художник, предопределил дальнейшие пути развития не только русской литературы, но и мировой литературы в целом, заглянуть в одну из славных страниц нашей отечественной литературы, поговорить о том, как возникло такое гениальное творение.
Всем нам, разумеется, известны статьи В.И. Ленина о Толстом. Никому еще не удалось с такой убедительностью и глубиной дать анализ произведений Льва Толстого, «которые всегда будут ценимы и читаемы массами». «...В его наследстве, – подчеркивал В.И. Ленин, – есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат».
«Его мировое значение, как художника, – писал В.И. Ленин о Толстом, – его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции.
Л.Н. Толстой выступил как великий художник еще при крепостном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятельности, он рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».
Каждое новое поколение как бы заново открывает для себя Толстого, с поразительной яркостью замечая, что образы его произведений несут в себе неумирающие черты характеров и нравственных качеств; в новых социальных условиях они позволяют не только лучше познавать человека прошлого, но и глубже всматриваться в человека сегодняшнего.
Нисколько не будет преувеличением сказать, что наш молодой читатель, обращаясь к литературному наследию Льва Толстого, может найти в его сочинениях ответы на великое множество своих вопросов. Уроки Льва Толстого учат современного человека быть честным, правдивым, бескорыстным, учат присущей нашему народу высокой нравственности и здоровой морали. «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость» – вот один из многих уроков мастера слова и знатока глубин человеческой души.
Иному современному читателю может показаться, что никаких особых проблем, относящихся к Толстому и его произведениям, сегодня не существует. Всем, мол, известно, что Толстой – великий писатель, а его книги – драгоценная, нетускнеющая сокровищница человеческой мысли. Это, конечно, так, если не оглядываться в не столь далекое прошлое. Не оглядываться же нельзя, ибо знание прошлого позволяет не только лучше понимать настоящее, но и предвидеть будущее. И еще: в нашей творческой жизни нет-нет да и появляются «новаторы» без подлинного новаторства или радетели модных веяний, берущих начало отнюдь не из народных сокровищниц и отечественных закромов. И более того, мы нередко встречаемся с произведениями, в которых напоказ выставлено подражательство буржуазным западным образцам; в них – убогость интеллекта, вызывающий скепсис, уродливый язык, унылая интонация. Все здесь взято напрокат, вся структура и сущность таких литературных поделок – как бы вызов той классической, обогащенной в советское время школе художественного развития, из которой вышли лучшие советские писатели, создавшие произведения, достойные своей эпохи. И если, с одной стороны, такие явления можно объяснять буржуазным влиянием, то с другой – они берут начало из нашего недалекого прошлого, когда делались яростные попытки ниспровержения Толстого и других выдающихся художников слова.
Сошлюсь только на два эпизода из литературной жизни 20-х годов, имеющих прямое отношение к нашему разговору.
В 1924 году в журнале «Звезда» была опубликована статья его главного редактора И. Майского, послужившая началом литературной дискуссии. Чтобы не вдаваться в подробности этой дискуссии, процитирую только основную мысль из заключительного слова И. Майского, названного «Еще раз о культуре, литературе и Коммунистической партии» (Звезда. 1925. № 1).
В русской литературе, утверждал И. Майский, много, бесконечно много «людей слабых, больных, сомневающихся, с душой «Гамлета Шигровского уезда». Онегин, Чацкий, Лаврецкий, Лиза из «Дворянского гнезда», Рудин, Нежданов, Пьер Безухов, Андрей Болконский, Анна Каренина, Вронский, князь Нехлюдов, Обломов и целый ряд других – ведь это лучшие фигуры нашей классической литературы, фигуры, которые с любовью выписывались художниками, в пользу которых художники стремились «заражать» читателя. И в их пестрой толпе почти ни одного действительно здорового, сильного человека! Лишь изредка мелькнет фигура иного закала, как старик Болконский в «Войне и мире», или Базаров в «Отцах и детях», или Елена в «Накануне», и снова все тот же безвольный, размагниченный человеческий хлам. И так изображались не только люди дворянской и интеллигентской среды, в тех же тонах рисовалось и крестьянство. Тургенев дал нам пресловутых Хоря и Калиныча, а когда Л. Толстому понадобилось изобразить деревенского мужичка, он нарисовал какого-то «богоносца» не от мира сего в лице Платона Каратаева».
«Безвольный, размагниченный человеческий хлам» увидел И. Майский в образах, воплощающих в себе лучшие черты русского национального характера. И ничего другого!
Второй пример, относящийся к 1928 году, когда отмечалось столетие со дня рождения Льва Толстого. В редакционной статье « К юбилею Толстого» (журнал «На литературном посту») говорилось, что «философия непротивления злу, учение Лао-Тзе, согласно которому «Тао (добродетель) может быть достигнута только через неделание», проповедь пассивности, безграничный азиатский фатализм проникают все произведения Толстого. Они издаются, распространяются и будут читаться в эпоху революции, когда целеустремленность вытесняет фатализм, пассивность убивается все более растущей массовой активностью... Самосовершенствование, уход в себя, кропотливый анализ внутреннего существа кающегося дворянина, антиобщественность – и наше время коллективизма, дисциплинированность общественности, сурового, подобранного человека практики. Подобные сопоставления неизбежно приходят в голову вдумчивому читателю всех произведений Толстого».
Трудно не заметить, с каким старанием авторы редакционной статьи стремились принизить значение Л.Н. Толстого. По их мнению, все произведения Л.Н. Толстого своим идейно-художественным звучанием страшно далеки от времени 20-х годов, от революционного народа-созидателя. Читаешь это и все время думаешь о том, что авторы журнала серьезно боялись юбилея Л.Н. Толстого, опасались, как бы юбилей не стал всенародным праздником.
Разве не очевидно, что в этой редакционной статье вся национальная культура рассматривается как нечто единое, цельное, одинаково устаревшее после Великого Октября. Но достаточно вспомнить ленинские слова о двух культурах в каждой национальной культуре, чтобы понять, насколько ошибочны высказывания тех деятелей литературы и искусства, которые нигилистически относились к культурному наследию России. И делалось все для того, чтобы скомпрометировать русских классиков в глазах рабочих и крестьян, потянувшихся к литературе и искусству.
В частности, рассуждая о романах «Война и мир» и «Анна Каренина», В. Ермилов в статье «Долой толстовщину!» делал вывод: «И кажется, вы видите холодные, пустые глаза этого юродивого мужицкого страшного бога, который знает какую-то свою, злую, холодную, как снега в северной пустыне, бесчеловечную правду».
Разумеется, это всего лишь частные эпизоды острой литературной борьбы, связанной с различным пониманием проблемы культурного наследия. Футуристы, пролеткультовцы, напостовцы и многие другие отвергали русское национальное наследство. Они готовы были строить новую культуру на голом месте, культуру, лишенную традиций и корней в национальной почве. Национальное эти деятели готовы были подменить псевдоинтернациональным. Развивая ленинские положения о двух культурах в каждой национальной культуре, Н.К. Крупская писала в статье «Об интернациональной и национальной культуре» в 1927 году: «Важно изживание отрицательных сторон национальных культур, но в то же время имеет громадное значение развитие положительных сторон национальных культур... У каждой национальности свое лицо, свой тип, и важно найти пути к тому, как эти положительные стороны каждой национальности наиболее рационально поддерживать».
Да, мы интернационалисты, и нам близки и дороги традиции всех народов, их культура, искусство, литература. Но подлинный интернационализм не имеет ничего общего с духовным нигилизмом «человека вселенной», человека без родины и без национальной культуры. Откуда идет эта тенденция, живучая и ядовитая? В докладе А.Н. Толстого «Четверть века советской литературы», сделанном в 1942 году, справедливо говорилось: «Советская литература от пафоса космополитизма, а порою и псевдоинтернационализма, пришла к Родине как к одной из самых главных и поэтических своих тем». Этот пафос псевдоинтернационализма имел широкое хождение в литературе и культуре двадцатых годов, когда известный лозунг «У пролетария нет отечества» толковался зачастую буквально и прямолинейно. Именно в ту пору под флагом ультрареволюционности протаскивались идеи духовного нигилизма, отвергалось наследие классиков, а ведущие советские писатели, ставшие гордостью литературы, звались «попутчиками» (в том числе и М. Горький, М. Пришвин, Л. Леонов и другие).
К чему могли привести вандалистические идеи таких отрицателей? Об этом хорошо сказал А.В. Луначарский на совещании в Отделе печати ЦК нашей партии в мае 1924 года, отвечая лидерам РАППа: «Если мы встанем на точку зрения тт. Вардина и Авербаха, то мы окажемся в положении кучки завоевателей в чужой стране». «Теоретики» ЛЕФа, напостовцы и налитпостовцы, «кузнецы» и пролеткультовцы и т. д. видели свою единую цель в уничтожении всех традиций прошлого – исторических, культурных, национальных, патриотических. Яростно враждуя друг с другом, они, однако, обретали странное единодушие и пели в унисон, коль речь заходила о накопленных народом духовных богатствах. Уже в самом конце 20-х годов глава конструктивистов К. Зелинский, продолжая эту нигилистическую «переоценку ценностей», заключал: «Да, не повезло русскому народу просто как народу... Мы начинаем свою жизнь как бы с самого начала, не стесняемые в конце никакими предрассудками, никаким консерватизмом сложной и развитой старой культуры, никакими обязательствами перед традициями и обычаями, кроме предрассудков и обычаев звериного прошлого нашего, от которой мысли или сердцу не только не трудно оторваться, но от которой отталкиваешься с отвращением, с чувством радостного облегчения, как после тяжелой неизлечимой болезни».
В.И. Ленин многократно указывал, что невозможно создать новую культуру, не используя достижений прошлых веков в области науки, культуры, искусства и литературы. «Коммунистом стать можно лишь тогда, – говорил он на III съезде комсомола, – когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».
Эту глубокую мысль необходимо помнить, обращаясь к классическому наследию прошлого, к бессмертным явлениям нашей великой национальной культуры. Но она же остается важнейшей и при рассмотрении, анализе и оценке современной русской советской литературы. Только на основе духовного богатства, накопленного предшествующими поколениями, можно развивать дальше реалистическое искусство. Только подлинное усвоение классических традиций создаст предпосылки для появления произведений, которые можно рассматривать «как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (В.И. Ленин)(Молодая гвардия. 1969. №12).
6. После «Молодой гвардии»
В начале 1970 года уже чувствовалось что-то неладное в судьбе журнала, Анатолий Никонов ходил нервный, мрачный, отверг мое предложение дать дискуссионный материал Феликса Кузнецова, ходившего еще в «либералах», забраковал еще несколько материалов, предложенных в очередные номера. Счастье быть самим собой... Но постепенно атмосфера сгущалась, придирки цензуры, выговоры из ЦК ВЛКСМ следовали один за другим. Работать стало невмоготу, постоянно чувствовались тяжкие объятия власть имущих. Наконец, в октябре 1970 года «Молодая гвардия» предстала перед Секретариатом ЦК КПСС, отчет Никонова слушали Брежнев, Суслов и другие партийные «старцы». Решение было суровым – Никонова и Петелина обвинили во всяческих грехах, а главное – «в славянофильстве» (до сих пор это постановление ЦК не рассекретили, и мы не знаем подлинных формулировок. – В.П.), Никонова перевели главным редактором журнала «Вокруг света», а Петелина оставили в журнале до прихода нового главного редактора.
Вскоре он и пришел – Феликс Овчаренко, инструктор ЦК КПСС. Оказалось, что ему поручили «выправить» линию журнала, сделать его советским, а не русским, каким он уже заявил себя за последние годы. Через несколько недель я почувствовал, что все материалы, которые я готовлю и сдаю в главную редакцию, лежат невостребованные, в очередной номер просто не идут. Я один раз спросил, второй.
– Виктор Васильевич, – сказал Феликс Овчаренко, – вы разве не догадываетесь, что два отдела ЦК КПСС, отдел пропаганды и отдел культуры, обеспокоены тем, что вы до сих пор остаетесь в журнале, по-прежнему возглавляете важнейший идеологический отдел, формирующий политику журнала, его направление... Вы ведь знаете решение ЦК КПСС о «Молодой гвардии»...
Только после этих слов я понял, что дни мои в «Молодой гвардии» сочтены. Я рассказал об этом разговоре Анатолию Иванову. Он был холоден и расчетлив, как будто не он был куратором отдела критики, а кто-то другой. И тут я понял, что от него мне защиты не стоит ждать... Надо готовить отступление, у меня ведь семья, Ивану только два года.
Горевал я недолго: в мае 1971 года Военное издательство (генерал А.И. Копытин, С.М. Борзунов) заключили со мной договор на книгу «Михаил Шолохов», «Московский рабочий» – договор на книгу «Россия – любовь моя» (Н.Х. Еселев, Н.И. Родичев)...
Но самое поразительное – издательство «Молодая гвардия» готово заключить договор на книгу «Алексей Толстой» для серии «Жизнь замечательных людей». Но тут нам с Сергеем Николаевичем Семановым, заведующим этой серией, пришлось пойти на хитрость: заявку мы дали от имени Виктора Обносова (девичья фамилия мамы. – В. П.), под этим именем включили в редподготовку или перспективный план, утвердили в ЦК ВЛКСМ, а уж потом объявили, что автором этой книги будет Виктор Петелин, и уже официально заключили договор.
Вот это была уже почва под ногами, получив такие уверения моих друзей-единомышленников, я уже смело пошел к Феликсу Овчаренко и попросил дать мне отпуск.
– Только после того, как вы напишете заявление об уходе по собственному желанию.
– Твердо вам говорю, что после отпуска я уже не вернусь в журнал, – говорю я.
– Вот и напишите об этом в заявлении. Сначала об уходе, а уж потом об отпуске.
И я тут же написал заявление об уходе, а потом – об отпуске на два месяца.
И укатил в свой любимый Коктебель. Теннис, море, Олег Михайлов, с которым мы в то время были почти неразлучны, любимая работа – все это быстро залечило мои раны, но обида и до сих пор жива в моей душе... Месяца через три-четыре Феликс Овчаренко заболел, а в октябре умер от рака... Анатолий Иванов стал главным редактором: когда пушки били по нашей крепости, смог отсидеться, не высовываться, через год получил орден по случаю 50-летия «Молодой гвардии».
Своими переживаниями и чувствами я делился только с Олегом Михайловым и, пожалуй, с Валентином Сорокиным, с которым мы сблизились во время работы в журнале, он возглавлял отдел поэзии в журнале, посвятил мне свою замечательную поэму «Мамонт». Он-то и рассказал, видимо, Виктору Астафьеву о моем «унылом» настроении.
Два любопытных письма прислал Виктор Астафьев:
«3 марта 1972 года (датируется по штемпелю на конверте):
Дорогой Витя! Виктор Васильевич, свет!
Был я недавно в Москве и хотел выделить вечер, чтобы поехать к тебе с Валей Сорокиным или одному и попить коньяку вместе с тобой, но настигла меня весть о смерти дорогого мне, и я, больной и потрясенный, скорее полетел домой, да и приходил тут в себя.
Хотел тебе позвонить (у меня есть телефон – 2-21-07), – да не люблю я звонить и разговаривать по телефону ладом не умею. Надо лицо, глаза собеседника видеть, а это ж пластмасса! У меня от напряжения мысли даже ухо потеет, когда я говорю по этой мертвой и железной заразе. А может, с фронта остался страх? – я ведь был последнее время связистом в артиллерии, а там не дай бог перепутать цифры! Можно ж по своим попасть – перепутай 65 на 55, и все, а при «нашей технике» и проводе, который был весь в узлах и с промокаемой изоляцией, сие сделать дважды два было...
Ну, ни утешать, ни тем более «нацеливать» я тебя не буду и не собираюсь. Пишу просто потому, что тебе, я знаю, сейчас одиноко, на душе темно и ты думаешь: «все гады, акромя патретов».
Гады, конечно, да че поделаешь-то? Гад, между прочем, вещь не такая уж худая, есть хуже него тварь – это обыватель, особенно литературный!..
Ты слышишь, как он шипит, извивается и ползет, ползет в глубь нашей горемычной литературы? А вместе с ним ползет равнодушие ко всему, в том числе и друг к другу, стяжательство и благополучие, забота о «приличиях» и здоровье. Заметил, многие писатели пить перестали? Ну так для здоровья рюмочку сухонького, а то коньячку закрашенного (нрзб). А уж ругаться или матом кого покрыть – ни боже мой! Этакое благополучненькое эпчество, а? Ты хотел такого? Я хотел? Никто не хотел! Время распорядилось, и ведь предупреждал, предупреждал один евреец-молодец лет шесть или восемь назад:
«Все хорошо, все хорошо. В «Гослитиздате» Бунин издан, из мавзолея Сталин изгнан; показан людям Пикассо; разрешено цвести цветам; запрещено ругаться матом...
Все это может привести к печальным результатам!..» Во! И боле ничего!
Ну, а в общем-то бывало всякое, и как сказал боевой продолжатель основоположника соц. реализма, умерший от алкоголизма: «Надо жить и исполнять свои обязанности».
Работать надо и только. Еще рыбу ловить хорошо, но она, стерьва, не клюет, задыхается подо льдом и не клюет (нрзб), с морозов лед толстый и кислороду рыбе недостает. Кислороду ей захотелось, подлой! Нам и самим его уже не хватает.
Я пишу роман о войне, вдохновленный всей (нрзб) бурной критикой и полемикой, которая развернулась вокруг меня и моего тоненького труда, сотворенного от небольшого ума и страдательно-сентиментального сердца.
Еще продолжаю писать о литературном и житейском рабе – А.И. Макарове, хотя он до се именуется критиком почему-то.
Много у меня нонче всякого горя и потерь, но писать о них не буду, дабы не добавлять смуты в твою и без того растревоженную душу.
Как твой домашний корабль? Не накренился оттого, что пошатнулись твои дела? Не дай бог! Ты знай работай себе. Собака лает, а верблюд, то бишь время, идет себе, колокольцем позвякивая, и ничего тут не поделаешь! При всем при том службу найди и спорт свой не бросай, а то вон я без спорту-то растолстел от безделья и неподвижности.
Книжка моя до се не вышла – третий год пошел, как издают, – это однотомник-то в «Мол. гвардии», зато зима миновала, солнце уже хорошее, синицы по сосульке клювом бьют, и червяк из земли скоро вылезет, обернется умиленный, выжил, дескать, не замерз, курицы не съели, трактор не задавил и, увидев такого же червяка позади себя, крикнет: «Братишка! Дай я тебя поцелую!», а тот ему: «Осторожно – я твоя жопа!..»
Словом, Виктор Васильевич, не вешай носа. Держись за весло, чтоб одним предметом не снесло!..
Обнимаю тебя – твой В. Астафьев (нрзб). Черкни или брякни».
Так утешал меня милый и дорогой Виктор Петрович, узнав о том, что меня уволили из «Молодой гвардии».
Естественно, что я тут же ответил Виктору Петровичу: носа не вешаю, работы много, заключил три договора с различными издательствами, семейный корабль мой не накренился, а полным ходом плывет по житейскому морю, увеличивая свою скорость: Ванюше нашему шел третий год. Спросил его о делах, замыслах, бытовании... И получил ответ:
«Дорогой Виктор!
Очень рад я был получить твое письмо, и особенно рад тону его – спокойному и деловому. И слава богу! Как известно, за битого – двух небитых дают, а я бы ноне и до сотни увеличил сие количество. Уж очень много в литературе обывательски-благополучных людей.
На вопрос твой насчет «Пастушки» мне ответить затруднительно, и потому я шлю тебе копию письма человека, который сыграл очень и очень большую роль в моей писательской жизни – он был главным редактором Пермского издательства в ту пору, когда я вступал на эту тяжкую литстезю, и с тех пор не переставал отечески поддерживать меня, опекать и журить. Его письмо на «Пастушку» было первым и, к сожалению, единственным письмом, автор которого сумел прочесть мою повесть трезво и с пониманием. Дальше пошли вопросы, эмоции, путаница. Осталось у меня горькое ощущение оттого, что этакую, средней сложности вещь не смогли или не захотели прочесть мои современники. Не хотелось бы думать, что так сии отупели и опустились духовно, хотя подтверждений тому сколько угодно, подтверждение состоит хотя бы в том, что литература, да и искусство, особенно кино, сделались общедоступными, как работа на конвейере, – появляются целые семьи и династии писателей, киноартистов, на театре. В доменном производстве исчезают – там вкалывать надо, а вот «Подражание Бернсу» бойко может написать и дочка Наровчатова, а в кино играют дочки и сынки Бондарчука, Кадочникова, Кмита, а наш дорогой Вася Шукшин сразу заснял и жену и дочку малую, с детства приучая ходить ее на горшок и перед кинокамерой пялиться, одновременно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?