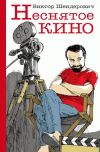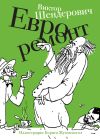Текст книги "Савельев: повести и рассказы"
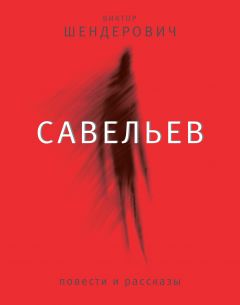
Автор книги: Виктор Шендерович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Юля прижилась в этом вакууме и только иногда уезжала куда-то на выходные… Куда? Савельев даже не интересовался: он давно закинул за мельницу семейный чепец. Зубы у жены с годами стали как будто еще крупнее, а сама высохла. Своя мышиная жизнь была у нее, какая-то Валя, подруга, куда-то они ездили вместе, и слава богу…
Но однажды Савельев услышал: были у батюшки. Что? Он почувствовал тошноту. Какой батюшка? Артемий, ответила жена.
Он вгляделся в ее глаза и увидел в них смиренное сочувствие к недоделку. Это подчеркнутое христианское прощение вызвало в Савельеве ярость, которую он еле подавил.
Он пропустил какой-то поворот, и теперь уже было поздно дергаться. Исповеди, куличи, телефонный разговор о чудотворной иконе, слово «разговеться»… Савельева чуть не стошнило. Он не верил ушам.
Дома стало совсем мучительно. Иконы повсюду. Принципиально некрасивая, неприязненно ровная. Встречи на кухне, молчание. Тебе чай или кофе? Чай. Звонила Леше, у него все в порядке. Понял.
Савельев и раньше ложился в кабинете, просто потому, что торчал допоздна в фейсбуке, а тут… Неловко стало в одной постели.
Втроем с Христом – тесновато.
Волна запаха прилетела прежде, чем Савельев увидел это несчастье рядом с собой: костлявый тип, который вез его из аэропорта, стоял у столика. Пинком выброшенный из воспоминаний, Савельев не смог скрыть неприязни.
– А я вас потерял! – радостно сообщил ему человек в кипе.
О, черт! Савельев только сейчас вспомнил о назначенном интервью. Бред, бред…
– Мне сказали, что вы здесь! – продолжал докладывать костлявый. – Я звонил в номер, но никто не отвечал…
– Я доем? – кротко спросил Савельев, делая над собой усилие, чтобы не отодвинуть дурачка, вместе с запахом, прочь от стола.
– Да-да, конечно! – разрешил тот. – Я подожду!
Савельев кивнул и перевел дыхание.
Через полчаса, в лобби отеля, он вспомнил этого Боруховича. Вот так же сидел, по-турецки, в ногах у первого ряда, выставив вперед костлявую руку с шишечкой микрофона. Прозвище у него было – Шизик. Первый «тамиздат» пришел к Савельеву именно со стороны Боруховича – Набоков, что ли? Да, точно, Набоков. С иностранцами он общался, ишь ты, даром что шизик…
В леонтовской студии Борухович работал булгаковским лагранжем, вел подневные записи: кто выступал, что читал… Сам он стихов не писал, – то есть писал, наверное, но стеснялся показывать. И вот теперь, в память о Леонтове, хочет издать книгу о студии, собирает свидетельства…
Все-таки он умер, подумал Савельев, кивая так, как будто сам хотел издать книгу воспоминаний о Леонтове, да вот Борухович опередил.
– А как он умер?
– Вы не знали? Рак легких.
– Ах, да… – как бы припомнил Савельев, ловя себя на том, что играет мужественную скорбь. И хотя телекамер тут не было, а был неопрятный эмигрант с микрофоном, – воспоминание о покойном учителе вдруг сдетонировало по-настоящему, и на глазах у Савельева выступили всамделишные слезы.
Душа вспомнила свое начало – весну, студию, молодость! – вспомнила так ясно, как будто сама была жива, и все было впереди. Савельев заговорил прерывающимся голосом, объятый внезапной нежностью к забытому учителю – и счастьем от этого волнения.
Жизнь возвращалась к нему, – лучшее, что в ней было. Это должно остаться, должно! Мало ли что с кем потом случилось! Рембо замолчал в восемнадцать, и что? А Леонтов высоко ценил савельевский дар – так и сказал тогда в интервью: дар!
В том леонтовском интервью Савельев впервые увидел свою фамилию, набранную типографским шрифтом, – ах, вот было счастье! Восемьдесят шестой год, боже мой!
– У меня есть эта статья, – улыбнулся Борухович. – У меня все ходы записаны.
– Да?
– Да. И все стихи, которые вы там читали.
– И в звуке?
– Конечно! И качество приличное. У меня же «Грюндиг» был, мне его Грабин оставил, когда его высылали. То есть не мне: он оставил зятю – ну, Дима Красовский, знаете. Биолог, еще в «Глыбах» печатался! Он потом сидел по христианским делам…
Борухович радостно множил подробности, но жизнь советской «диссиды» была неинтересна Савельеву – ему хотелось воскресить свою!
– Простите, – мягко прервал он, стараясь набирать воздух сбоку, – а можно переписать эти записи?
– Ваши?
– Ну и мои тоже, – интеллигентно согласился Савельев.
– Конечно! Они у Тани есть. Она вам не показывала?
– Нет.
И вдруг возможность заглянуть за портьеру кольнула сознание. И, отложив воскрешение души, Савельев спросил ровным голосом:
– А вы с Таней дружите – с тех пор?
И вдруг исказилось гримасой честное лицо Боруховича, вспыхнуло румянцем.
– Да, с тех пор дружу! – отчеканил он с комической гордостью.
О господи, усмехнулся Савельев, надо же: несчастный влюбленный! Дон Кихот с «Грюндигом» вместо тазика… И вдруг отчетливо вспомнил про Боруховича этого – ну да, маячил всегда неподалеку! Чуть ли не пытался навязаться в компанию, когда Савельев уводил Таню целоваться в скверике…
Так это, стало быть, соперник! Здра-асте…
Савельев чуть не рассмеялся от такого расклада. Но не забыл, куда и зачем вел разговор.
– А мужа ее – знали?
Борухович с облегчением закивал: речь уходила в сторону от него. И начал охотно рассказывать про покойного.
– Его звали – Там. Такое смешное имя. Это он уже здесь его взял – вообще-то он русский был, из Москвы! Инвалид. Вам что, Таня совсем ничего не рассказала? Его покалечили в драке, давным-давно, еще в совке. Он за девушку вступился какую-то, ну его и избили. Никого не нашли, конечно: бандитская страна! Таня, собственно, и привезла его сюда на лечение…
– Когда? – не своим голосом спросил Савельев.
– Сейчас скажу. – Борухович ответственно зашевелил губами, что-то складывая и вычитая, и доложил: – Это девяносто четвертый год был. Нет, девяносто пятый! – в девяносто четвертом я приехал, в декабре, а Таня уже потом… Я ее встретил в ульпане, весной; ну да: девяносто пятый. Она святая, святая! Она спасла его. Там же все плохо было: зрение восстановили кое-как, а разговаривать почти не мог… Голова была слабая! А потом уже вполне ничего: научился говорить и писал даже, но в основном на иврите…
Борухович прервал рассказ, подался вперед и встревоженно спросил:
– Что с вами?
Часть вторая
Савельев стоял в коридоре пансионата «Березки» с деревянной балбешкой ключа в руке, а сверху несся отчаянный крик о помощи.
Тоскливо ныло в животе, и дверь в номер была рядом. Раздайся крик чуть позже, Савельев бы и не услышал ничего. Но он услышал, и притвориться было невозможно.
Савельев повернулся – и шагнул на лестничную клетку.
Подошвы были будто смазаны клеем, но идти было надо. И, словно видя себя со стороны, он покорно пошел навстречу крику о помощи, а потом побежал, задыхаясь и перескакивая через ступени.
И уже за пролет от гибельных подмостков, задекорированных под новогодний бар советского пансионата, он вдруг ясно увидел, как тремя пролетами ниже какой-то другой Савельев, вжав голову в плечи, пытается попасть ключом в личинку замка…
И успел усмехнуться этой картине.
Потом он обнаружил перед собой слово «бар» с ненужной табличкой о времени работы, перевел дыхание, распрямился – и потянул на себя отполированную ладонями деревянную ручку. Шагнул внутрь и увидел – растерзанную сероглазую девушку, молящий взгляд этих глаз и трех распаленных самцов вокруг. Самцы разом обернулись к нему, и Савельев сказал:
– Отойдите от нее!
Он еще успел удивиться силе своего голоса.
Гипноз продержался несколько секунд, а потом тишина разбилась вдребезги. Его отшвыривали, но он пер на них снова и снова – и сорвал самцам их новогоднюю карусель, и тогда они начали его бить. Лена кричала, но вскоре крик стал доходить до лежащего глухо. Он пытался закрывать голову, но по ней уже били ногами, как по мячу, и голова моталась по полу.
Потом ничего не стало.
Потом был склеп без грамма воздуха, и, лежа под тяжкой плитой, он отчаянно пытался найти рифму к слову, которого не помнил. А вспомнить надо было скорее, тогда бы с груди подняли эту каменную плиту, но спасительного слова не было, и он снова терял сознание, чтобы очнуться в тяжком склепе.
Так прошла вечность, а потом началась другая. В этой второй вечности ему дали вдохнуть, и в белой пелене зазвучали голоса, но он не понимал слов. Везде была боль, и хотелось пить. Он застонал, и его поняли и дали воды, и тогда он догадался, что те, которые делают с ним что-то сейчас, не враги. И уснул наконец.
Когда он проснулся, мир состоял из тупой, уже привычной боли, размытого света и женской доброй руки на запястье. Он не знал, кто это, и не знал, кто он сам.
Зацепка таилась в далеком звоне чайной ложечки: где-то ехал поезд, и звенела ложечка в стакане, и кто-то лежал на верхней полке и смотрел, как солнце гоняет блик по стакану. Покачивало вагон, и небо промелькивало сквозь сосны, – но ни до, ни после этого ничего не было.
Прошло еще сколько-то времени (длившегося тут без ночи и дня, сплошным потоком размытого света), прежде чем он разобрал слово «Олег». Оно повторялось женским голосом, и он догадался, что это имеет отношение к тому, кто ехал на верхней полке. Его снова везли куда-то, и было больно, но потом пытка прекратилась, и в жизнь вошел другой запах, и свет тоже стал другим.
Началась новая вечность, пропитанная уже знакомым женским голосом, который разговаривал с ним и называл «Олег». Были и другие голоса, тоже женские, но он научился различать этот. Легкая рука гладила плечо, а однажды его запястья коснулись мягкие губы, и это было очень хорошо.
Потом его посадили, но размытый туман сразу поплыл вбок, и руки помогли ему лечь, и он очень устал. Его снова везли куда-то и светили прямо в мозг, и чужой мужской голос что-то говорил. Он разволновался, но женский голос был рядом, и нежная рука никуда не исчезла, и его вернули в его постель.
Этот запах и этот ласковый голос назывались теперь – «домой».
Он научился сидеть и не падать, и хотя тело ныло, так было гораздо лучше, а однажды из тумана выплыли очертания женщины. Он протянул к ней руку, и женщина заплакала, и стала гладить его по руке, и называть «Олег, солнце», а он гладил ее. Аятаня, говорила женщина, ятаня. Он не понимал, о чем она, а только гладил.
Мир стал проясняться. Пятно окна превратилось в нерезкое дерево и дом напротив. Кусок неба над крышей, сначала светлый и синий, потом розовел и темнел, и все начиналось сначала, и это было очень красиво. Просыпаясь, он ждал теперь, когда его посадят к окну.
Однажды откуда-то выпрыгнуло и заскакало смешное лягушачье слово «Москва» – и тут же связалось с той ложечкой в стакане, и вытянуло за собой разом гулкое здание вокзала с острыми крышами, рогатый троллейбус, разворачивающийся на площади, смуглых людей с поклажей на тележках, ясное майское утро – и молодого человека с чемоданом в сильной жилистой руке. И душу сполохом озарило счастливое предвкушение жизни и непременного счастья в ней!
Тут больной догадался, что этого больше не будет никогда, и заплакал.
Его звали – Олег Савельев.
Таня часто повторяла это: «Ты – Олег Савельев. Ты!» – и гладила его, и плакала. И он кивал в знак согласия, потому что не хотел, чтобы она плакала. Он понимал теперь, что она говорит, – не все, но многое, особенно если она говорила медленно.
Потом они поехали в большое путешествие. Таня пообещала, что все будет хорошо, что там будет красиво и тепло, и он выздоровеет и встанет на ноги. И он кивал и обещал ей выздороветь. Он хотел сказать это словами, но слов не получилось, и Таня выбежала из комнаты, закрыв руками лицо. Савельев разволновался, что она не вернется, но она скоро вернулась и гладила его, и говорила хорошие слова.
На новом месте было тепло, но сперва очень страшно, потому что Таня ушла, а он подумал, что она ушла насовсем, и стал кричать, и его кололи чем-то и кричали друг на друга, а он не понимал языка, и было совсем страшно. Но Таня вернулась, и целовала ему руку, и договорилась с ним, что сейчас уйдет, но обязательно вернется и всегда будет неподалеку. И она пришла, и все было хорошо.
Когда спадала жара, его вывозили по дорожке в сад. Это было хорошее путешествие – там, на скамейке, было легко дышать утром и вечером.
В саду он попытался думать. Это было непросто, и он очень уставал, но все равно ждал встречи с думательной скамейкой. Он хотел связать все, что с ним происходит, во что-то целое, но у него не получалось.
Так он прожил время света и время жары, время песка и время воды. Таня уходила, но он уже знал, что она вернется, и она всегда возвращалась.
Однажды он остановился, проходя мимо стекла. На него глядел незнакомый человек с искореженным лицом. Это был он, и он сам смог догадаться об этом! И решил расспросить Таню поподробнее об этом человеке.
Таня рассказала, что это ее друг, что ему скоро будет тридцать лет и его зовут Олег Савельев (я знаю, сказал он, и она погладила его по плечу); сказала, что он очень хороший человек и что недавно с ним произошло несчастье, но скоро все будет хорошо. И он выздоровеет, она дает слово…
Но той же ночью случилось ужасное.
Он спал или делал вид, что спал, а кто-то, войдя, встал посреди комнаты и начал всматриваться в темноту. Больной лежал, боясь пошевелиться, чтобы незнакомец не догадался, что он тут. Но тот догадался и, медленно повернувшись в сторону кровати, сказал: ага. Слушай. Я тебе что-то расскажу…
Больной испугался во сне, проснулся и заплакал.
С тех пор он боялся оставаться в темноте, и даже при свете засыпать стало страшновато. Он знал, что человек вернется и ему предстоит что-то узнать. И точно: однажды, когда он уплыл куда-то под теплым присмотром ночника, в палату бесшумно вошел обещанный незнакомец и сказал: не бойся. Закрой глаза.
Ослушаться было нельзя, и гулом полета наполнило уши, а потом незнакомец сказал:
– Смотри.
Савельев открыл глаза, и невыносимо резануло светом, и звон тарелок ударил в уши, а потом он увидел великое множество людей за столами и среди них, почему-то, сразу – одного, с блюдом осетрины в руках.
Да-да, сказал голос, правильно. Узнаешь?
И он узнал.
Из узнавания потянуло холодом озноба, смешанным с каким-то казенным запахом, предвестием ужаса.
Полуосвещенная лестница вела наверх и заканчивалась металлической дверью, из-за которой несся женский крик о помощи. Идти туда было нельзя ни в коем случае, и подошвы были словно смазаны клеем, но он все шел, как во сне… все шел и шел…
А человек, кладущий теперь на тарелку кусок осетрины (кладущий осторожно, чтобы ничего не отломилось и легло аккуратненько, сбоку от салата), – да, именно этот человек стоял в ту ночь, сгорбившись, несколькими этажами ниже и пытался попасть ключом в личинку замка, и никак не мог этого сделать: дрожали пальцы.
– Это Савельев, – сказал голос провожатого. И повторил с расстановкой: – Это и есть Савельев.
– А я? – спросил больной.
– А тебя нет, – просто ответил голос. – Ты умер.
И больной проснулся.
– Что с вами? – встревоженно спросил Борухович. Савельев сидел с оплывшим взглядом, и ходила тяжелым дыханием грудь. – Все в порядке? Вам плохо?
– Все в порядке, – ответил Савельев.
– Я могу прийти завтра, – сказал Борухович.
– Зачем?
– Ну, записать… про студию… Если вам надо отдохнуть.
– Да, – ответил Савельев. – Завтра.
– Во сколько?
– Я не знаю, во сколько! – вдруг закричал Савельев. – Я не знаю! Позвоните! И мы договоримся!
– Вы чего кричите? – поразился Борухович и вскочил с диванчика, засуетился, собирая манатки: диктофон, рюкзак, поломанный зонт, мокрую куртку… – Зачем вы на меня кричите? – взвизгнул он.
– Простите, – сказал Савельев. – Позвоните завтра.
Борухович вздрогнул – и снова не без опаски заглянул ему в глаза.
– Может, вызвать врача? – вдруг участливо спросил он. – Вам же плохо.
– Плохо, – сказал Савельев. – Вы – идите… Я – завтра…
Борухович постоял еще несколько секунд, кивнул и ушел.
Все сгнило, кроме памяти. Она любила его, потом боялась, потом ненавидела. Но, когда уходила из кафе, неловко перешагивая лужи располневшими ногами, в душе уже не было ничего, кроме жалости к себе.
К жизни, прошедшей так быстро.
…В тот январский день Таня Мельцер позвонила Савельеву – впервые за много лет. Она решила попрощаться.
А, привет, как жизнь, вяло откликнулся он. Даже не спросил, просто упало с губ дежурной шелухой. Ее жизнь не интересовала его никогда.
Ничего, ответила она, подумав: интересно, он хоть помнит меня? С Новым годом… И тебя, милостиво вернул он. Я хочу подарить тебе что-то, сказала она. Он хмыкнул: мандарин под елочку? Лучше, ответила она; мы можем встретиться напоследок?
Савельев даже не стал устраивать ритуальных возражений по поводу «напоследок»; согласился без энтузиазма: ну давай.
Он назначил ей встречу в кафе у своего метро, уделив аж полчаса, – потом его должны были увозить на выступление куда-то за город: новогодний корпоратив, святое дело. И все равно опоздал, и даже в эти унизительные двадцать минут не захотел изобразить внимание, рассеянно шарил глазами вокруг и даже успел сканировать цепким взглядом какую-то телку.
Таня решила: ну вот и слава богу. Подарю, попрощаюсь и уйду. На диванчике возле нее лежала книга, и она гладила обложку, прощаясь разом с ней, с молодостью, с Савельевым…
Пастернаковский томик нашелся в пожелтевших завалах в доме покойной тетки: «Сестра моя – жизнь», первое издание, 1922 год… Царский прощальный подарок, и она предвкушала реакцию.
– Ух ты, – сказал Савельев. – Здорово.
Повертел книгу в руках и положил ее в сумку.
– Спасибо.
И это было все.
Таня смотрела, не узнавая. За чашкой капучино напротив нее сидел незнакомый человек. Вдруг он улыбнулся:
– Помнишь, как мы целовались?
– Помню, – ответила она.
– А давай я тебе завтра позвоню? – предложил Савельев вполне конкретно.
И вдруг бешено заколотилось ее сердце. Дура, сказала она себе, ну вот же дура, а? Позвали назад каштанку…
А вслух сказала ровно:
– Позвони.
– Напишешь телефон? Я потерял…
Как будто дело было в этом.
Она аккуратно записала свой телефон, низко опустив голову: щеки пылали. Он ничего не заметил – не царское дело замечать женское волнение – и запихнул бумажку в карман вельветового пижонского пиджака.
– Снова потеряешь, – сказала она, пытаясь быть легкой.
– Ни-ни. Позвоню! – с шутливой угрозой-обещанием ответил Савельев и поднялся: ему пора было ехать на этот корпоратив.
Она шла домой, презирая себя и прислушиваясь к счастливому глупому сердцу.
Савельев не позвонил – позвонили из подмосковной больницы: в кармане человека, привезенного «по скорой», нашли ту бумажку с телефоном. Больше при пострадавшем ничего не было. Пиджак вельветовый, да. Состояние тяжелое.
Никаких подробностей по телефону рассказывать не собирались. Еле дождавшись утра, с новокаиновым сердцем, пытавшимся обезболить этот ужас, Таня ринулась из Москвы.
В больнице у нее сердито потребовали его документы – и чуть не наорали, узнав, что документов она не привезла. В реанимацию, разумеется, не пустили, к врачам – тоже. Вы документы привезите, нельзя без документов, мы в милицию сообщить должны! Через «скорую» удалось выяснить, откуда был вызов, и она поехала в эти «Березки» за вещами и паспортом.
Душа, балансируя над пропастью, пыталась догадаться о значении слов «стабильно тяжелое». От того, какое слово было здесь главным, зависела жизнь…
В пансионате сказали: он вещей не оставлял. Так «скорая» же! «Скорая» приезжала ночью – драка была в баре, кого-то увезли… – а Савельев уехал сам, утром. Нет никакой ошибки, девушка! Посмотреть его номер? А вы ему кто? Нет, девушка, в номер нельзя, там другие люди живут. Да точно, точно! А Савельев уехал утром, не волнуйтесь так.
Выйдя на крыльцо, она судорожно вбирала в себя счастливый теперь рождественский воздух, ничего не понимая, кроме того, что ее, кажется, пощадили: звонок из больницы, бессонная ночь, невыносимо медленная электричка, тоскливые больничные запахи – все это было тяжким сном, и сейчас она проснется!
Таня вернулась к администраторше и попросила разрешения позвонить. Та снизошла, скривившись.
Услышав савельевское «алё», истерзанная этими мучительными часами Таня еле сдержалась, чтобы не заплакать. У тебя все хорошо?
Но он вдруг напустился на нее в непонятной ярости: что со мной может быть нехорошо? что ты звонишь? у меня все прекрасно! оставь меня в покое! И она растерянно положила трубку под презрительным взглядом из-за стойки.
И почему-то поехала обратно в больницу.
Попросила показать вещи. Сомнений не было: пиджак был тот самый и весь в крови; в крови и грязных следах были брюки и рубаха. Все это было – Савельева. И ее записка с телефоном!
Таня спросила о состоянии: все то же, стабильно тяжелое. Дождалась врача. Услышала диагноз и невеселые перспективы: перелом черепа, кровоизлияние в мозг, сейчас в искусственной коме. Нужно время; о полном восстановлении, скорее всего, говорить не приходится, но все бывает, надо надеяться… Общие усталые слова.
О ком шла речь, она уже не понимала.
Нашла по цепочке врача из «скорой» и услышала уже известные подробности – девушка, вступился, избили… Да – высокий, лет на вид тридцать, волосы русые.
Дома она обнаружила себя стоящей у телефонного аппарата, но рука так и не подняла трубку, чтобы снова позвонить раздраженному, оравшему на нее, чужому человеку. Думать тоже не получалось.
За окнами длилась ледяная ночь; где-то у черта на куличках, распластанный на реанимационной кровати, лежал в коме человек без имени и документов – и его единственной связью с миром была записка с ее телефоном.
Она пошла на работу, но с обеда снова сорвалась в больницу.
На третий день ей удалось уговорить врача, и ее пустили в реанимацию. То, что она увидела, подкосило ее. Это было тело с обезображенным лицом, со свистом дышащее через катетеры. И это был Савельев.
Через два дня она увидела его фамилию на афише у Дома литераторов и несколько минут стояла перед ней в темном облаке собственных мыслей, а потом пришла в указанный день – с расчетливым опозданием, невидимой…
Пошлый двойник Савельева читал его стихи и отвечал на вопросы. Он был очень хорошо подготовлен, этот двойник, но обмануть ее было невозможно: на сцене стоял другой человек!
Он читал с эстрадной подачей, а ей ли было не помнить, как дрожал на взлете голос настоящего Савельева, юноши-бога со смертной тоской в глазах… Этот, поднаторевший в успехе, был обласкан жизнью, и на лице матово мерцала привычка к популярности. С языка слетали бойкие ответы на все вопросы мироздания…
Но самое ужасное, отчего потемнело в глазах у Тани Мельцер, невидимо стоявшей в дверях за шторой: на выступавшем был вельветовый пиджак. Тот самый.
Она вышла вон и осторожно побрела по Большой Никитской: ноги подкашивались безо всякого гололеда… Она не видела, как двойник вдруг изменился в лице, потерял мысль и еле выпутался из фразы. На автопилоте договорив репертуар, человек в вельветовом пиджаке сбежал вон прямо со сцены – кружным путем, через ресторан, на Поварскую…
Он увидел в партере девушку из пансионата.
Сероглазка была уверена, что вечер отменят, и пришла в Дом литераторов, чтобы узнать у кого-нибудь телефон своего рыцаря. Она помнила месиво, в которое бандиты превратили это лицо несколько дней назад, и, онемев, смотрела на целехонького Савельева, а потом пошла за кулисы, но рыцаря как корова языком слизала…
Наутро в больнице Таню Мельцер дежурно опросил унылый мент. Более всего мента беспокоило, не собирается ли кто-нибудь подавать заявление по поводу произошедшего. Узнав, что нет, служивый заметно повеселел и даже поблагодарил Таню за понимание: смысла, сказал, все равно нет, а нас… это… Он замялся и, не доглаголив, умолк.
Главврач позвал Таню поговорить о дальнейшем. Больного надо скоро выписывать; они сделали все, что могли, а мест нет совсем. Он так понял, что она невеста, а близких родственников у пострадавшего нет: она готова забрать его под подписку?
Таня похолодела, вспомнив, что у Савельева есть мать – кажется, в Воронеже, – и она ничего не знает. Надо было найти ее, сказать что-то… Но что?
Всю последнюю неделю Таня Мельцер пыталась жить в энергосберегающем режиме, но пробки вылетали все равно. У нее не было сил думать еще и об этом.
И она сказала: да.
Всего неделю назад она сидела в кафе напротив человека, которого еще девочкой назначила своей судьбой. Судьбы не получилось, и, повзрослев, она решила красиво закрыть эту страницу. Но зачем-то оставила ему свой телефон на клочке бумаги…
Сама не понимала зачем.
Теперь – поняла.
Кто-то приходил в его палату каждую ночь – и вел смотреть на настоящего Савельева. Там всегда был день, и всякий раз хороший день, то солнечный, то не очень, но всегда желанный.
Больной узнавал эти пейзажи: бульвары, улицы, дома… – и у него сладко щемило сердце. Он, несомненно, бывал здесь, вот здесь и вот здесь тоже! А вот – боже мой! – какое-то совсем родное место, где когда-то случилось что-то нежное…
Он знал, что вспомнит это, непременно вспомнит, потому что память расширялась и в голове уже начали появляться слова. Они складывались воедино – сами, и он испытывал от этого мучительное наслаждение, как будто когда-то умел делать это очень хорошо, а потом разучился…
Он наблюдал за местом, где обронил свою жизнь, он заполнял себя пространством своей памяти, а жил вместо него – Савельев. Тот, настоящий. Здоровый, вальяжный и знаменитый. Спрятавшийся в ту ночь в номере подмосковного пансионата. Этот уцелевший Савельев по-хозяйски брал куски его жизни – то на московских улицах, то среди каких-то дач и яхт; он сидел в кафе и давал интервью, он раздевал женщин и что-то делал с ними.
И лишь иногда этот победительный человек вставал сусликом посреди улицы и с тревогой смотрел наверх, будто догадывался о чем-то.
Однажды больной почувствовал на себе пристальный встречный взгляд и проснулся, застигнутый с поличным, в своей палате, под ночником…
На следующую ночь незнакомец не повел его никуда, сказав: надо переждать. Он чувствует, что ты следишь за ним. Будь осторожен.
Больной сказал: но если он меня видит, значит, я все-таки есть? Есть – на самом деле? Ночной человек ничего не ответил. И тогда больной решил рассказать все Тане.
Его рассказ сделал с ней ужасное: Таня завыла, закусив себе ладонь. Она выла – и смотрела такими глазами, что он очень разволновался. И тогда она прижала его к себе, говоря:
– О господи, о господи…
И тогда он спросил:
– Я – настоящий?
И она ответила два раза, хотя он хорошо ее слышал.
– Да! Да!
– А он?
На это Таня ничего не ответила, а лица больной не видел. Она прижималась к нему, и он чувствовал все ее тело и оба бугорка. И вдруг подумал, что это важнее, чем ответ на его вопрос. И погладил ее по спине.
– Не бойся, – сказал он, – все будет хорошо.
И она заплакала хорошими слезами.
Они молчаливо договорились не вспоминать о втором Савельеве, но тот, растревоженный слежкой, сам обнаружил их бедную жизнь – и начал осматриваться в ней. Он пил с их блюдца и дышал их воздухом. Его презентации и корпоративы, коста-бравы и рублевки, бабы и редакции невидимо громоздились теперь вдоль стен иерусалимской квартирки, куда Таня перевезла больного, едва тот пошел на поправку.
Двойника можно было теперь встретить, выйдя ночью в уборную: его гримировали в кухне перед телесъемкой, а он смотрел перед собой летаргическим взглядом. Человек с искореженным лицом оставался тогда в туалете подольше, давая двойнику время исчезнуть. А потом ложился в постель и говорил Тане:
– Он опять был тут.
– Ну что ты, – говорила она, – что ты! Все хорошо. Никого нет, только мы…
И обнимала его, а когда она его обнимала, он все забывал.
Рассвет встречал их дружелюбным криком муэдзина из динамика. Таня первой выходила на кухню и, воровато озираясь, стирала со стола ночной след пудры, выбрасывала забытую гримерную салфетку, открывала окно…
Они завтракали и занимались для зрения и для памяти, а потом Таня уходила учить иврит или сидеть с чужими детьми, а вместо нее посидеть с Савельевым приходила соседка.
Таня оставляла книги. Страницы вкусно пахли, но читать он не мог: слова рассыпались на буквы и не становились больше ничем. Зато они потихоньку начали складываться в его голове. В них пряталась и улыбалась музыка: найди меня. И он искал, но она всегда появлялась сама: вот она я!
Ему нравились цвета за окном – всегда яркие и сильные; даже темнота здесь была чернее и глубже, чем до путешествия. Он подружился с фиолетовым деревом и белым кустом: они были верными друзьями и всегда ждали его во дворе, когда он выходил посидеть на воздухе.
Но больше всего ему нравилась вечерняя игра, когда Таня зубрила по бумажке новый язык. Он повторял за ней слова, и это было так волшебно: адони, слах ли, бэвакаша. Самые простые вещи превращались в шараду с разгадкой, и разгадка оставалась в нем навсегда.
Таня смеялась и завидовала его памяти: она запоминала иврит гораздо хуже…
Но иногда среди веселья она заглядывала в его глаза, пытаясь понять, что происходило в ее отсутствие. Однажды, сама понимая, как странно это звучит, осторожно спросила соседку: никто не приходил?
Та глянула пытливо: нет, а что?
Но московский двойник приходил теперь и среди бела дня. Лунатически озирался, заглядывал в холодильник, съедал какой-нибудь ломоть сыра, запивал соком и исчезал.
Однажды он привел с собой бабу и торопливо лапал ее в метре от несчастного инвалида, а потом прислонил к коридорной стене и отымел. Баба издавала ритмичные павлиньи крики. Застегиваясь, московский гость на миг застыл с привычным вопросом в глазах: где я? кто тут? – дернул головой, сбрасывая с себя морок, и исчез.
Следом растворилась баба, оставив по себе чудовищный запах парфюма.
От запаха ли, от самого ли гостя или от времени песка, особенно жестокого в тот год, у Савельева началась аллергия, и тело пошло красными рубцами: они проступали, как следы от невидимых шпицрутенов.
В один ужасный день двойник заявился с верзилой, называвшим его «братуха», и бедный иерусалимский жилец похолодел от страха, потому что ясно вспомнил этого человека: его большую потную руку, богатый аквариум в кабинете, похожем на антикварный салон, офис, вызывавший чувство стыда и опасности…
Этим воспоминанием прорвало какую-то мутную плотину, и в голову натекло ужасной дряни. День был погублен безнадежно, пахло армейским сортиром и лосьонами, и не спасали ни фиолетовое дерево, ни белый куст…
Словно почуяв слабое место, верзила стал заявляться к нему сам, без «братухи», тиранил и играл в прятки водящим.
– Зёма! – кричал он и громко ржал. – Ты задолбал уже прятаться, выходи. Пушкин, …, – где ты?
Бедный больной сидел, забившись в угол, и боялся дышать. Тело горело от аллергии. Таня мыла потом полы с хлоркой и проветривала квартиру.