Читать книгу "Сентиментальное путешествие"
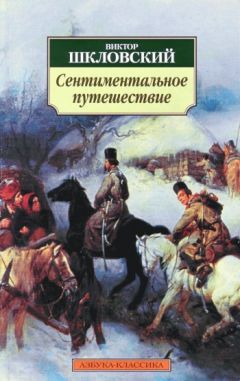
Автор книги: Виктор Шкловский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Я вышел из крепости по мосту и не помню, почему смеялся.
Прохожий хохол остановился, поглядел на меня и с искренним восхищением сказал: «Вот хитрый жид, надул кого-то и смеется». В голосе его только восхищение, без всякого антисемитизма.
Но я не поступил непосредственно к Скоропадскому, а выбрал 4-й автопанцирный дивизион.
Команда была русская. Все те же шоферы, но более большевистски настроенные. Заграничный воздух укрепляет большевизм.
Кругом была слышна только русская речь.
Меня приняли хорошо и поставили на ремонт машин.
Одновременно со мной в дивизион поступило несколько офицеров с той же целью, как и моя.
Петлюровцы уже окружили город. Слышна была канонада, и ночью видны огни выстрелов.
Стояла зима, дети катались со всех спусков на салазках.
Я встретил в Киеве знакомых. Одни нервничали, другие уже ко всему привыкли. Рассказывали про террор при предыдущих переворотах.
Хуже всех были украинцы: они расстреливали вообще большевиков как русских и русских как большевиков.
Одна знакомая художница (Давидова) говорила мне, что у ее подруги, которая жила вместе с ней, расстреляли в саду (украинцы расстреливали в саду) мужа и двух братьев.
Та пошла, разыскала трупы своих, но хоронить было нельзя.
Она принесла на себе трупы в квартиру Давидовой, положила на диван и так провела с ними три дня.
Петлюровцы шли. Офицеры дрались с ними неизвестно за что, немцам было приказано мешать драке.
А Киев стоял с выбитыми окнами. В окнах чаще можно было встретить фанеру, чем стекла.
После этого Киев брали еще раз 10 всякие люди.
Пока же работали кафе, а в одном театре выступал Арманд Дюкло, предсказатель и ясновидящий.
Я был на представлении.
Он угадывал фамилии, записанные на бумажке и переданные его помощнику. Но больше интересовались все предсказаниями. Помню вопросы. Они были очень однотипны.
«Цела ли моя обстановка в Петербурге?» – спрашивали многие.
«Я вижу, да, я вижу ее, вашу обстановку, – говорил Дюкло раздельно, идя, пошатываясь, с завязанными глазами по сцене, – она цела».
Спросили один раз: «Придут ли большевики в Киев?»
Дюкло обещал, что нет.
Я его встретил потом в Петербурге, – и это было очень весело! – он служил при культпросвете одной красноармейской части в ясновидящих и получал красноармейский паек.
Я не был теперь на его представлениях и не знаю, о чем его спрашивали. Но знаю, что «дует ветер с востока, и дует ветер с запада, и замыкает ветер круг свой».
И в странном быту, крепком, как пластинчатая цепь Галля, долгом, как очередь, самое странное, что интерес к булке равен интересу к жизни, что все, что осталось в душе, кажется равным, все было равным.
Как вода, в которой есть льдинка, не может быть теплее 0°, так солдаты броневого дивизиона, по существу, были большевиками, а себя презирали за службу гетману.
А объяснить им, что такое Учредительное собрание, я не умел.
У меня был товарищ, не скрою, что он был – еврей. По образованию он художник – без образования.
Он жил в Гельсингфорсе с матросами, а в царской службе был дезертир, а мне очень жалко, что я в июне наступал за Ллойд Джорджа.
Так вот, этот художник в Пермской губернии стал большевиком и собирал налоги.
И говорит: «Если рассказать, что мы делали, так было хуже инквизиции», – а когда крестьяне поймали одного его помощника, то покрыли досками и катали по доскам железную бочку с керосином, пока тот не умер.
Мне скажут, что это сюда не относится. А мне какое дело. Я-то должен носить это все в душе?
Но я вам дам и то, что относится.
Уже при последнем издыхании власти пана Скоропадского, когда он сам убежал в Берлин, его пустой дворец еще охранялся.
Кстати, о Скоропадском.
Был Скоропадский избран в гетманы.
Жил он тогда в Киеве, на обыкновенной лестнице, в обыкновенной квартире.
Шел по лестнице какой-то человек, кого-то искал и позвонил в квартиру Скоропадского по ошибке. Открыла горничная.
Человек спрашивает:
«Здесь живет такой-то?»
Горничная спокойно отвечает:
«Нет, здесь живет царь».
И закрывает дверь.
И это ничего не значит.
Так вот, в последние дни Скоропадского (его уже не было, он убежал в Берлин, а его защищали) поймали белые – кажется, кирпичевская контрразведка – одного украинца по фамилии Иванов (студента), а сами-то кирпичевцы-офицеры были из студентов.
Поймали, допрашивали и долго пороли шомполами, пока тот не умер.
Мы не решались на переворот, боясь розни русских с русскими. С. р. в Киеве было довольно много, но партия была в обмороке и сильно недовольна своей связью с Союзом возрождения.
Эта связь доживала свои последние дни.
А меня в 4-м автопанцирном солдаты считали большевиком, хотя я прямо и точно говорил, кто я.
От нас брали броневики и посылали на фронт, сперва далеко, в Коростень, а потом прямо под город и даже в город, на Подол.
Я засахаривал гетмановские машины.
Делается это так: сахар-песок или кусками бросается в бензиновый бак, где, растворяясь, попадает вместе с бензином в жиклер (тоненькое калиброванное отверстие, через которое горючее вещество идет в смесительную камеру).
Сахар, вследствие холода при испарении, застывает и закупоривает отверстие.
Можно продуть жиклер шинным насосом. Но его опять забьет.
Но машины все же выходили, и скоро их поставили вне нашего круга работы в Лукьяновские казармы.
Людей кормили очень хорошо и поили водкой.
А вокруг города ночью блистали блески выстрелов.
У Союза возрождения была своя часть на Крещатике, но ее он не комплектовал и вообще вел себя более чем неуверенно.
Офицерство и студенчество было мобилизовано.
У университета стреляли и убили за что-то студентов.
Гетманцы узнали об измене Григорьева, но все же верили во что-то, главным образом в десант французов.
Опять сроки. Наконец решение, что городская дума соберется и мы ее поддержим.
Ночью я собрал команду, но, несмотря на блески орудий кругом города, за мной пошло человек 15. Остальные сказали, что они дневальные.
Броневиков не было, они стояли в штабе на Лукьяновке.
Взял грузовик, поставил на них пулеметы. Бунчужный (фельдфебель) хотел предупредить штаб, я порвал провод.
Выехал на Крещатик, где должна быть военная часть Союза возрождения. Никого. Но узнал, что сюда уже приезжали добровольцы, хотели арестовывать.
Поехал в казармы, где были наши части: сидит там товарищ латыш. Люди у него готовы, но он не знает, что делать. В это же время наши же заняли Лукьяновские казармы и арестовали штаб.
Но мы об этом не знали.
Дело в том, что Дума не собралась, не решилась. А наш штаб разошелся, не предупредив нас. Я искал его по всем квартирам. Нигде нет никого. Распустил людей и поехал на Борщеговку к заводу Гретера. Там сидят рабочие, хотят идти в город, но спорят о лозунгах. Так и не пошли, хотя уже приготовили оркестр.
Днем в город вошел Петлюра.
Работой организации руководили в Киеве: сильно правый человек диктаторского вида в ботфортах, очень старый человек и украинец, который потом стал большевиком.
Петлюровцы входили в город строем.
У них была артиллерия. Между собой солдаты говорили по-русски. Народ встречал их толпами и говорил между собой громко, во всеуслышание: «Вот гетманцы рассказывали – банды идут, какие банды – войска настоящие». Это говорилось по-русски и для лояльности.
Бедные, им так хотелось восхищаться.
Когда я переходил через лед из России в Финляндию, то встретил в рыбачьей будке на льду одну даму; дальше пошли вместе; когда мы с ней попали на берег и нас арестовали финны, то она все время хвалила Финляндию, от которой видала саженей десять.
Но бывает и худшее горе, оно бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже «изумлен», то есть уже «ушел из ума» – так об изумлении говорили при пытке дыбой, – и вот мучается человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника хотя и жесткие, но теплые и человеческие.
И щекой ласкается человек к теплым рукам, которые его держат, чтобы мучить.
Это – мой кошмар.
Петлюровцы вошли в город. В городе оказалось много украинцев; я уже встречал их среди полковых писарей и раньше.
Я не смеюсь над украинцами, хотя мы, люди русской культуры, в глубине души враждебны всякой «мове». Сколько смеялись мы над украинским языком. Я сто раз слыхал: «Самопер попер на мордописню», что равно: «Автомобиль поехал в фотографию».
Не любим мы не нашего. И тургеневское «грае, грае, воропае» не от любви придумано.
Но Петлюра как национальный герой – герой писарской, и наша канцелярия его одобряла. Вошли украинцы, заняли город, кажется, не грабили, стали украшать город, повесили французские и английские гербы и сильно ждали союзных послов. А солдаты разоружили добровольцев и надели на себя их французские броневые каски.
Самих же добровольцев посадили в Педагогический музей; потом кто-то бросил бомбу, а там оказался динамит, был страшный взрыв, много людей убило, и стекла домов повылетели кругом.
Несколько дней провел в части.
У нас были новые офицеры, в их числе Бунчужный, он оказался украинцем.
Говорили они мне, что очень боятся большевиков. И на самом деле их войска были большевистские.
Войска текли как вода, выбирая себе политическое ложе, и скат был к Москве. Пока же шла украинизация.
В эти дни в Киеве погибли все твердые знаки.
Приказали менять вывески на украинские.
Язык знали не все, и у нас в частях, и украинцы, присланные со стороны, говорили о технических вещах по-русски, прибавляя изредка «добре» и иное что украинское.
Опять получилось «грае, грае, воропае».
Вот подлая закваска!
Приказали в день переделать все вывески на украинские.
Это делается просто. Нужно было твердый знак переделать на мягкий, а «и» просто на «i».
Работали не покладая рук, везде стояли лестницы.
Переменили. При добровольцах ставили твердый знак на место.
Да, забыл написать, как мы жили. Я жил в ванной комнате одного присяжного поверенного, а когда уже нельзя было жить, поселился на квартире, которая прежде была явочной, а теперь туда приходили с явкой, но за ночлег брали рублей пять. Но спать можно было. Денег не было почти ни у кого, я же получал жалованье из части. Почти ни у кого не было второй рубашки.
И все удивлялись, откуда заводятся вши, сразу такие большие?
Компания была очень хорошая: помню одного рыжебородого, бывшего министра Белоруссии, не знаю, как его фамилия, его у нас звали Белорусовым. Он был очень хороший человек.
Союз возрождения надоел всем ужасно. Партия сильно косилась на свою военную организацию, а военная организация – на партию.
Через какие-то связи много народу поступило в «варту» – полицию, – дело было боевое, так как громилы ходили отрядами с пулеметами и давали бой.
Пробовал работать в одной газете, но первую же мою статью-рецензию взялся исправить Петр Пильский, я обиделся и не позволил печатать.
В редакции узнал я об аресте Колчаком Уфимского совещания.
Сообщила мне об этом одна полная женщина, жена издателя, добавив: «Да, да, разогнали, так и нужно, молодцы большевики».
Я упал на пол в обмороке. Как срезанный. Это первый и единственный мой обморок в жизни. Я не знал, что судьба Учредительного собрания меня так волновала.
К этому времени партия сильно левела. Идешь по Крещатику, встречаешь товарища:
«Что нового?» Отвечает: «Да вот, признаю Советскую власть!» И радостно так.
Не раз и не два можно было остановить гражданскую войну в России. Конечно, это можно поставить в вину большевикам. Но они не изобретены, а открыты.
У нас на собрании правая часть говорила: «Перейдем на культурную работу», – а перейти на культурную работу на партийном жаргоне значит то же, что в войсках «становись, закуривай».
«Каюк», «тупик», – ну, значит, нужно что-нибудь делать, вот и делаешь дело без причинной связи, а если взять в нашей филологической терминологии: другого семантического ряда.
И я произнес речь. Мое дело темное, я человек непонятливый, я тоже другого семантического ряда, я как самовар, которым забивают гвозди.
Я рассказал: «Признаем эту трижды проклятую Советскую власть!
Как на суде Соломона, не будем требовать половинки ребенка, отдадим ребенка чужим, пусть живет!»
Мне закричали: «Он умрет, они его убьют!»
Но что мне делать? Я вижу игру только на один ход вперед.
Партия отказалась от своей военной организации. Герман предложил ей (организации) переименоваться в Союз защиты Учредительного собрания, собрал кое-кого и поехал в Одессу.
Другие собирались на Дон воевать с Красновым.
А я собрался в Россию, в милый, грозный свой Петербург.
А публика изнывала.
Дарданеллы были открыты, ждали французов, верили в союзников.
И уже не верили, – но нужно же верить во что-нибудь человеку, у которого есть имущество.
Рассказывали, что французы уже высадились в Одессе и отгородили часть города стульями, и между этими стульями, ограничившими территорию новой французской колонии, не смеют пробегать даже кошки.
Рассказали, что у французов есть фиолетовый луч, которым они могут ослепить всех большевиков, и Борис Мирский написал об этом луче фельетон «Больная красавица». Красавица – старый мир, который нужно лечить фиолетовым лучом.
И никогда раньше так не боялись большевиков, как в то время. Из пустой и черной России дул черный сквозняк.
Рассказывали, что англичане – рассказывали это люди не больные, – что англичане уже высадили в Баку стада обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что идут они в атаки без страха, что они победят большевиков.
Показывали рукой на аршин от пола рост этих обезьян. Говорили, что когда при взятии Баку одна такая обезьяна была убита, то ее хоронили с оркестром шотландской военной музыки и шотландцы плакали.
Потому что инструкторами обезьяньих легионов были шотландцы.
Из России дул черный ветер, черное пятно России росло, «больная красавица» бредила.
Люди собирались в Константинополь.
Если не здесь, то где же я расскажу один факт?
По приезде из России зашел я к одному фабриканту, он был табачник, или это называется заводчик.
У этого человека в Петербурге была мебель, и меня просили передать ему, что его мебель пропала.
Я зашел к этому человеку. У него на столе стоял мармелад, и печенье, и торт, и булки, конфеты, и шоколад, и дети за столом, и чистое белье, и жена, и никто не был застрелен.
И сидел один знаменитый русский юмористический писатель.
Писатель говорил: «В России до тех пор не будет порядка, пока в каждом доме, на каждом дворе и в квартире не будет лежать по зарезанному большевику».
Табачный фабрикант был спокоен. Его деньги были в валюте. Он сказал: «А знаете вы, сколько получала работница в Вильне на моей фабрике?» Писатель не знал. Фабрикант сказал: «От пяти копеек в день, и, знаете ли, я не удивляюсь, что они взбунтовались» (или, может быть, он сказал: «Я не удивляюсь, что они недовольны», не помню дословно).
Этот человек не был болен.
Итак, немцы продавали на улицах мелкие вещицы, но увозили из Украины сало, и хлеб, и наши автомобили, которые я знал в лицо: «паккарды» и «локомобили».
Поезда немцев охранялись караульными в длинных шубах с бараньими воротниками.
Мне вспомнилось, что, когда немцы отступали «в ту войну», они не забывали при отходе подмести пол канцелярии.
Меня пригласили к одной даме, она узнала, что я уезжаю. Дама жила в комнате с коврами и со старинной мебелью красного дерева; мне она и мебель показались красивыми. Она собиралась ехать в Константинополь, муж ее жил в Петербурге.
Она меня попросила отвезти деньги в Россию, кажется тысяч семь, – это были тогда деньги.
Трудно быть ненарядным.
«В ту войну» я был молодой и любил автомобили, но, когда идешь по Невскому, и весна, и женщины уже по-весеннему легко и красиво разодеты, когда весна и женщины, женщины, трудно идти по улице грязным.
Трудно было и в Киеве идти с автомобильными цепями на плечах среди нарядных; я люблю шелковые чулки. А в Петербурге, в милом и грозном, было не трудно, там когда несешь большой черный мешок, хоть с дровами, то только гордишься тем, что сильный. Но и в Петербурге теперь есть шелковые чулки.
Эта женщина меня смущала Я взял у нее деньги, высверлил толстую ложку и черенок ножа и положил в них тысячерублевки.
Теперь весь вопрос был в том, как поехать. Я пробыл в Киеве еще несколько дней, встретил Новый год в пустом и черном здании городской думы, ел колбасу, но водки не пил.
На улице встретил пленного, ехавшего из Германии, выменял у него костюм и документы (они состояли из одного листка), отдал свой костюм и решил, что так можно ехать.
Пошел прощаться к одной художнице, она сказала мне, осмотрев:
«Так хорошо, но не смотрите никому в глаза, по глазам узнают».
И вот я влился в голодное и грязное войско военнопленных.
Идущие из Австрии были одеты в разные бесформенные военные обноски, идущие из Германии, – в форменные куртки с желтой полосой на рукаве, иногда с лампасами.
Пленные из Германии были истощены еще более австрийских.
Попробовал ночевать в бараке.
Странно было видеть, что некоторые из пленных мочились прямо на нары.
Кругом слышишь разговоры, порожденные бесконечно нищенским бытом. Слышишь разговоры о публичных домах.
Говорят очень серьезно, что вот Терещенко устроил в Киеве для пленных публичный дом, где прислуживают сестры в белых халатах. А пришедших сперва моют.
И не цинические разговоры, просто мечта о хорошем, чистом публичном доме. Искали эти дома по всему Киеву, верили в них и расспрашивали друг друга про адрес.
Нужно вообще сказать, что наименее циническое, что я слышал в армии про женщин, это слова: «Без бабы, какой бы ни был харч хороший, все же чего-то не хватает».
Другой отрывок из пленного фольклора – это рассказ про то, как пленный, едущий в Россию, встречает свою жену, едущую с пленным венгерцем к нему на родину.
Солдат сперва снимает с венгерца золотые часы – образ явно эпический, потом раздевает его, снимает с него нарядное платье, потом отбирает сундуки и наконец убивает.
А жену везет в Россию, говоря спутникам: «Я у нее допытаюсь, кому что продала, а потом убью!»
Рассказ этот сложен вне России, т<о> е<сть> легендарен, что видно было из того, что все цены на проданный женой скот были приведены по довоенным нормам.
Поехали.
Я был одет и сравнен во всем с военнопленными, разницу составляли только шерстяной свитер под курткой и кожаные сапоги на ногах.
Долго ехали по Украине. Немцы отнимали у нас паровозы, мы молчали; я никогда не видел таких забитых людей, как пленные.
Спали в вагонах, к утру оказывалось, что несколько человек замерзло насмерть. Теплушки были без печек, а вместо трубы дырка в крыше, и в полу дыры. Складывали из кирпича таганцы, покрывали отломанными буферами. Топили жмыхом. В дороге давали есть жидкое, но не было посуды.
С изумлением увидал, как некоторые пленные, не имея котелка, снимали с ноги башмак с деревянной подошвой и подавали его раздатчику как посуду.
Дошли до границы, здесь нам сказали, что нужно идти верст пятнадцать до русского поезда.
Шли, стуча деревянными башмаками, заходили в хаты, нам подавали, спрашивали, все ли уже прошли, у многих были родственники в плену или так: «может быть, в плену».
Я, если бы попал на необитаемый остров, стал бы не Робинзоном, а обезьяной, так говорила моя жена про меня; я не слыхал никогда более верного определения. Мне не было очень тяжело.
Я умею течь, изменяясь, даже становиться льдом и паром, умею вкашиваться во всякую обувь. Шел со всеми.
Отдал соседу шерстяное одеяло, в которое заворачивался.
Пришли. Россия.
Стоит поезд – броневой, а на нем красная надпись «Смерть буржуям»: буквы торчат, так и влезают в воздух, а броневик исшарпанный и пустой какой-то, и непременно приедет в Киев.
Поезд стоит. Влезаем. Холодно. С нами вместе едут инвалиды с мешками: в то время инвалидам разрешали в России возить провизию, это было для них как бы рента. Инвалиды влезают и вползают в трехногие теплушки, вваливаются через край на брюхе. Одеты хорошо. Инвалиды с мешками, пленные едут по черным рельсам в Россию. Россия поставила между теми и другими и многим другим плюсы, а в итоге вывела большевиков. Едем.
Дали по вобле без хлеба. Грызем. Сало и сытость оборвались.
Пленные не разговаривают, не спрашивают. Приедем – узнаем.
В составе поезда были вагоны с гробами с черной надписью, написанной смолой, скорописью:
ГРОБЫ ОБРАТНО
Если умрешь, отвезут до Курска и похоронят в «горелом лесу». А гробы обратно. Берегите тару.
Доехали до какой-то станции, видим пассажирский поезд. Народ набит, напрессован. Лезут в окна, а это опасно, могут снять сапоги, пока влезаешь.
Я ехал сперва на буферах; люди на крышах в изобилии; течет Россия медленно, как сапожный вар, куда-то.
Вштопорился, вкрутился в вагон, влез. Сижу, чешусь.
Человек сидит предо мной. Спрашивает. Отвечаю. Говорит: «Как это вы так опустились, другим можно, а вам стыдно».
Отмалчиваюсь.
«А я, – говорит, – знаю, кто вы!»
«А кто?»
«А вы из петербургских слесарей и, может быть, Выборгской стороны».
Я сказал ему с искренним восторгом:
«Как это вы догадались?»
«Это моя специальность, я из курской Чека».
И действительно, шуба и часы золотые, но мной не брезгал и утешал.
Ехал дальше.
Опять эшелон пленных. Это уже за Курском. Какой-то солдат сверху обмочил мой мешок, а в мешке сахар, фунтов двадцать. Сахар многие пленные везли.
Ночью приехали в Москву, город темный, на вокзале жгли книжки, а кругом плакаты с золотыми буквами. Шли ночью через город. Страшно, совсем пустой.
Пришли в какой-то переулок, ночевали на нарах.
На стене плакат, изображающий человека, у которого вши на воротнике и под мышками. Смотрел с большим вниманием.
Утром выдали мне документы на имя Иосифа Виленчика, летние штаны, что-то вроде бушлата и пару белья, ложку сахара и денег 20 рублей одной желтой керенкой.
Ушел к товарищу филологу. Обрадовался мне и спать положил, а вшей он не боялся, хотя у него сыпняка еще не было.
Настиг позже, и забыл он во время болезни свою фамилию.
Сидели, разговаривали, топили камин верхами от шкафов, ящиком из-под коллекции бабочек и карнизами с окон.
Зашел к Крыленко, передал ему письмо от его сестры из Киева (я ее в Киеве знал).
Говорю ему, что нет победителей, но нужно мириться.
Он был согласен, но говорит, что – они победители. И говорил, что скоро чрезвычаек не будет. И с матерью Крыленко виделся, она жила в саду на Остоженке.
Вернулся в казарму и поехал в Петербург с эшелоном пленных. Едем.
В вагоне снял шапку, а у меня очень заметная голова, уже и тогда бывшая лысой, со лбом, сильно развернутым.
Я снял шапку и лег на верхнюю полку. В вагон вошли еще какие-то люди, не пленные. Мы ругались с ними. Голос у меня громкий.
Спустился вниз, сел на скамейку. Вагон был третьего класса, не теплушка, и довольно хорошо освещен.
И вдруг человек в белом воротничке, сидящий передо мной, обратился ко мне:
«Я знаю тебя, ты – Шкловский!»
Я посмотрел, у него на груди заметил кусок синей материи. Такой знак носили сыщики, когда они стояли вокруг моей квартиры. И лицо человека узнал. Он стоял обыкновенно на углу.
Я и сейчас, когда пишу, охрип от волнения. А синюю ленточку хорошо помню, хотя больше ни от кого не слышал про чекистскую форму.
Я ответил: «Я – Виленчик, еду из плена. Вас не знаю, видите товарищей, я с ними жил в лагерях три года».
Пленные не понимали, в чем дело, они думали, что вопрос идет о праве проезда, кто-то рассеянно сказал сверху:
«Свой, отстань».
Вагон был деревянный, освещенный, воздух в нем казался мне редким.
Я сказал шпику:
«Ну раз познакомились, давай чай пить вместе, у меня есть сахар!»
Полез наверх, принес мешок, положил, взял чайник, пошел за кипятком в соседнее отделение и, ничего не думая, прошел через весь вагон на площадку.
На площадке поставил чайник, ступил на подножку, прыгнул вперед и побежал, больно ударяясь ногами о шпалы.
Если бы я наскочил на стрелку, то она бы меня так и разнесла.
И вот я увидал задний фонарь поезда.
Слегка мело. Шинель осталась в вагоне. Я пошел с рельсов в одну сторону. Метет, не видно ничего. Я пошел в другую сторону. Шоссе.
Пошел по шоссе. Дело было у Клина.
Шел, пришел в деревню. Постучался. Впустили. Сказал, что отстал от поезда и что я работал в Австрии на цивильных работах и хочу купить полушубок из хорошей легкой овчины. Продали за 250 рублей.
Купил валенки, отдав за них свитер, который сейчас же послали в печь прожариваться. Вшей на мне было очень много.
Потом пил чай. Чай был из березового наплыва, без вкуса и запаха, один цвет. Такой наплыв можно варить хоть год, его не убудет.
Взял лошадь, и везли меня к утру на соседнюю станцию к Москве.
Здесь сел на дачный поезд, доехал до Петровско-Разумовского и въехал в Москву на паровике.
В Москве был Горький, которого я знал по «Новой жизни» и «Летописи».
Пошел к Алексею Максимовичу, он написал письмо к Якову Свердлову. Свердлов не заставил меня ждать в передней. Принял в большой комнате с целым ковром на полу.
Яков Свердлов оказался человеком молодым, одет в суконную куртку и кожаные брюки.
Это было во время разгона Уфимского совещания и появления группы Вольского. Свердлов принял меня без подозрительности, я сказал ему, что я не белый, он не стал расспрашивать и дал мне письмо на бланке Центрального Исполнительного Комитета, в письме он написал, что просит прекратить дело Шкловского.
В это время, еще до попытки отъезда из Москвы, встретил Ларису Рейснер; она меня приняла хорошо и просила, не могу ли я помочь ей отбить Федора Раскольникова из Ревеля. Познакомился с каким-то членом Реввоенсовета.
У меня была инерция, к большевикам я относился хорошо и согласился напасть на Ревель с броневиками, чтобы попытаться взять тюрьму.
Предприятие это не состоялось, потому что матросы, которые должны были ехать со мной (под командой Грицая), разъехались кто куда, а больше – в Ямбург за свининой. Некоторые же болели сыпняком.
Федора Раскольникова просто выменяли у англичан на что-то.
Пока же я с Рейснер поехал в Питер с каким-то фантастическим мандатом, ею подписанным.
Она была коммором, комиссаром морского Генерального штаба.
Одновременно с моим делом Горький выхлопотал от ЦК обещание выпустить бывших великих князей; он уже верил, что террор кончился, и думал, что великие князья будут у него работать в антикварной комиссии.
Но его обманули; в ту ночь, когда я ехал в Москву, великие князья были расстреляны петербургской Чека. Николай Михайлович при расстреле держал на руках котенка.
Я приехал в Петербург, пошел к Елене Стасовой в Смольный; она служила в Чека, и мое дело было у нее; я пришел к ней в кабинет и передал ей записку. Стасова – худая блондинка очень интеллигентного вида. Хорошего вида. Она мне сказала, что она меня арестует и что записка Якова Свердлова не имеет силу приказа, так как Чека автономна, или, кажется, так сказала:
«Свердлов и я, оба мы члены партии, он мне не может приказать».
Я сказал, что ее не боюсь, вообще просил меня не запугивать. Стасова очень мило и деловито объяснила мне, что она меня не запугивает, а просто арестует. Но не арестовала, а выпустила, не спросив адреса и посоветовав не заходить к ней, а звонить по телефону. Вышел с мокрой спиной. Позвонил к ней через день, она мне сказала, что дело прекращено. Все очень довольным голосом.
Таким образом, Чека хочет меня арестовать в 1922 году за то, что я делал в 1918 году, не принимая во внимание, что это дело прекращено амнистией по Саратовскому процессу и личной явкой меня самого. Давать же показания о своих прежних товарищах я не могу. У меня другая специальность.
В начале 1919 года я оказался в Питере. Время было грозное и первобытное. При мне изобрели сани.
Первоначально вещи и мешки просто тащили за собой по тротуару, потом стали подвязывать к мешкам кусок дерева. К концу зимы сани были изобретены.
Хуже было с жилищем. Город не подходил к новому быту. Новых домов построить было нельзя. Строить хижины из льда не умели.
Сперва топили печки старого образца мебелью, потом просто перестали их топить. Переселились на кухню. Вещи стали делиться на два разряда: горючие и негорючие. Уже в период 1920 – 1922-х тип нового жилища сложился.
Это небольшая комната с печкой, прежде называемой времянкой, с железными трубами; на сочленениях труб висят жестянки для стекания дегтя.
На времянке готовят.
В переходный период жили ужасно.
Спали в пальто, покрывались коврами; особенно гибли люди в домах с центральным отоплением.
Вымерзали квартирами.
Дома почти все сидели в пальто; пальто подвязывали для тепла веревкой.
Еще не знали, что для того, чтобы жить, нужно есть масло. Ели один картофель и хлеб, хлеб же с жадностью. Раны без жиров не заживают, оцарапаем руку, и рука гниет, и тряпка на ране гниет.
Ранили себя неумолимыми топорами. Женщинами интересовались мало. Были импотентами, у женщин не было месячных.
Позднее начались романы. Все было голое и открытое, как открытые часы; жили с мужчинами потому, что поселились в одной квартире. Отдавались девушки с толстыми косами в 5 ½ часов дня потому, что трамвай кончался в шесть.
Все было в свое время.
Друг мой, человек, про которого в университете говорили, что он имеет все признаки гениальности, жил посреди своей старой комнаты между четырьмя стульями, покрытыми брезентом и коврами. Залезет, надышит и живет. И электричество туда провел. Там он писал работу о родстве малайского языка с японским. По политическим убеждениям он коммунист.
Лопнули водопроводы, замерзли клозеты. Страшно, когда человеку выйти некуда. Мой друг, другой, не тот, который под коврами, говорил, что он завидует собакам, которым не стыдно.
Было холодно, топили книгами. В темном Доме литераторов отсиживались от мороза; ели остатки с чужих тарелок.
Раз ударил мороз. Мороз чрезвычайный, казалось, что такого мороза еще не было никогда, что он как потоп.
Вымерзали. Кончались.
Но подул теплый и влажный ветер, и дома, промерзшие насквозь, посеребрили свои стены об этот теплый воздух. Весь город был серебряный, а прежде была серебряная одна Александровская колонна.
Редкими пятнами выделялись на домах темные стенки комнат, немногих комнат, в которых топили.
У меня дома было семь градусов. Ко мне приходили греться и спали на полу вокруг печки. Я сломал перед этим один одиноко стоящий сарай. На ломку позвали меня шоферы. Они же подковали мои сани железом. Жили они краденым керосином.
Итак, началась оттепель. Я вышел. Теплый западный ветер.
Навстречу, вижу, едет мой друг, завернутый в башлык, в плед, еще во что-то, за ним санки, в санках моток в мотке, его девочка.
Я остановил его и сказал: «Борис, тепло» – он уже сам не мог чувствовать.
Я ходил греться и есть к Гржебину. При мне Госиздат переслал Гржебину письмо Мережковского, в котором он просил, чтобы революционное правительство (Советское) поддержало его (Мережковского), человека, который был всегда за революцию, и купило бы его собрание сочинений. Собрание сочинений уже было продано Гржебину. Письмо это вместе со мной читали Юрий Анненков и Михаил Слонимский. Я способен продать одну рукопись двум издателям, но письма бы такого не написал.









































