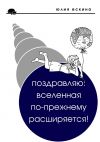Текст книги "Никитки, или Чёрным по белому"
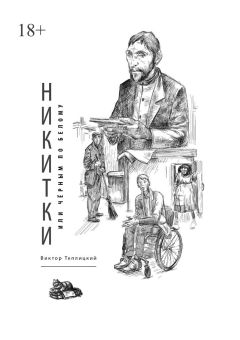
Автор книги: Виктор Теплицкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
С тех пор, всякий раз, когда кипятила молоко, она непременно улыбалась.
Время
Когда иерею Никитину случалось просыпаться раньше будильника, он не спешил глядеть на часы. Лежал, не открывая глаз, слушал, как беспомощно вязнут в темноте минуты, словно ручейки в песке. Пребывая в невременье, иерей ждал, пока время пробьётся к нему. И оно находило иерея, запускало в него свои тонкие стрелки и тащило на Край света в Море исчезающих времён на Остров накануне. А то и в Перелётный кабак, что Мёртвом доме, на Шпиль к Маятнику Фуко, к Человеку, который был четвергом.
Время нашёптывало: «Здравствуй, грусть. Прощай, оружие». Непрестанно тик-тактывая, вздыхало: «Жаль, что вас не было с нами», укоряло: «Взгляни на дом свой, ангел», спрашивало: «По ком звонит колокол?» и, наконец, ободряло: «Выше стропила, плотники!»
В паузах между секундами к Никитину ломились Братья Карамазовы, Будденброки, Соборяне, Анна Каренина, Мартин Иден, Гарри Поттер и прочие обитатели страниц, без числа и порядка, обгоняя и толкаясь. Иерей отмахивался от Кентавра, Властелина колец, Повелителя мух, Степного волка… В конечном счёте он бросал сквозь зубы фразу киношного папы Пия Тринадцатого: «Позже», открывал глаза и предавался блаженному ничего неделанию.
Время скручивало циферблат, прятало стрелки, сворачивалось улиткой и укрывалось в раковине вечности… до первой трели будильника.
Грани. Троллейбус, который идёт…
Дверь плавно закрывается. Шум остаётся по ту сторону стекла. Там же остаются потоки прохожих, автомобилей, рекламных вывесок…
Высокий неширокий коридор, лампы дневного света, кассирша за столиком. Плакаты, рамки, стопы холстов, стоящие вдоль стен. Почему-то всё это напоминает… троллейбус. Не тот, на котором мы приехали, а – иной, из другого мира. Кажется, вот-вот качнётся пол и медленно тронется пейзаж за окном. А может, это автобус из сказки о мальчике со шрамом на лбу? Если нет, откуда это ощущение инаковости всего, что здесь находится? Даже бабушка, что, улыбаясь, протягивает номерок, не похожа на обычных гардеробщиц. И только когда убираю билеты в карман, становится ясно: всё дело в тишине. В этом троллейбусе не разговаривают или общаются вполшёпота. Здесь беседуют полотна.
Поднимаемся на второй этаж. В зале никого. Подходим к первой картине. Холст, масло, багет. Нет, это не холст, это – окно. Пол качнулся, поехали. Медленно, плавно, бесшумно…
Сначала взгляд охватывает всё целиком, потом начинает искать частности. Он уже не скользит, он проникает. Тащит в даль, тайно приобщает к сюжету. И когда цвета и линии проникнут в тебя – картина заговорит. Неведомый язык вдруг станет понятен. Краски будут метаться, кричать, плакать, смеяться, грустить и радоваться. Они не в силах молчать. Они рвутся с полотен, захватывают, поглощают, не отпускают. И, связанный по рукам и ногам, стоишь у этого окна, побеждённый художником. Ты совпал с ним, как совпадает отражение с лицом; нашёл смысл, как находит переводчик нужное слово. Картина открывается тебе ровно настолько, насколько ты открываешься картине.
Художник вытачивает ключ – по своему образу и подобию. И он либо подходит к замку, либо нет. Если сошлось, сложилось – щёлкнуло что-то внутри – хлынул беззвучный поток, унёс туда, «где время не бежит». Нет – едем дальше. «Следующая остановка…»
Время загустевает, словно лёгкий мазок. Стираются невидимые грани миров. И вот уже сквозь мерное тиканье струится вечность. Удивительно! Статика красок передаёт динамику духа.
Наш троллейбус завершает рейс. Последняя акварель. Молча спускаемся, прощаемся с доброй гардеробщицей, кассиршей. Возвращаемся в чёрно-белую шумящую реальность. Нас подхватывают волны электрического света, механического звука. Мир торопит, мир торопится… жить. Но слишком громко, слишком ярко, фальшиво. Волны стремительно влекут к автобусной остановке, и, как спасательный круг, несём мы в себе блаженную тишину полотен.
Грани. Убийца
Я быстро забываю имена, зато хорошо помню лица.
Передо мной убийца. Крепко сложен, кулаки словно гири, короткая стрижка, голос с хрипотцой. Как только я вошёл в храм, он рванулся со скамейки: «Батюшка, мне нужно покаяться…» Сломанное ухо, искривлённый нос. Жизнь прошлась по этому лицу. Оно напоминает расколовшийся валун. Сейчас по нему текут слёзы. Капля застывает на кончике носа. Но парень этого не замечает. Он стоит перед аналоем. Слова выкатываются медленно, тяжело.
Он убил наркомана. Не хотел, так получилось. Он не оправдывается, ждёт суда. Знает, что должен понести наказание и что уже ничего не исправишь.
Слёзы на скуластом лице выглядят нелепо. Такое даже трудно представить. Но вот они! Катятся по щекам, оставляя мокрые полосы – влага на гранитном срезе. «Я отнял жизнь. Отнял жизнь…» – повторяет убийца. Нужны ли тут ещё слова? Мои? Его?
Он стоит перед крестом и Евангелием. Стоит перед своей совестью. Перед Судьёй всей Вселенной и Царём царей. А капля вот-вот оборвётся, упадёт на крест. В ладонь распятого Бога, Чьё Имя – Любовь…
Епитрахиль ложится на стриженую голову.
Вечером я служил всенощную, и всё никак не выходило из головы лицо этого человека.
Грани. Бывшие
Каждый раз, проходя по коридорам БСМП, я будто слышу всплеск – по водам памяти расходятся круги… Подземные переходы, укромные местечки, подвал – я исходил этажи больницы вдоль и поперёк. Но особенно щемит в груди, когда поднимаюсь на шестой. Здесь на месте второго поста был наш храм.
В нулевые в больнице скорой помощи – в «тысячекоечной» произошло событие: главврач решился отвести холл неврологического отделения под церковь. За несколько дней наши прихожане нашли кирпич, выстроили стену, сколотили иконостас. Теперь я бегал от святителя Николая к преподобному Серафиму и обратно.
Храм был небольшой, алтарь малюсенький – престол стоял прижатый к стене; подоконник заменял полку под богослужебные книги, а клирос был отделён тумбочкой. Литургию мы служили несколько раз в месяц, но еженедельно причащали, крестили, соборовали. Почему «мы»? Потому что во всех священнодействиях мне помогали катехизатор, проповедница и алтарник. Всё – бывшие.
Сергей, который ходил по палатам и подготавливал больных к таинствам, – бывший пятидесятник, ещё раньше – грозный деревенский боец. В девяностые он дрался один на один, за компанию, с компанией, на спор или ящик водки. Но Бог любит дерзновенных, и, когда Он уловил Сергея сетями Своей любви, тот сразу пошёл за Христом.
Татьяна – бывшая предпринимательница. Своё дело, дом в Покровке, богатые подруги плюс куча оккультного знания. Но и к ней пробился Господь. Татьяна оставила и дело, и связи и в конце концов съехала с бухгалтерии до свечного ящика. Она благовествовала здоровым и больным о пути спасения, служа Богу даром слова, которым Он щедро её наделил.
Андрей – пономарь. Этому ремеслу он выучился, находясь в колонии, где мы с ним и познакомились. Бывший рецидивист хорошо читал по-славянски и неплохо знал богослужение. Освободившись, нашёл силы прийти в Дом Божий – место, куда несут боль и надежду.
Боли мы тут насмотрелись. В палатах стирается граница между полами. Здесь видишь не обнажённых мужчин и женщин, но людей в бинтах и спицах, растянутых на блоках, стриженых, без конечностей, лежащих без сознания на аппаратах в реанимационных. И почти всегда спешишь, потому что часто счёт идёт на часы, если не на минуты. Случалось, не успевали… Но бывали мы и свидетелями Божьей милости.
Пьём чай после очередного обхода. В храм протискивают коляску. В ней сидит бледный парень в мятой футболке и тапочках. Сестра, вытирая глаза, рассказывает, что брат неудачно упал, повредил позвоночник и теперь почти обездвижен. После операции доктора сказали, что шансов начать ходить почти никаких. Парень хочет принять крещение.
Пока Татьяна готовит купель, Сергей кратко оглашает – объясняет «Символ веры», суть таинства. Задаю несколько личных вопросов. Начинаем.
На фоне дребезжания каталок, звонких голосов медсестёр звучит древний язык. Оплывают свечи, парень сосредоточенно крестится. Когда начинается троекратное обхождение купели, Андрей – сухой, но жилистый – берёт парализованного и несёт вслед за мной. В память врезаются безвольно висящие ноги на синих исколотых руках.
Поздравляем, вручаем Евангелие, молитвослов. Коляска медленно исчезает в дверном проёме.
На следующий день вчерашний новокрещёный… пришёл в храм. Сам! Сестра его поддерживала, но это – на всякий случай. Проснувшись утром, он вдруг почувствовал, что может встать. Сделал шаг, держась за спинку кровати, потом другой… Врачи удивлялись, искали, как обычно, объяснение. Что ж, пусть ищут. На то человеку и дан ум, чтобы искать… Истину. Дано ему и сердце, чтобы веровать.
Теперь храм внизу, снаружи. Больным попасть в него не просто. Я в нём больше не служу. Бывшие мои помощники разлетелись. Но каждый правит свой путь к Небу.
Горлодёр
Иерей Никитин крутил на кухне горлодёр. Руки механически опускали нарезанные томаты в жерло мясорубки, в миску сочилась кровь овощей. Взгляд иерея был устремлён за окно, где безумствовал осенний ветер. Он швырялся листьями, раскачивал бледное солнце и, гоняя крикливых ворон, сбивал с курса неуклюжие тучи.
На очередной дольке чеснока его настигли странные глаголы…
Задумчиво поскрипывая, ручка мясорубки выводила на пропитанной острыми запахами кухне:
Сентябрь поедают помидоры,
чтоб съеденными быть зимой,
и пусть закрыто небо пеленой,
вампиров не боятся иереи.
Последняя строка вертелась заевшей пластинкой и не хотела останавливаться.
А из Евангелия на подоконнике, хитро выглядывала довольная Марфа.
Жили-были. Сантехник
Жил-был сантехник. Пил, курил и матерился. Но в душе был добрым.
Он вёл размеренную жизнь: в будни после работы резался в домино, в выходные – нарезался. Предпочитал «Жигулёвское» «Балтике» и болел за «Спартак». Руки откуда надо росли. Жена его терпела. Дни капали, словно вода из крана – потихоньку.
Но вот стали замечать: что-то не то с сантехником. Играет рассеянно, «Рыба!» не кричит и даже выходные игнорирует. Но шила в мешке не утаишь. Заприметили его ночью на балконе с длинной трубой. Поскребли щетинистые подбородки. В субботу усадили на скамейку, налили водки по рубец и давай пытать – колись, корешок. Сантехник опрокинул стакан, вытер усы рукавом и начал, как на духу.
– Да что рассказывать? Отправили по вызову. Как всегда, проволынил. Пришлось по темноте тащиться к чёрту на кулички. Открывает дед. Борода до пупа. Халат в драконах да в звёздах. На голове колпак. Дед хоть и древний, но бодрый. Улыбается. Двигаем на кухню. Мать моя женщина! Кругом свитки, приспособы всякие, книги не наши, кожаные. Ну точно в сказку попал! Товарищ на кран показывает, говорит, в магловских вещах ничего не смыслит. Так и сказал – магловских. Мне-то что за дело, прикалывайся сколько влезет.
– Наверняка крендель из театра, – вставил кто-то из мужиков. – Репетировал, поди.
– Этого я не знаю, – ответил сантехник, наливая пиво. – Короче, пока менял прокладку, дедок чаёк сварганил, к столу пригласил. Сели. Трёшь-мнёшь, разговор завели. Спрашиваю, из какого музея посуда и вся эта канитель. Он сначала аж бровями задвигал, а потом как давай ржать. Прям до слёз. Какой, говорит, музей? Из этих чашек ещё его прабабка пила. И вообще он не местный. Он, как его там… алхимик. И ну втирать про какой-то камень философский. Про пацана, который выжил. Вроде как не должен был выжить, а вот умудрился-таки. Тут я, честно скажу, не догнал. И да!.. За этим пацаном какой-то хрен гоняется, которого почему-то нельзя называть.
– Педофил, – снова вставил приятель.
– Оборзели…, – ругнулся другой.
– Там другая тема, – затянулся сигаретой сантехник. – Фламель говорит, пойдём.
– Кто?
– Фамилия у этого деда – Фламель. Зовут Николас.
– Еврей, что ли?
– Да разберись тут! Не картавил вроде.
Короче, поднялись на чердак. Прямо из кухни. Он там какой-то палочкой поводил – дверь нарисовалась. На стене. Прикинь! Мы туда. А там – телескоп! Буковки, значки всякие. Я, братцы, как глянул… Ядрён батон! Про всё забыл. Напрочь! Созвездия как живые, звёзды ниточками соединены. Золотыми! А Фламель наизусть шпарит: Кассиопея, Андромеда, Орион… Ух!
Сантехник отставил стакан. Замолчал. Взгляд его блуждал по небу, по губам ходила улыбка.
Мужики переглянулись, толкнули в бок:
– Дальше-то чё?
– А? Ничего. Пришёл к Николасу через пару дней, как сказано было. Он мне и подарил.
– Что подарил?
– Телескоп! Размером поменьше, но Млечный Путь – близёхонько, хоть ныряй.
И ещё долго вещал сантехник о светилах и галактиках. Все слушали, отложив сигареты и пиво. А где-то неподалёку спасал философский камень мальчик, который выжил.
Жили-были. Поэт
Жил-был поэт. Так случилось, что от него ушла муза. И не куда-нибудь, а к соседу-инженеру этажом выше. Теперь инженер настойчиво выводил Баха на стареньком баяне. Когда Бах пробирался на кухню, поэт упирал подбородок в ладонь (точь-в-точь как лорд Байрон на картине Уэстолла) и романтично устремлял взор в окно. «Ничего, – изрекал поэт, – обойдёмся. На коленях приползёт – не открою. Нет, я не Байрон, я – крутой…»
Но муза не приползала, стихи не приходили. Поэт начал пытаться начать спиваться. Аккуратно разбавлял ром колой, джин тоником и заедал текилу солью. Принимал позу алкоголика и ждал, когда накроет тоска. Не помогало. Крепкие напитки он не любил.
По ночам ворочался на широкой кровати, мял одеяло и считал баранов, одним словом – мучился. Но если долго мучиться… «Эврика!» – как-то под утро вскричал поэт, погрозил пальцем соседу и уснул сном младенца.
Вечером поэт вернулся домой с кипой объявлений. «Требуется муза, – было напечатано на дорогой бумаге. – Морально устойчивая, без вредных привычек. Ветреных особ просьба не беспокоить. Оплата сдельная». Когда он обклеил на районе столбы и подъезды, то позволил себе гаванскую сигару и ром семилетней выдержки. Без колы, разумеется. И без излишеств.
Через пару дней в дверь позвонили.
– Кто там? – спросил, улыбаясь, поэт.
– По объявлению, – ответил приятный мужской голос.
На пороге стоял типчик. Модная причёска, галстук, шикарный костюм. Начищенные туфли ослепительно блестели.
– Строго говоря, речь шла о музе, – начал, щурясь, поэт.
– Вот-вот, именно, – промолвил лучезарный посетитель. – Я и есть муз.
– Простите, любезный, как вы сказали?
– Муз!
Глаза искрились, жемчуг ровных зубов матово переливался.
– О, вы, наверно, о моём виде, – спохватился визитёр, оглядывая своё великолепие. – Действительно, непривычно. Но, поверьте, туники, веночки – это уже архаика. Мы рассекаем волны нынешних времён, пусть прошлое теряется в тумане. Кстати, последнее можно уже записать.
Щёлкнул замочек кожаного портфеля, и гость протянул арт-блокнот с импрессионистами на обложке.
– Премного благодарен, – смешался поэт, – но я…
– Ах, половая принадлежность, – кивнул понимающе муз. – Поэзия выше предрассудков. Вы, как современный поэт, должны быть толерантны. Бесспорно: мужчину по-настоящему может вдохновить только мужчина. Не так ли, мой друг?
– Никакой я не друг! – вскричал поэт. – И вообще, вам этажом выше!
Но едва он захлопнул дверь перед вдохновителем мужчин, как раздался звонок. Брови поэта клином устремились к переносице…
Бритый мужик, похожий на шкаф, выскочил, словно чёрт из табакерки. Чиркнул глазками, метнулся по комнатам.
– Один? – прохрипел он.
– Извините, а вы, собственно, кто? – поэт чувствовал, как по спине катятся струйки пота.
– Конь в пальто. Девочку заказывал?
– Вы имеете в виду музу?
– Я пока никого не имею, – бритый сверлил поэта мутным взором. – Короче, бабки вперёд, и можешь налегать на плуг. Ровно час. Эй, муза, покажись-ка нашему пахарю.
В дверном проёме возникло нечто размалёванное, жующее, непонятного возраста.
Поэт опустился на пуфик.
– Я тут ни при чём, – пролепетал он.
– Дуру не гони. Твоё? – бритый сунул под нос поэту объявление. – Слышь, баклан, я чё, зря через весь город пёрся?
– Там ошибка, понимаете. Опечатка. Вам выше надо. Слышите?
– Ну, слышу. Ну, баян. И чё?
– Вот-вот, именно туда и нужна муза, – ворковал поэт. – Может быть, даже не одна. Смекаете, дружище?
– А ты толковый. У самого-то баян нигде не завалялся? Гляди, деваха – мастерица, настроит в один мах.
– Да ну, что вы. У меня ни слуха, ни голоса.
– Ладно, не пыжься, – человек-шкаф закрыл за собой дверь.
Поэт выдохнул. Но тут снова позвонили. На этот раз он бесшумно повернул в замке ключ и прокрался на кухню. Звонок не умолкал. Поэт достал ром, стакан, потянулся за льдом, но тут его словно что-то кольнуло. По-шпионски отодвинул занавеску. У подъезда шумела толпа. Люди препирались, ссорились за место в очереди, хвост которой тянулся вдоль дома и заворачивал за угол. Ветер трепал объявления в руках.
Сверху тихонько спустился Бах. Заглянул в окно, виновато улыбнулся и исчез в вечернем сумраке
Жили-были. Певец
Жил-был певец. Эстрадный, популярный. Завидовал певцам оперным и не любил неэстрадных: рокеров, бардов, рэперов. Те платили ему тем же – обзывали фонограмщиком, а то подбирали словцо и покрепче. Певец на эти выпады никак не реагировал, продолжал собирать полные залы и всегда уезжал с охапкой цветов.
Иногда ему снился один и тот же сон. Сцена, огромные динамики, энергия тысяч людей плещется, словно грозное море. Он в свете прожекторов. На руках браслеты, на плечах татуировки, майка облегает тело. Голос… Фредди Меркьюри – просто мальчик. А когда пальцы касаются струн, Ричи Блэкмор нервно курит в стороне. Барабанщик лупит так, что не видно палочек. Фейерверки, дым, лицо в потных подтёках на экране. Но вот следует бешеная гитарная кода. Очередной хит брошен в темноту зала. Публика неистовствует, громко скандируя его имя…
После такого сна певец долго приходил в себя. Делился впечатлением с личным парикмахером, но тот всё переводил в шутку, делал укладку и напомаживал волосы. Певец немного успокаивался. Потом шли продюсеры, рекламные агенты, композиторы… Сновидение вроде как выветривалось.
Хуже всего было на гастролях. Тут не помогали ни записки поклонниц, ни долгие ужины в ресторанах. Проснувшись, он чувствовал, как напряжены его голосовые связки. Это не мешало выступлениям, но оставляло какой-то горький привкус.
Обычно сон заканчивался на какой-нибудь песне. Но иногда он уводил за кулисы…
…За спиной ревёт зал. Группа спешит к выходу. Завтра их ждёт новый город. Клавишник и барабанщик о чём-то громко спорят. Эх, молодость… За окном мельтешат огни, но он слишком устал, чтобы разглядывать незнакомые улицы. Скорее в номер, там душ, кресло, пиво в холодильнике. В голове крутятся новые строки.
Просто вытянуть ноги – кайф! Он набрасывает в блокнот то, что пришло в машине. Звонит домой. Улыбается; где-то там лица жены, дочери… А за стеной бурно проводит ночь барабанщик-сосед. Приходится дубасить в стену ботинком.
Кровать принимает тело, глаза закрываются. И снова – блестящий костюм, гладкие волосы, на лице слой макияжа. Вокруг изгибаются жутко накрашенные девицы. Их таскают по сцене такие же размалёванные парни. Но самое ужасное – голос. Неживой, чужой, фальшивый. А из динамиков льётся приглаженный, отшлифованный…
Он резко поднимается, отбрасывает одеяло. Сердце, кажется, выпрыгнет из груди. Трогает небритую щеку. «Фу!» – облегчённо выдыхает, падает на подушку и мгновенно засыпает, не обращая внимания на шум за стеной.
Запой
Каждой осенью иерей Никитин уходил в запой. Уходил тихими стопами, едва касаясь земли.
Всё начиналось на скамейках в скверах. Иерей доставал из кармана позаимствованный у минусинского отца-поэта бумажный стаканчик и замешивал любимый коктейль – сентябрьский: порыжевшее дно фонтанов, усыпанные сушью газоны и немного тёплого ветра. Причём ветер должен скользить по листве, но не обрывать. Коктейль медленно втягивал Никитина, оставляя на поверхности только поседевшее иерейское темя.
Дальше запой продолжался на даче. Тут уже всё было по-взрослому. Иерей садился в особое кресло на веранде и принимался за настойку из осинового трепета и рябиновый джин со сполохами. Для разогрева шёл еловый эль. Где-то рядом кружились странные глаголы.
Не брезговал иерей и самогоном. Первач, выгнанный из низко-ползущих тяжёлых облаков и сосновых иголок с добавлением холодных дождевых капель, заходил в душу очень даже ничего. Особенно в сумерках.
Но лучше всего иерея утешал листопадный виски. Его надо пить медленно, только днём, смакуя каждый глоток.
Обычно на второй день к иерею Никитину приходила Мария. Она молча садилась рядом и добавляла в стаканы благую часть, которую когда-то избрала. Марфа недовольно косилась на иерея и сестру. Вытирая несуществующую пыль с обложки Евангелия, что-то бурчала себе под нос. Впрочем, беззлобно.
Грани. Автобус. Девушка. Сентябрь.
Осенью всегда сходишь с ума. Ровно настолько, чтобы видеть мир чуть-чуть другим, нереальным. Или наоборот? В сентябре он открывается всамделишным, а всё остальное время года закрыт от суетных взглядов? Когда удаётся, я брожу по улицам. Целый день. Без цели. Для меня это лоскуток счастья. Хотя кому-то нужно всё одеяло. Но сейчас не об этом.
Ноги гудят, и я борюсь с искушением сесть в автобус. Ушёл мой маршрут – один, другой… Словно облетевший тополь, я врос в остановку. Кругом размытые пятна лиц. Будь я художником, так бы и написал их быстрыми широкими мазками на фоне умирающих листьев. Но чётко бы прочертил тонкие линии плотно сжатых губ.
С шумом открываются двери. Выходят пассажиры. На сиденье прямо предо мной девушка нашего прихода. Не замечает меня. Да и не только меня. Вокруг никого нет. Исчезли. Так она погружена в себя, и только лёгкая улыбка колышется на ветру, вот-вот оборвётся. Кто вылепил эту печальную фигуру? Задумчивое лицо, глаза, переполненные грустью? Как странно – улыбка и грусть среди этих пыльных окон, поручней…
Двери закрываются. Вслед за автобусом по асфальту бежит листва. Так и будет бежать до самого её дома? Что там? Скрипучая дверь. Вахтёрша, уткнувшаяся в телевизор, шумные соседи за перегородкой. Общая кухня, и завсегдашний тусклый свет. И где-то в конце коридора (почему-то кажется, что именно в конце) её комната.
Я не знаю, что такое жить в общежитии. И не знаю, что такое жить в одиночестве. Но я столько раз слышал, как одиночество невыносимо и ненавистно. Не только для девушек. И не только в общежитии.
Иду домой. К жене и детям. В свою комнату – уютную, любимую. Иду к книгам. Столько исписано страниц о мировой скорби, палой листве и поисках смысла. Когда-то будет новое небо и новая земля, а пока сентябрь заботливо укрывает этот мир от суетных взглядов.
Грани. Краевед
Наконец-то я вырвался из бетонного муравейника с его гулом, тяжёлым воздухом и вечной толкотнёй. Мчимся на всех парусах по асфальтовой реке, разбрызгивая октябрьскую грязь. Дорога серым клином рассекает тайгу. Наш путь лежит в городок, потерявшийся где-то в этих угрюмых лесах.
Время летит незаметно, и вот лес редеет, уступает место серым пятиэтажкам вперемежку с деревянными хибарами, тесным улицам, напоминающих руки старух. Новостроек не видно. Зато никакой суеты и спешки, как в старом чёрно-белом фильме. По навигатору находим библиотечный колледж – там проходит литературный фестиваль.
Колледж напоминает улей. Из пыльцы цветов-книг тут готовят мёд – словесный.
После встречи со студентами нас ждёт литературное кафе. С чаем, стихами, гитарой и острыми, как верхушки здешних ёлок, вопросами.
Я сижу за одним столиком с местным краеведом – человеком, наделённым талантами писателя и художника. На вид за пятьдесят, высокий лоб, мягкие неброские черты. Если охарактеризовать одним словом – негромкий. Отвечает, когда спрашивают. Говорит тихо, размерено, будто складывает мозаику. С последней фразой возникает объёмная картина – чётко прорисованная, ничего лишнего. Он часто шутит, по существу и не зло, но густая печаль в этих умных глазах не вписывается в цельный образ.
На дорогу по русской традиции хлебосольный стол у директора, разумеется, с коньяком – напитком писателей. Мой сосед говорит тосты, вроде как весел, но снова замечаю в его взгляде ту же грусть. Может, это только кажется? Или ему, действительно, не хватает пространства для размаха крыльев? Но кому-то и здесь надо сеять нетленное. Изо дня в день. Судьба? Крест? Подвиг смирения? «…чтобы спасти по крайней мере некоторых». Снова увожу вопросы домой.
Ершистый пейзаж уже примелькался и не удивляет. Мы всё ближе к городу, трескучему, суетливому… родному.
Будут написаны новые книги и картины, и вечные семена будут падать в души «некоторых». Мне почему-то видится летняя ночь, звёздное небо, костерок на окраине. Тесным кружком сидят молодые, слушая человека с ясными глазами. Танцует приручённое пламя. Человек осторожно разворачивает свиток… негромко звучит новая повесть временных лет о былом и корнях…
Что-то фантазия сегодня разыгралась. Оно и понятно – осень.
Грани. Старый фонарь
Перед тем как мне зайти к больной, родственница вынесла туалетное ведро. «Подождите, я подготовлю бабушку», – виновато улыбнулась, прикрыла дверь. В тёмном коридоре звучно тикали часы.
Комната напоминает вытянутый шкаф. Стул под грудой тряпья, тумбочка, заставленная склянками, кровать с железными набалдашниками – вот и всё. В изголовье окно с двойными рамами. Между стёкол сереют лохмотья ваты. За окном мокнет старый фонарь. Он точно заглядывает в комнату, пропитанную запахом чахлой плоти.
Я располагаюсь на подоконнике: икона, дароносица, плат. Прошу кипячёной воды. Открываю требник.
За фонарём виднеются гаражи, высокий бетонный забор, железнодорожные пути. Тополя роняют первые листья.
Женщина сидит, низко опустив голову. Морщинистые ладони сложены в замок. Наспех завязанный платок сбился. Покрывало сползло с плеча и обнажило дряблую грудь. Спрашиваю имя, начинаю читать молитвы.
Она медленно качается в такт какого-то своего ритма. Где она сейчас? В нашем мире? В своём?
Осторожно начинаю исповедь. «Каюсь, каюсь», – отвечает больная… На клеёнку, словно горячий свечной воск, медленно падают капли.
– Всех прощаете?
– Прощаю, прощаю, – чуть слышится снизу.
Накрываю её голову епитрахилью. Потом складываю крестообразно руки для принятия Христовых Тайн. Теперь я вижу её лицо, глаза…
Фонарь, кажется, с интересом наблюдает за происходящим. Похоже, это её единственный собеседник. Когда закрывается на ночь дверь, он мирно светит в окно. Она же, слушая мерный ход поезда, погружается в прошлое. А эту комнату, старую кровать и даже ведро-стульчак несёт на пробитых гвоздями руках Тот, Кто только что вошёл в эту умирающую плоть, наполнил Светом, навеки приобщив к Себе…
Но знает ли она? Всё откроется позже.
Я убираю Святые Дары, зову родственницу. Голое тело снова уложено, укрыто, платок снят. И мне думается, что с последним вздохом этой женщины, погаснет и ржавый фонарь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?