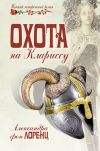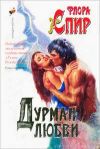Текст книги "Миссис Дэллоуэй. На маяк"

Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Милли, принеси-ка бумаги.
Мисс Браш вышла, вернулась, разложила бумаги на столе, и Хью достал перьевую ручку – серебряную ручку, которая прослужила ему двадцать лет, заметил он, снимая колпачок. Все еще в прекрасном состоянии – он показывал ее производителям, и те заверили, что она может служить вечно, в чем заслуга и его, и тех умонастроений (как полагал Ричард Дэллоуэй), которые он принялся аккуратно выводить большими буквами, расставляя кружочки на полях, и чудесным образом облек сумбурные чувства леди Брутон в стройные мысли, обуздал их правилами грамматики, что редактор «Таймс» наверняка оценит, подумала леди Брутон, наблюдая за дивным превращением. Хью не торопился. Хью был упорен. Ричард сказал, что придется рискнуть. Хью предложил внести кое-какие изменения, чтобы уважить чувства публики, которые, сварливо добавил он в ответ на смех Ричарда, «следует принять во внимание», и прочел вслух: «в связи с этим мы придерживаемся мнения, что настало время… излишки молодежи среди нашего постоянно растущего населения… чем мы обязаны нашим павшим…», Ричард обозвал его сентенции пустословием и чушью, хотя особого вреда в них не увидел, конечно; Хью продолжил взывать к лучшим чувствам, кои перечислял в алфавитном порядке и стряхивал сигарный пепел с жилета, периодически подводя итог их достижениям, пока наконец не зачитал черновик письма целиком. Леди Брутон сочла его шедевром – разве смогла бы она до такого додуматься?
Хью не ручался, что редактор это напечатает, но пообещал переговорить кое с кем за обедом.
После чего леди Брутон, к изящным жестам обычно не склонная, запихала гвоздики за корсаж, всплеснула руками и воскликнула: «О, мой премьер-министр!» Она не знает, что делала бы без них обоих. Гости встали. Ричард Дэллоуэй, по обыкновению, подошел к портрету генерала, потому что собирался как-нибудь на досуге написать историю семьи леди Брутон.
Миллисент Брутон очень ею гордилась. Подождут, заверила она и поглядела на портрет, имея в виду свою семью, состоявшую из военных, чиновников, адмиралов – людей дела, исполнявших долг; ведь первый долг Ричарда – служить своей стране; что за прекрасное лицо, заметила она, а бумаги для Ричарда готовы, ждут в Олдмикстоне, когда настанет подходящий момент, то есть придет к власти лейбористское правительство.
– Ох уж эти события в Индии! – воскликнула она.
Затем, уже в холле, забирая свои желтые перчатки из вазы на малахитовом столике, в порыве совершенно ненужной любезности Хью пытался вручить мисс Браш лишний билетик или другое подношение, что возмутило ее до глубины души и заставило густо покраснеть, Ричард обратился к леди Брутон, держа шляпу в руке, и сказал:
– Мы увидим вас сегодня на приеме?
И леди Брутон вновь обрела царственность, утраченную во время составления письма. Возможно, придет, возможно, и нет. Кларисса удивительно энергична. Леди Брутон обожает приемы, но уже стареет, призналась она, величаво стоя в дверях. Позади нее потягивался чау-чау и поспешно удалялась с кипой бумаг мисс Браш.
Грузно ступая, леди Брутон с величественным видом поднялась к себе в комнату, легла на диван и вытянула руку. Она вздыхала, всхрапывала в полудреме, отяжелевшая и сонная, словно клеверный луг жарким июньским днем, луг со снующими пчелами и порхающими желтыми бабочками. Она всегда вспоминала родной Девоншир, где прыгала через ручьи на лошадке Пэтти со своими братьями Мортимером и Томом. Собаки гонялись за крысами, отец с матерью пили чай на лужайке под деревьями, на клумбах росли георгины, мальвы и пампасная трава; и детишки, маленькие сорванцы, вечно устраивали какие-нибудь проказы, а потом тихонько пробирались через кусты, перепачканные с головы до ног. Как же старая няня бранилась из-за испорченного платья!
Боже мой, вспомнила леди Брутон, сейчас ведь среда, я на Брук-стрит. Эти добрые, славные малые, Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбред, пришли по жаре, по шумным улицам, чей гул доносится и сюда. У нее есть власть, положение, доход. Она живет в авангарде своей эпохи. У нее хорошие друзья, она знакома с самыми видными современниками. Журчание Лондона обвило ее потоком, рука, лежавшая на спинке дивана, сжала воображаемый жезл в память о героических предках, и леди Брутон, отяжелевшая и сонная, повела батальоны в Канаду, а тем временем два славных малых шли по Лондону, по своей территории, по пестрому ковру, по Мэйфэру.
Уходят все дальше и дальше, соединенные с ней невидимой нитью (с тех пор как у нее отобедали), которая тянется и тянется, становится тоньше и тоньше по мере того, как они удаляются; словно друзей связывает с ее телом тонкая нить, которая (леди Брутон начинала дремать) разбухает от звона колоколов, отбивающих час или зовущих на службу; паутинка мокнет под дождем и провисает. И она заснула.
Ричард Дэллоуэй и Хью Уитбред замешкались на углу Кондуит-стрит как раз в тот момент, когда лежащая на диване Миллисент Брутон оборвала связующую нить и захрапела. Джентльмены заглянули в витрину ближайшего магазина: ни покупать, ни разговаривать не хотелось: нахлынули приливные волны, на углу улицы столкнулись две силы, утро и вечер, и они застыли. Ветер подхватил газетный плакат, тот взмыл отважным воздушным змеем, потом замер, спикировал, затрепетал тонкой вуалью. Желтые навесы задрожали. Уличное движение замедлилось, по полупустым улицам беспечно грохотали редкие повозки. В Норфолке, где отчасти витали мысли Ричарда Дэллоуэя, мягкий, теплый ветерок ерошил лепестки цветов, рябил воды, трепал цветущие травы. Косари, прилегшие отдохнуть после утренней страды под живыми изгородями, раздвинули зеленую завесу, убрали в стороны дрожащие зонтики купыря, чтобы не заслоняли небо – ярко-синее, безоблачное летнее небо.
Поймав себя на том, что смотрит во все глаза на яковетинскую кружку с двумя ручками, а Хью Уитбред с видом знатока снисходительно восхищается испанским ожерельем, о цене которого решил справиться на случай, если оно понравится Эвелин, Ричард никак не мог выйти из ступора. Жизнь выбросила на витрину эти обломки кораблекрушения, и он стоял, охваченный летаргией былого, его непреодолимостью. Возможно, Эвелин Уитбред захочет купить это ожерелье – вполне возможно. А ему хочется зевнуть. Хью устремился в магазин.
– Так и быть, – вздохнул Ричард, входя следом.
Видит Бог, он не собирался покупать ожерелье с Хью, но утро встретилось с вечером, приливная волна потащила его за собой. Прадеда леди Брутон с его мемуарами и кампаниями в Северной Америке опрокинуло и потянуло на дно, словно утлую шлюпку в глубоких водах. Миллисент Брутон отправилась туда же. Ричард плевать хотел на эмиграцию, на письмо, на редактора «Таймс». Хью восхищенно растянул ожерелье на растопыренных пальцах. Если хочется купить какую-нибудь ерунду, пусть подарит девушке – любой девушке с улицы. Никчемность жизни внезапно поразила Ричарда до глубины души – к чему покупать украшения для Эвелин? Будь у него сын, он сказал бы: работай, работай. Но у него Элизабет – он обожает свою Элизабет.
– Я желаю видеть мистера Дюбонне, – проговорил Хью в своей обычной светской манере. Похоже, этот Дюбонне знал размер шеи миссис Уитбред или, что еще более странно, отношение клиентки к испанским драгоценностям и коллекцию ее украшений (в отличие от самого Хью). Все это чрезвычайно поразило Ричарда Дэллоуэя, который никогда не дарил Клариссе подарков, не считая браслета два или три года назад, принятого без особого восторга. Она не надела подарок ни разу. Это ранило. Как нить паутины, полетав на ветру, прицепляется к листу, так и мысли Ричарда, оправившись от сонливости, теперь сосредоточились на жене, в которую некогда был так страстно влюблен Питер Уолш. Ричард вспомнил о ней еще за ланчем, думал о себе и о Клариссе, об их совместной жизни. Придвинув поднос со старинными драгоценностями, он взял сперва брошь, потом кольцо, спросил, сколько что стоит, но тут же усомнился в своем вкусе. Ему хотелось войти в гостиную с подарком. Что же выбрать? Тем временем Хью тоже оклемался и неимоверно заважничал. В самом деле, он отоваривается у них уже тридцать пять лет и не потерпит проволочек из-за мальчишки, который ничего не смыслит в торговле. Похоже, Дюбонне отлучился, а Хью не собирался ничего покупать, пока тот не вернется. В ответ юнец вспыхнул и коротко поклонился. Он совершенно в своем праве. Ричард в жизни бы такого не сказал! И почему люди мирятся с подобным хамством? Хью совершенно невыносим. Ричард Дэллоуэй не мог терпеть его общества больше часа. Взмахнув на прощание шляпой, Ричард повернул на углу Кондуит-стрит, горя желанием поскорее, да, поскорее, пуститься в путь по паутинной ниточке привязанности, протянувшейся между ним и Клариссой. Он пойдет прямо к ней, в Вестминстер!
Но войти ему хотелось не с пустыми руками. Цветы? Да, цветы, поскольку на свой вкус в выборе драгоценностей он не полагался; любые цветы – розы или орхидеи, – чтобы отметить, так сказать, событие: чувство к жене, возникшее во время разговора о Питере Уолше за ланчем; к тому же они не говорили о чувствах никогда, точнее, много лет, что было, подумал Ричард, сжимая красные и белые розы (огромный букет в папиросной бумаге), самой главной ошибкой. Настает время, когда не можешь сказать – слишком стесняешься, думал он, кладя в карман шестипенсовик-другой сдачи и устремляясь с букетом прямиком в Вестминстер, чтобы протянуть Клариссе цветы (пусть думает, что хочет) и сказать: «Я тебя люблю!» Почему бы и нет? На самом деле это настоящее чудо, если вспомнить о войне, о тысячах бедных парней, сваленных в общие могилы в расцвете сил, теперь почти всеми позабытых; настоящее чудо. А он идет по Лондону, чтобы подробнейшим образом рассказать Клариссе о том, как ее любит. О таком не говорят никогда, думал он. Отчасти от лени, отчасти от застенчивости. И вообще, Кларисса… постоянно думать о ней трудно, разве что урывками, как за ланчем, когда у него перед глазами возникла и она, и их совместная жизнь. Ричард Дэллоуэй остановился на переходе, твердя себе – по натуре он был человек простой, чуждый излишествам и порокам, потому что любил погулять пешком и пострелять, в палате общин упорно защищал права обездоленных и неукоснительно следовал своим принципам, но с годами стал немногословным и даже слегка зажатым – твердя, что женился на Клариссе просто чудом и вся его жизнь – сплошное чудо, думал он, медля на переходе. Стоило ему увидеть, как детишки пяти-шести лет идут через Пикадилли без взрослых, как кровь его вскипела. Полицейскому следовало остановить движение! Иллюзий насчет лондонской полиции он не питал и даже собирал свидетельства ее нерадивости, к примеру, попустительство зеленщикам, которым не разрешалось ставить свои тележки на улицах, проституткам – видит Бог, он осуждал не этих бедняг и не молодых людей, а гнусное устройство английского общества, – и обо всем этом размышлял седеющий, элегантный, честный и дотошный Ричард Дэллоуэй, идущий через парк к своей жене, чтобы сказать, как ее любит.
Он войдет и подробно ей расскажет. Какая жалость – никогда не говорить о том, что чувствуешь, думал он, пересекая Грин-парк и с удовольствием наблюдая, как целые семьи, семьи бедняков, устроились в тени деревьев – детишки болтают ногами, сосут молоко, повсюду разбросаны бумажные пакеты, собрать которые ничего не стоит толстым служителям в ливреях (если бы публика возмутилась); Ричард придерживался мнения, что в летнее время все парки и скверы должны быть открыты для детей (трава выгорела, пожухла и теперь подсвечивала лица бедных вестминстерских матерей и ползающих младенцев, словно лампа желтого света). Но как помочь бродяжкам вроде той несчастной, что раскинулась на лужайке, оперевшись на локоть (свободная от любых уз, взирает вокруг с интересом и без лишнего смущения размышляет, прикидывает, что да как, нахальная, болтливая, остроумная), он решительно не знал. Заслонившись букетом, как щитом, Ричард Дэллоуэй прошел мимо, и между ними пробежала искра – женщина рассмеялась, он добродушно улыбнулся, продолжая размышлять о бродяжничестве – хотя заговорить с ней не решился бы никогда. Зато он подробно расскажет Клариссе, как ее любит. Давным-давно он завидовал Питеру Уолшу, ревновал к нему Клариссу. Она не раз повторяла, что поступила совершенно правильно, отказав Питеру Уолшу. Зная Клариссу, сомневаться в ее искренности не следовало, но и ей бывает нужна поддержка. Она вовсе не слабая, просто ей хочется поддержки.
Что же касается Букингемского дворца (стоит как старая прима перед публикой, весь в белом), то он по-своему заслуживает уважения, заметил Ричард, ведь для миллионов людей (у ворот в ожидании выезда короля собралась небольшая толпа) он является символом, каким бы нелепым ни был – ребенок с коробкой кубиков и то построил бы лучше, подумал он, глядя на мемориал королеве Виктории (которую помнил в роговых очках, едущей по Кенсингтону), на постамент белого мрамора, на пышные формы олицетворения материнства; впрочем, ему нравилось быть подданным потомков легендарного Хорса, ему нравилось ощущать преемственность и блюсти верность традициям. Великая эпоха, что и говорить. В самом деле, жизнь – истинное чудо, и на этот счет не стоит заблуждаться: сейчас он в расцвете сил, идет к себе домой в Вестминстер сказать Клариссе, что любит ее. Это и есть счастье, подумал Ричард Дэллоуэй.
Это и есть счастье, повторил он, входя на зеленую лужайку Двора декана. Биг-Бен начал бить, сперва мелодично – вступление, потом решительно – час. Светские ланчи отнимают столько времени, подумал он, подходя к своей двери.
Трезвон Биг-Бена заполнил всю гостиную, где за письменным столом сидела издерганная и раздосадованная Кларисса. Само собой, она не пригласила на прием Элли Хендерсон, и не просто так! А теперь миссис Маршэм пишет, что обещала Элли Хендерсон узнать насчет нее у Клариссы, ведь Элли так хочется прийти.
Почему она должна звать на свои приемы всех самых скучных женщин Лондона? И какое до этого дело миссис Маршэм? Вдобавок Элизабет все сидит взаперти с мисс Килман. Ничего более муторного нельзя и представить! Молиться в такой чудесный день с той женщиной… И вдруг дверной звонок заполнил гостиную печальной волной, та отступила и обрушилась вновь, затем раздались звуки возни и царапанье по двери. Кто бы это мог быть в такое время, рассеянно подумала Кларисса. Благие небеса, три! Уже три! С властной прямотой и достоинством часы пробили три, заглушив все прочие звуки, ручка повернулась и вошел Ричард! Вот так сюрприз! Ричард протянул Клариссе цветы. Однажды в Константинополе она его подвела, а леди Брутон, чьи званые ланчи слывут презабавными, ее не позвала. Он принес цветы – красные и белые розы. (Но так и не смог сказать, что любит, хотя и собирался.)
Как мило, обрадовалась Кларисса, принимая букет. Она поняла, поняла без слов! Она поставила цветы в две вазы на каминной полке. До чего прелестные! Ланч удался? Леди Брутон про нее спрашивала? Питер Уолш вернулся. Миссис Маршэм написала. Позвать Элли Хендерсон или нет? Та женщина, Килман, наверху.
– Давай присядем, – предложил Ричард.
Гостиная казалась пустой. Стулья придвинули к стене. Чем они тут занимались? Ах да, прием; нет, он не забыл про прием. Питер Уолш вернулся. Ах да, он приходил. Собирается развестись – влюблен в какую-то женщину, не здешнюю. И ничуть не переменился. Она сидела тут, чинила платье…
– Мы вспоминали Бортон, – сказала Кларисса.
– На ланче был Хью, – сообщил Ричард. И с ним она виделась? Хью становится совершенно невыносим. Покупает Эвелин ожерелья, совсем расплылся, ведет себя как осел!
– Ни с того ни с сего мне подумалось: я чуть не вышла за него замуж, – сказала она, думая о том, как Питер сидел перед ней с бабочкой на шее, играл перочинным ножом. – Совсем не изменился, ну ты его знаешь.
За ланчем о нем говорили, признался Ричард. (Но так и не решился сказать жене, что любит. Он взял ее за руку. Это и есть счастье, подумал он.) Вместе писали письмо в «Таймс» для Миллисент Брутон. Вот и все, на что годится Хью.
– А как наша дорогая мисс Килман? – спросил он.
Кларисса подумала, что розы просто чудесные, хоть в одном букете, хоть расставленные по цветам.
– Килман нагрянула, едва мы закончили ланч. Элизабет краснеет, и они закрываются наверху. Полагаю, чтобы помолиться.
Господи! Ему это совершенно не нравится, но подобные увлечения проходят сами собой, если не обращать на них внимания.
– В макинтоше и с зонтиком, – уточнила Кларисса.
Не сказал, что любит, зато взял ее за руку. Это и есть счастье, думал Ричард, это оно и есть.
– Почему я должна приглашать к себе всех самых скучных женщин Лондона? – воскликнула жена. Понравится ли миссис Маршэм, если Кларисса позовет гостей на ее прием?
– Бедная Элли Хендерсон, – вздохнул Ричард, поражаясь, как серьезно Кларисса относится к своим приемам.
Ричард даже не заметил, как теперь выглядит гостиная. Впрочем, что он там говорил?
Если Кларисса так тревожится из-за своих приемов, лучше их вообще не устраивать. Жалеет ли она, что не вышла за Питера? Ладно, пора идти.
Нужно идти, сообщил он, вставая. Но все медлил, словно собирался что-то сказать, и она гадала, что именно. Почему? Он принес розы.
– В комитет? – спросила она, когда муж открыл дверь.
Ричард помянул то ли армян, то ли албанцев.
Людям присуще чувство собственного достоинства, любовь к уединению, думала Кларисса, и даже между мужем и женой – целая пропасть, которую следует уважать. Никто не расстанется с ними добровольно и не лишит их своего мужа, ведь иначе утратишь и независимость, и самоуважение, которые поистине бесценны.
Ричард вернулся с подушкой и одеялом.
– После ланча полагается час полного покоя, – напомнил он и ушел.
Ричард в своем репертуаре! Он до скончания времен будет твердить про час полного покоя после ланча, потому что так когда-то велел доктор. Как на него похоже принимать советы докторов буквально – отчасти в этом проявляется его восхитительная, неподражаемая, божественная простота, благодаря которой он идет и занимается своими делами, а не тратит время на пустые препирательства, как некогда они с Питером. Он уже на полпути в палату общин, пошел к своим армянам или албанцам, оставив ее отдыхать на диване и смотреть на розы. Люди скажут: Кларисса Дэллоуэй избалованна. Ее больше заботят розы, чем армяне. Гонимые, искалеченные, холодные, голодные, жертвы несправедливости и жестокости (Ричард говорил об этом не раз) – нет, к албанцам (или армянам?) она не питает ровным счетом никаких чувств (да и как им это поможет?), то ли дело розы – единственные цветы, которые хороши в срезанном виде. Ричард отбыл в палату общин или в комитет, разрешив все ее трудности. Нет, неправда – он так и не понял, почему она не хочет приглашать Элли Хендерсон. Конечно, позвать ее придется, раз он сказал. Поскольку он принес подушки, надо прилечь и… Но почему, почему она чувствует себя такой несчастной? Подобно женщине, что уронила нитку жемчуга или бриллиант в траву и теперь осторожно раздвигает высокие стебли, тщетно ищет повсюду и не находит, а потом внезапно замечает потерю у самых корней, Кларисса стала перебирать причины: нет, не мнение Сэлли Сетон, что Ричарду никогда не быть в кабинете из-за скудного ума (почему-то вспомнилось), нет, не то; и не Элизабет с мисс Килман – это всего лишь факты. Какое-то чувство, какое-то неприятное ощущение, возникшее чуть ранее; возможно, реакция на слова Питера в сочетании с хандрой, накатившей в спальне, когда она снимала шляпку, потом Ричард слегка добавил… Но что же он сказал? Вот розы. Ее приемы! Вот оно! Ее приемы! Оба отозвались о них очень несправедливо, смеялись над ней, критиковали ее приемы. Вот! Вот в чем дело!
Что ж, и как себя защитить? Осознав причину своего дурного настроения, Кларисса воспрянула духом. Они считают, по крайней мере Питер считает, что она обожает выставлять себя напоказ, любит вращаться в обществе знаменитостей, великих современников – короче говоря, считают ее банальной выскочкой. Может, Питер так и думает. Ричард просто полагает, что с ее стороны глупо переживать, ведь у нее больное сердце, и считает это ребячеством. И оба совершенно неправы! Она просто любит жизнь.
– Вот почему я этим занимаюсь, – сказала Кларисса вслух, обращаясь к самой жизни.
Лежа в уединении и отрешившись от забот, Кларисса ощутила ее присутствие буквально физически – стоит в одеждах из уличного шума, озаряет комнату солнечными лучами и колышет шторы шепотом горячего дыхания. Предположим, Питер спросил бы: «Да-да, твои званые приемы – в чем же их смысл?» – все, что она смогла бы ответить (вряд ли кто поймет): это мой дар. Звучит ужасно странно! Но разве жизнь Питера – прогулка под парусом при попутном ветре? Питер вечно влюблен, и вечно не в ту женщину. Кого ты любишь? – могла бы спросить Кларисса. Он бы ответил, что любовь – самое главное в жизни, и ни одной женщине никогда этого не понять. Прекрасно! А поймет ли мужчина ее отношение к жизни? Сложно представить, чтобы Питер или Ричард устроили прием просто так, без всякого повода.
Если вдуматься, если отрешиться от людских суждений (насколько они пусты, насколько обрывочны!) и заглянуть себе в душу, что значит для нее жизнь? О, так просто и не объяснишь! Кто-то живет в Южном Кенсингтоне, кто-то – в Бэйуотере или, скажем, в Мэйфэре. И Кларисса непрерывно чувствует, что люди существуют где-то там, поодиночке, и чувствует досаду, жалость и думает: вот бы свести их вместе! И устраивает прием, подбирает и зовет гостей. Это – подношение, но кому?
Пожалуй, просто подношение ради подношения. В любом случае это ее дар. Что еще она может предложить? Ни думать, ни писать, ни музицировать Кларисса не умеет. Путает армян с турками, любит успех, ненавидит тяготы, хочет всем нравиться, болтает чушь без умолку, а спроси ее, что такое экватор, и не ответит. В любом случае день следует за днем – среда, четверг, пятница, суббота, с утра просыпаешься, видишь небо, гуляешь по парку, встречаешь Хью Уитбреда, потом приходит Питер, муж дарит розы – и этого достаточно. И смерть кажется совершенно невозможной – неужели все должно закончиться! – и никто в целом мире не знает, как она любит это все, каждый миг…
Дверь открылась. Элизабет знала, что мать отдыхает, и вошла очень тихо. Правда ли, что лет сто назад на побережье Норфолка потерпел кораблекрушение какой-нибудь азиат (как считает миссис Хилбери) и смешал свою кровь с женщинами из рода Дэллоуэй? В целом Дэллоуэи светловолосые и голубоглазые, Элизабет же – темненькая, с узкими, как у китайца, глазами на бледном лице – по-восточному загадочная, тихая, серьезная, спокойная. В детстве у нее было отличное чувство юмора, но теперь, в семнадцать лет, непонятно откуда пробилось мрачное величие – словно гиацинт с глянцевыми зелеными листьями и едва окрасившимися бутонами, гиацинт, выросший без солнца.
Она стояла неподвижно и смотрела на мать, и дверь была приоткрыта – за нею наверняка маячила мисс Килман в своем макинтоше, ловя каждое слово.
Мисс Килман и в самом деле стояла на лестничной площадке, одетая в макинтош, однако у нее имелись на то свои причины. Во-первых, прорезиненный плащ стоил дешево, во-вторых, ей за сорок, и она вовсе не обязана наряжаться, чтобы радовать глаз. Она была бедна, унизительно бедна. Иначе ей не пришлось бы наниматься к людям вроде Дэллоуэев – к богачам, которым нравится быть добренькими. Справедливости ради, мистер Дэллоуэй действительно добр, в отличие от миссис Дэллоуэй. Та смотрит свысока, ведь происходит из самого никчемного класса – богачка с легким налетом культуры. Дом буквально завален предметами роскоши – картины, ковры, слуг целый штат.
Мисс Килман вовсе не считала, что Дэллоуэи осыпают ее благодеяниями. С ней обошлись подло. Да, вполне подходящее слово. Разве женщина не имеет права на счастье? Она никогда не была счастлива из-за своей неуклюжести и нищеты. Ей выпал шанс в школе мисс Долби, и тут началась война. Лгать она не умела, и мисс Долби решила, что лояльные к немцам учителя ей не нужны. Мисс Килман пришлось уйти. У нее и правда немецкие корни, в восемнадцатом веке фамилия писалась на немецкий манер, но ведь ее брат погиб на войне! Ее выставили, потому что она не хотела признать всех немцев злодеями, ведь у нее были друзья в Германии, ведь там она провела несколько по-настоящему счастливых дней! И в конце концов, она знала историю. Пришлось браться за любую работу. Мистер Дэллоуэй наткнулся на нее у квакеров, в Обществе друзей, предложил давать уроки истории его дочери, что было весьма щедро. Еще она вела занятия в вечерней школе и тому подобное. Потом к мисс Килман явился Господь (тут она всегда склоняла голову). Она узрела свет два года и три месяца назад и больше не завидовала женщинам вроде Клариссы Дэллоуэй. Мисс Килман их жалела.
Она жалела и презирала ее до глубины души, стоя на мягком ковре и разглядывая изображенную на старинной гравюре маленькую девочку с муфтой. При подобной роскоши разве есть надежда на изменения? Вместо того чтоб лежать на диване – «Мама отдыхает», сообщила Элизабет, – шли бы они на фабрику или за прилавок, миссис Дэллоуэй и все прочие светские леди!
Два года и три месяца назад полная обиды и злобы мисс Килман зашла в церковь. Она послушала, как проповедует преподобный Эдвард Уиттекер, как поют мальчики, посмотрела на возжжение светильников, и то ли на нее подействовала музыка, то ли голоса (вечерами, в одиночестве она искала утешения в игре на скрипке, однако звук выходил малоприятный, поскольку слуха у нее не было) – словом, кипевшие в ней бурные страсти улеглись, она пролила обильные слезы и отправилась с визитом к мистеру Уиттекеру домой, в Кенсингтон. Это рука Божья, объяснил он, Господь указал ей путь. И теперь, когда вздымались горячие, болезненные чувства, ненависть к миссис Дэллоуэй, обида на весь мир, мисс Килман думала о Боге и о мистере Уиттекере. Гнев сменялся покоем. По жилам струилась благость, губы раздвигались в улыбку, и, стоя на лестничной площадке в своем макинтоше, она пристально смотрела на миссис Дэллоуэй, которая вышла вместе с дочерью, и излучала зловещую безмятежность.
Элизабет сказала, что забыла перчатки. Все из-за того, что мисс Килман и мама друг друга ненавидят. Она не могла видеть их вместе. Девушка бросилась наверх за перчатками.
Мисс Килман вовсе не испытывала ненависти к миссис Дэллоуэй. Обратив на Клариссу свои зеленые, как крыжовник, глаза, наблюдая за розовым личиком, изящной фигуркой, дышащей свежестью и изысканностью, мисс Килман думала: «Вот же дура! Тебе неведомы ни невзгоды, ни радости, ты растратила жизнь попусту!», испытывая непреодолимое желание одолеть ее, разоблачить! Срубить бы ее, как гнилое дерево! На самом деле главное – победа не над телом, а над духом; ей хотелось подчинить это жалкое подобие духа, ощутить свою власть. Заставить бы ее рыдать, упасть на колени с воплем: «Вы правы!»… Впрочем, на все воля Божья, не мисс Килман. Это должна быть победа веры. И мисс Килман оставалось лишь испепелять ее взглядом.
Клариссу мисс Килман возмущала до глубины души. Разве это христианка? Женщина, отнявшая чужую дочь! Общается с незримыми духами, постигла смысл жизни, а сама грузная, страхолюдная, заурядная, ни доброты, ни изящества!
– Идете в армейский универмаг? – спросила миссис Дэллоуэй.
Мисс Килман ответила, что да. Так они и стояли молча. Мисс Килман вовсе не собиралась любезничать. Она зарабатывает свой хлеб честно. Ее познания в современной истории предельно глубоки. Из своих скудных доходов она так много выделяет на дело, в которое верит, в то время как эта женщина пальцем не шевельнет, ни во что не верит, воспитала дочь… И тут вернулась Элизабет – совсем запыхалась, прелестная девочка!
Итак, они собираются в универмаг. Как ни странно, пока мисс Килман стояла на площадке (терпеливо и молча, словно доисторическое чудовище, закованное в броню первобытных войн), олицетворяемая ею идея постепенно съеживалась, ненависть (ненависть к идее, не к человеку) рассыпалась, и через миг там стояла просто мисс Килман в макинтоше, растерявшая всю злобу и даже ставшая меньше ростом. Видит Бог, ей бы Кларисса помогла с радостью!
При виде сникшего чудовища Клариссе стало смешно, и на прощание она рассмеялась.
Мисс Килман и Элизабет вместе спустились по лестнице.
Повинуясь внезапному порыву, жестоко страдая из-за того, что эта женщина забирает у нее дочь, Кларисса перегнулась через перила и крикнула:
– Помни про прием! Помни про наш сегодняшний прием!
Но Элизабет уже открыла входную дверь, на улице зашумел грузовик, и она не ответила.
Любовь и религия, думала Кларисса, дрожа от негодования. Гадость, какая гадость! Теперь, когда мисс Килман ушла, Клариссу вновь охватило отвращение к идее. Две самые жестокие вещи в мире, думала она, вспоминая их неуклюжее, потное, властное, лицемерное, всюду сующее свой нос, ревнивое, бесконечно жестокое и бессовестное олицетворение, обряженное в макинтош, – любовь и религия. Разве сама Кларисса пыталась обратить кого-нибудь в свою веру? Разве она не хотела, чтобы каждый был просто самим собой? И она посмотрела из окна гостиной на пожилую леди в доме напротив. Пусть себе взбирается по ступенькам, если ей угодно, пусть остановится, потом войдет в свою спальню, как делала не раз, раздвинет шторы и снова исчезнет в глубине комнаты. Подобное зрелище вызывало невольное уважение: пожилая женщина смотрит в окно, не зная, что за ней наблюдают. В этом было что-то сокровенное, но любовь и религия норовят разрушить неприкосновенность души. Противная мисс Килман норовит! Клариссе захотелось плакать.
Любовь тоже губительна. Все красивое, все истинное гибнет. Взять, к примеру, Питера Уолша. Какой был обаятельный, умный, разбирался во всем на свете. Если хочешь поговорить о поэзии Поупа или Аддисона, просто поболтать, обсудить все и вся, собеседника лучше Питера не найти. Именно Питер ей помогал, снабжал книгами. Но что за женщины его привлекают – вульгарные, глупые, заурядные! Влюбленный Питер – жалкое зрелище: после стольких лет разлуки он пришел к ней, чтобы поговорить о чем? О себе. Страсть ужасна, думала Кларисса, страсть унизительна! А в это самое время Килман с ее Элизабет идет в универмаг кооперативного общества армии и флота…
Биг-Бен пробил половину часа.
До чего необычно, странно, даже трогательно видеть, как пожилая леди (они соседи уже столько лет) отходит от окна, словно соединенная со звуком, словно на веревочке. При всей своей грандиозности, звон часов как-то с ней связан. Вниз, вниз, в пучину обыденной жизни падает стрелка, отмечая торжественность мига. Звук заставляет ее, фантазировала Кларисса, двигаться, идти, но куда? Кларисса вгляделась пристальней, старушка повернулась и исчезла, белый чепец теперь мелькал в глубине комнаты. К чему эти догмы, молитвы и макинтоши, если вот оно – чудо, тайна: пожилая леди, что ходит от комода к трюмо. А высшая тайна, к которой якобы приобщились Килман или Питер (Кларисса не верила, что они приблизились к разгадке хотя бы на шаг), примерно такова: здесь одна комната, там другая. Разве способна разгадать эту тайну религия или любовь?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?