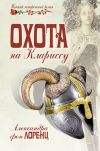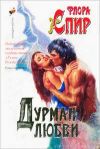Текст книги "Миссис Дэллоуэй. На маяк"

Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Любовь… И тут все прочие часы, отстающие от Биг-Бена на две минуты, подоспели и вывалили на Клариссу охапку всякой всячины: разумеется, его величество Биг-Бен, диктующий закон столь торжественно и справедливо, совершенно прав, но она должна помнить еще тысячу мелочей – миссис Маршэм, Элли Хендерсон, креманки для мороженого – ворох мелочей хлынул потоком, расплескался, затанцевал в кильватере торжественного удара, который пал словно слиток золота на морскую гладь. Миссис Маршэм, Элли Хендерсон, креманки для мороженого. Срочно звонить!
Вслед за Биг-Беном запоздавшие часы прозвучали бойко, взволнованно, поспешно избавляясь от вороха мелочей. Раздробленные, изломанные натиском экипажей, нахрапом фургонов, энергичной поступью тысяч худощавых мужчин и фланирующих женщин, куполами и шпилями контор и больниц, последние остатки разбились, словно брызги обессилевшей волны, о тело мисс Килман, которая остановилась и пробормотала: «Это все плоть».
Она обязана смирять плоть. Кларисса Дэллоуэй ее оскорбила, что вполне ожидаемо. Мисс Килман и сама сплоховала – ей не удалось совладать с плотью. Она уродливая, нескладная – из-за этого Кларисса Дэллоуэй над ней посмеялась, и плотские желания пробудились вновь. На фоне Клариссы она ощутила свою неприглядность и косноязычность. Почему же ей хочется походить на Клариссу? Почему?! Она презирала миссис Дэллоуэй до глубины души. Несерьезная. Нехорошая. Вся ее жизнь соткана из тщеславия и лживости. И все же взяла верх над Дорис Килман, едва не довела ее до слез. Плоть, это все плоть, бормотала она вслух по привычке, пытаясь подавить неукротимое и болезненное чувство, и шла по Виктория-стрит. Она молилась Богу. С уродливой внешностью ничего не поделаешь, красивая одежда ей не по карману. Пусть Кларисса Дэллоуэй ее обсмеяла, но нужно сосредоточиться на чем-нибудь другом, хотя бы пока идет вон до той почтовой тумбы. В любом случае у нее есть Элизабет. Нужно переключиться; она будет думать о России, пока не поравняется с тумбой.
Наверное, там сейчас хорошо, сказала мисс Килман, по совету мистера Уиттекера борясь со жгучей обидой на весь мир, который презирал ее, глумился над ней, отвергал, начав с главного унижения – наградил неприглядной внешностью, от которой люди воротят нос. Какую бы прическу ни сделала мисс Килман, череп с залысинами все равно смахивает на яйцо, белое и голое. Какой бы наряд ни примеряла – висит как на вешалке. Она перепробовала все. Ни для кого она не будет на первом месте. Никто ее не полюбит. Кроме Элизабет, в ее жизни есть только маленькие радости вроде ужина, чая, грелки на ночь. Однако нужно бороться, преодолевать себя, верить в Бога! Мистер Уиттекер сказал, что она послана в мир не просто так. Кто бы знал, до чего ей тяжело! Господь знает, ответил он, указав на распятие. Почему она должна страдать, а другим женщинам, той же Клариссе Дэллоуэй, удалось этого избежать? Знание приходит через страдание, напомнил мистер Уиттекер.
Миновав почтовую тумбу, Элизабет свернула в прохладный табачный отдел универмага армии и флота, а мисс Килман все еще бормотала под нос слова мистера Уиттекера про страдания и плоть.
– Плоть, – вздохнула она.
В какой отдел ей нужно, перебила Элизабет.
– Нижних юбок, – отрывисто бросила мисс Килман и устремилась к лифту.
И они поехали наверх. Элизабет вела, направляла ее как большого ребенка, тащила, как громоздкий линкор. Мисс Килман рассеянно уставилась на нижние юбки – скромные коричневые, полосатые фривольные, плотные и легкие, потом ткнула наугад во что-то несуразное и продавщица, наверное, сочла ее сумасшедшей.
Пока заворачивали покупку, Элизабет тоже недоумевала, что на нее нашло. Нужно выпить чаю, заявила мисс Килман, беря себя в руки. И они отправились в буфет.
Элизабет удивлялась, неужели мисс Килман настолько голодна. Она жадно накинулась на еду и бросала алчные взгляды на блюдо с глазированными пирожными; когда пришла леди с ребенком и тот взял одно, мисс Килман перекосило. Разве она против? Да, против, ведь ей хотелось розовое – то самое, что выбрал мальчик. Одна радость в жизни осталась – покушать, а ее лишают даже этого!
У людей счастливых есть источник, из которого они черпают, объясняла она Элизабет, в то время как она подпрыгивает на каждом ухабе, словно колесо без шины. Мисс Килман любила подобные метафоры, любила задерживаться после урока во вторник утром и вещать, стоя у камина с сумкой с книгами, своим «ранцем». Еще она любила поговорить о войне. В конце концов, не все люди считают, что англичане всегда правы. Нужно читать книги, посещать собрания, узнавать другие точки зрения. Не хочет ли Элизабет сходить с ней послушать Такого-то (поистине поразительный старик!)? И мисс Килман вела ее в какую-то церковь в Кенсингтоне, где они пили чай со священником. Она одалживала Элизабет книги. Право, медицина, политика – все профессии открыты для женщин твоего поколения, говорила мисс Килман. Разве она виновата, что ее карьера погублена? Помилуйте, восклицала Элизабет, конечно, нет!
Мама иногда заходит во время урока и говорит, что из Бортона привезли цветы, предлагает мисс Килман что-нибудь выбрать. С мисс Килман мама очень, очень мила, но та сжимает букет в кулаке и беседовать не хочет: то, что интересует мисс Килман, ввергает маму в тоску, и они совсем не ладят; мисс Килман задирает нос, и ей это не идет. Зато она ужасно умна. Прежде Элизабет никогда не задумывалась о бедных. Ее семья совершенно не бедствует – Люси каждый день приносит маме завтрак в постель на подносе, и все ее знакомые пожилые леди сплошь герцогини, потомки каких-нибудь лордов. А мисс Килман сказала (однажды во вторник, после занятия): «Мой дед держал москательную лавку в Кенсингтоне». Рядом с мисс Килман чувствуешь себя такой мелкой!
Мисс Килман взяла еще чая. Элизабет сидела с прямой спиной, и в раскосых восточных глазах светилась непостижимая тайна; нет, больше ничего она не хочет. Девушка поискала перчатки, свои белые перчатки. Ой, свалились под стол. Только не уходи! Мисс Килман не могла ее отпустить – такую юную, такую красивую девочку, которую искренне любила. Широкая ладонь на столе сжалась в кулак.
Пожалуй, иногда в компании мисс Килман бывает уныло. Элизабет захотелось уйти, но мисс Килман сказала:
– Погоди, я не закончила.
Конечно, Элизабет подождет. Хотя здесь довольно душно.
– Пойдешь на сегодняшний прием? – спросила мисс Килман. Наверное, да, ведь мама этого хочет. Элизабет не следует увлекаться приемами, заявила мисс Килман, беря двумя пальцами последний кусочек шоколадного эклера.
Элизабет призналась, что не очень любит приемы. Мисс Килман приоткрыла рот, запрокинула голову и проглотила остатки эклера, потом вытерла пальцы и поболтала чай в чашечке.
Сейчас расколюсь надвое, думала мисс Килман, не в силах терпеть пытку. Если бы могла, она схватила бы Элизабет, прижала к себе и не отпускала до самой смерти – большего и не надо. Сидеть и не знать, что сказать дальше, видеть, как Элизабет охладевает, чувствовать ее растущее отвращение – это уже слишком! Толстые пальцы впились в ладонь.
– Я на приемы не хожу, – проговорила мисс Килман, пытаясь удержать Элизабет. – Меня и не приглашают… – И сразу поняла, что все испортила своим эгоизмом. Мистер Уиттекер предупреждал, но она ничего не могла с собой поделать. Как она страдает! – К чему меня приглашать? Я некрасивая, бедная.
Она и сама понимала, насколько по-идиотски звучит – во всем виноваты люди, спешащие мимо, люди с покупками, которые ее презирают. Ее просто вынудили! И все же она – Дорис Килман. Женщина с дипломом, настоящий знаток современной истории, сама пробивает себе дорогу в жизни.
– Мне жаль не себя, я жалею… – Она хотела сказать «твою маму», но такого говорить нельзя, только не Элизабет! – Я больше жалею других.
Элизабет Дэллоуэй сидела молча, как бессловесное животное, которое неизвестно зачем подвели к воротам, и оно стоит, мечтая рвануть галопом. Мисс Килман скажет еще что-нибудь?
– Не забывай меня, – дрогнувшим голосом попросила Дорис Килман.
Бессловесное животное в ужасе ринулось прочь, устремившись к дальнему краю поля.
Крупная ладонь растопырилась и сжалась в кулак.
Элизабет оглянулась. Официантка сказала, что платить нужно в кассу. Элизабет встала и удалилась, волоча за собой кишки мисс Килман, как показалось той, да еще дернула напоследок, кивнув на прощание, и ушла.
Ушла. Мисс Килман сидела за мраморным столиком среди эклеров, изнемогая от мучительной судороги, обрушившейся раз, другой, третий. Ушла. Миссис Дэллоуэй победила. Элизабет ушла. Красота ушла, юность ушла. А она осталась…
Наконец мисс Килман встала, неверной походкой побрела между столиками, и кто-то догнал ее, всунул забытый сверток; затем угодила в окружение сундуков, готовых к отправке в Индию, поблуждала среди наборов для рожениц и детских пеленок, прорвалась сквозь завалы ширпотреба со всего мира, товары скоропортящиеся и бессрочные – ветчина, лекарства, цветы, канцелярские принадлежности, пахнущие по-разному, то сладко, то кисло; увидела себя в полный рост в зеркале – шляпа набекрень, лицо пылает, и вывалилась на улицу.
Посреди уличной сутолоки возвышалась башня Вестминстерского собора, обитель Бога. Однако мисс Килман со свертком упрямо ринулась к другой святыне – к Вестминстерскому аббатству, и там, прикрыв лицо растопыренными пальцами, уселась позади всех прочих, ищущих прибежища, – разномастной паствы, ненадолго утратившей социальный статус и даже пол. Впрочем, стоило верующим убрать руки от лица, как они тут же обратились в почтенных представителей среднего класса, англичан и англичанок, иным из которых не терпелось взглянуть на восковые монаршие фигуры в здешнем музее.
Мисс Килман продолжала держать руки у лица, сидя то в одиночестве, то в окружении людей. С улицы заходили очередные посетители, глазели по сторонам, медленным шагом плелись мимо могилы Неизвестного воина, а она все закрывала глаза руками и в двойной темноте (в аббатстве и без того царил полумрак) пыталась воспарить над суетностью, над желаниями, над товарами ширпотреба, отринуть и ненависть, и любовь. Руки ее дергались – внутри шла нешуточная борьба. Похоже, для иных Бог гораздо доступнее, путь к нему менее тернист. Мистер Флетчер, бывший служащий казначейства, миссис Горэм, вдова знаменитого К.С., просто пришли к Нему, вознесли молитвы, откинулись на спинку скамьи и наслаждались музыкой (орган гремел так сладкозвучно), а мисс Килман в конце ряда все молилась и молилась. С порога своего параллельного мира старики сочувственно подумали: вот душа, бродящая по одной с ними территории, лишенная материальной оболочки, – не женщина, просто душа.
Мистеру Флетчеру понадобилось уйти, а путь к выходу лежал мимо нее. Сам он всегда одевался с иголочки, поэтому безалаберность бедной леди его слегка расстроила – волосы растрепались, сверток на полу. Она подвинулась не сразу. Пока он ждал, оглядывая белый мрамор, серые оконные переплеты и накопленные сокровища (аббатством он чрезвычайно гордился), дородность этой женщин, мужество и неистовство, с которым она молилась, время от времени судорожно сдвигая колени (сколь тернист ее путь к Господу, сколь сильны желания), произвели на него сильное впечатление, как и на Клариссу, которая целый день не могла выкинуть ее из головы, и на преподобного Уиттекера, и на Элизабет.
Та ждала омнибуса на Виктория-стрит. Как славно вырваться на улицу! Элизабет подумала, что спешить домой нужды нет. Лучше сесть в омнибус. И пока она стояла на остановке в своей прекрасно скроенной одежде, кое-что началось… Люди начали сравнивать ее с молодыми тополями, рассветами, гиацинтами, ланями, струящейся водой и садовыми лилиями, причиняя тем самым изрядное неудобство, почему они не оставят ее в покое, а сравнивают с лилиями, заставляют посещать приемы, и вообще в Лондоне просто ужасно, почему нельзя жить за городом с отцом и собаками?
Омнибусы пикировали на остановку, принимали пассажиров, уносились прочь – аляповатые вагончики, сверкающие красным и желтым лаком. Какой же выбрать? Все равно. Конечно, ломиться напролом не стоит. Элизабет нравилось созерцать. Ей не хватало выразительности, зато глаза были ясные, китайские, восточные, и, как говорила мама, на такие красивые плечи и хорошую осанку приятно посмотреть. В последнее время, особенно по вечерам, когда разговор вызывал у нее интерес (сильных эмоций она не испытывала), Элизабет выглядела почти красавицей – горделивой и безмятежной. О чем она думает? В нее влюбляются все подряд, ей же откровенно скучно. Наступает ее пора. Мать видела – начались комплименты. Элизабет подобная ерунда совершенно не волновала – к примеру, плевать она хотела на наряды, – что тревожило Клариссу, зато вполне сочеталось с любовью к щенкам и морским свинкам, возней с заболевшим чумкой псом и придавало ей очарования. Теперь еще странная дружба с мисс Килман! Ну и ладно, думала Кларисса часа в три ночи, читая мемуары барона Марбо, потому что не могла уснуть, это доказывает, что у девочки есть сердце.
Внезапно Элизабет шагнула вперед и со знанием дела села в омнибус. Она заняла место наверху. Лихой, как пират, омнибус рванул вперед, и ей пришлось схватиться за поручень, чтобы не упасть, ведь это был пират – безрассудный, неразборчивый в средствах, который безжалостно атаковал, шел на опасный обгон, выхватывал пассажира с остановки или игнорировал, ловко, как угорь, втирался в поток транспорта и несся по Уайтхоллу на всех парусах. Вспомнила ли Элизабет хоть раз о бедной мисс Килман, любившей ее без ревности, видевшей в ней лань на просторе, луну над водной гладью? Элизабет радовалась свободе. Свежий воздух так упоителен. В универмаге было ужасно душно. А теперь она летела по Уайтхоллу, и на каждое движение омнибуса красивое тело в светло-коричневом пальто откликалось играючи, словно всадник, словно фигура на носу корабля; ветерок слегка растрепал ее волосы, жара придала щекам бледность белого крашеного дерева, и прекрасные глаза, не встречаясь ни с чьими другими глазами, смотрели вперед, пустые и яркие, с неправдоподобной невинностью статуи.
Мисс Килман вечно твердит о своих страданиях, что делает ее просто невыносимой. Разве она права? Если отец, пропадая во всяких комитетах целыми днями (она редко видела его, когда они жили в Лондоне), приносит пользу бедным, видит Бог… Не этого ли мисс Килман ждет от истинного христианина? Сказать наверняка сложно. Вот бы проехать еще немного! Пенни до Стрэнда? Возьмите пенни. Она поедет в Стрэнд.
Элизабет нравились люди, которые болеют. Как сказала мисс Килман, женщинам твоего поколения открыта любая профессия. Можно стать доктором или фермером. Животные болеют часто. Обзавестись тысячей акров, нанять работников, наведываться к ним домой. Вот и Соммерсет-Хаус. Из нее получится отличный фермер – как ни странно, идея пришла ей в голову не столько из-за мисс Килман (хотя и ее заслуга в том есть), сколько благодаря Соммерсет-Хаусу. Огромное серое здание, такое роскошное и солидное! Приятно думать, что там работают люди. Элизабет нравились здешние церкви, похожие на фигурки из серой бумаги, плывущие в потоке Стрэнда. Тут совсем иначе, чем в Вестминстере, подумала девушка, сходя на Чансери-лейн. Гораздо солиднее и оживленнее. В общем, ей захотелось получить профессию. Она станет доктором, фермером, пройдет в парламент, если сочтет нужным, и все благодаря Стрэнду!
Ноги прохожих несут их по делам, руки кладут камень на камень, головы заняты не пустой болтовней (сравнивать женщин с тополями, конечно, увлекательно, но очень глупо), а мыслями о кораблях, сделках, законах; и вместе с тем здесь все такое внушительное (рядом Темпл), веселое (и река есть), благочестивое (и церковь), что Элизабет преисполнилась решимости (неважно, что скажет мама) стать либо фермером, либо доктором. Впрочем, она та еще лентяйка.
Лучше никому не рассказывать. Кажется, идея дурацкая. Так бывает, когда остаешься один, – здания без табличек с именами архитекторов и толпы людей из Сити будоражат сильнее разговоров со священником в Кенсингтоне, сильнее любых книг мисс Килман, и поднимают с песчаного дна души что-то вялое, нескладное, застенчивое; оно вырывается на поверхность, словно внезапно проснувшийся ребенок; пожалуй, так и есть – вздох, потягивание, порыв, прозрение, которое остается с тобой навсегда и снова опускается на песчаное дно. Пора домой. Нужно переодеться к обеду. Сколько времени – где же часы?
Элизабет оглядела Флит-стрит. Немного прошла к собору Святого Павла, робко, словно незваный гость со свечой крадется на цыпочках по чужому дому, опасаясь, что хозяин внезапно распахнет дверь спальни и спросит, зачем ты явился; не решаясь свернуть в подозрительные переулки, не соблазняясь боковыми улочками, как не стала бы открывать двери, за которыми могла обнаружиться спальня, гостиная или кладовая. Никто из Дэллоуэев не разгуливает по Стрэнду просто так, она – отважный первопроходец, странник, бредущий наудачу.
Во многих отношениях, по мнению матери, она крайне незрелая, совсем ребенок – любит своих кукол, старые тапочки, – и это очаровательно. С другой стороны, Дэллоуэи издавна служат на благо общества, и женщины рода, хотя особыми талантами и не блистали, всегда шли на высокие должности – возглавляли монастыри, всякие учебные заведения – сановные посты в мире женщин. Элизабет проникла еще немного в глубь чуждой территории, ближе к собору. Ей нравилась радушная атмосфера сестринства, материнства, братства, царившая в этой сутолоке. Шум стоял оглушительный – внезапно прорезались трубы (безработные бастуют), зазвучала военная музыка, похожая на марш, и если сейчас кто-то умирает – какая-нибудь женщина испустила последний вдох, и находящийся с ней рядом человек в этот чрезвычайно важный момент открыл окно, посмотрел вниз на Флит-стрит, то до него с ликованием долетела военная музыка, утешительная и равнодушная.
Музыка, не признающая ни счастья, ни горя. Благодаря ей утешение обретают даже те, кто наблюдает за последними проблесками сознания на лицах умирающих. Людская забывчивость подчас ранит, неблагодарность – коробит, но этот голос, льющийся вечно, из года в год забирает с собой все: и клятву, и жизнь, и процессию, обвивает и уносит прочь, как стремительный ледниковый поток подхватывает и волочет за собой осколок кости, синий лепесток, могучие дубы.
Как выяснилось, времени уже много. Маме не понравится, что она бродит по улицам одна. Элизабет повернула обратно.
Порыв ветра (несмотря на жару, было довольно ветрено) набросил черную вуаль на солнце и на Стрэнд. Лица поблекли, омнибусы лишились блеска. Пышные кучевые облака выглядели плотными, хоть топором руби, казались обиталищем богов – широкие золотистые склоны, лужайки небесных садов – и находились в постоянном движении. Фигуры менялись местами, словно следуя намеченному плану: то вершина резко опадет, то огромный пирамидальный блок, сохраняя неизменность формы, выдвинется на передний план или торжественно поведет за собой процессию, направляясь к новому причалу. При всей неподвижности и идеально согласованной статичности их белоснежную или опаленную золотом поверхность отличала невероятная живость, свобода; пышная композиция изъявляла готовность меняться, двигаться, разбиваться на части в любой момент; и, несмотря на степенное постоянство, накопленную прочность и плотность, они поражали землю то светом, то тьмой.
Невозмутимо, со знанием дела Элизабет Дэллоуэй села в омнибус до Вестминстера.
Свет и тень появляются и исчезают, манят и подают сигналы, делая стену серой, бананы на тарелке ярко-желтыми; Стрэнд становится серым, а теперь омнибусы вновь ярко-желтые, думал Септимус Уоррен Смит, лежа в гостиной и глядя, как на розах обоев вспыхивает и гаснет бледное золото, обладающее поразительной отзывчивостью живого существа. Снаружи деревья водили кронами по воздуху, словно сетями, комнату наполнял шум волн и пение птиц. Все стихии изливали ему на голову свои сокровища, рука Септимуса покоилась на спинке дивана, а сам он покачивался на волнах и слышал на далеком берегу лай собак. Не страшись, твердит сердце, не страшись.
Он и не страшился. В каждый миг Природа выдавала какой-нибудь веселый намек вроде золотого пятна, движущегося по стене (вот, вот, вот!), и обещала, что раскроет ему – качнет плюмажем, встряхнет локонами, поведет мантией, великолепная, как всегда, поднесет ладони ко рту и выдохнет строчки Шекспира – раскроет свой замысел.
Реция наблюдала за ним, сидя за столом и вертя в руках шляпу. Улыбается, значит, счастлив. Видеть, как он улыбается, было невыносимо. Что за брак, что за муж, который ведет себя странно, то вскакивает, то смеется, часами сидит молча, потом вдруг велит писать под диктовку! Ящик стола полон бумажек: про войну, про Шекспира, про великие открытия, про то, что смерти нет. В последнее время Септимус заводится без причины (оба доктора, Холмс и Брэдшоу, считают, что внезапное возбуждение особенно опасно) – машет руками, кричит, что познал истину! Он знает все! Якобы приходил тот парень, погибший Эванс, пел за ширмой. Реция тут же записала его слова. Иногда получается очень красиво, иногда – полная чушь. И всегда-то он останавливается на середине фразы: то передумает, то захочет что-нибудь добавить, то услышит новое, поднимет руку и слушает.
Но Реции не слышно ничего.
Однажды они застали служанку, которая убирается в комнате, хохочущей за чтением такой записки. Получилось ужасно досадно! Септимус заголосил, кляня человеческую жестокость – люди рвут друг друга на куски! Павших, пояснил он, люди рвут павших. «Доктор Холмс за нами охотится», говорил он и придумывал истории про Холмса – как Холмс ест кашу, как Холмс читает Шекспира, – ревя от смеха или от ярости, потому что для него доктор Холмс олицетворял нечто жуткое. Он называл его «человеческая природа». Еще у Септимуса случались видения. Якобы он утонул и лежит на скале, а над ним кричат чайки. Он свешивался с дивана и смотрел в море. Или слышал музыку. На самом деле всего лишь звуки шарманки или голоса с улицы. Он кричал: «Прелестно!», по щекам струились слезы, и это угнетало Рецию больше всего – видеть отважного мужчину вроде Септимуса, побывавшего на войне, плачущим. Он лежал, вслушиваясь, потом внезапно вопил, что падает вниз, вниз – прямо в пламя! И она вскакивала посмотреть на пламя, настолько ярко он переживал. Но ничего не горело. Они были в комнате одни. Всего лишь дурной сон, успокаивала она мужа, хотя иногда ей тоже становилось страшно. За шитьем Реция вздыхала.
Вздохи были нежные и чарующие, как ветерок на краю вечернего леса. Вот она откладывает ножницы, вот поворачивается и берет что-нибудь со стола. Легкий шорох, шуршание, постукиванье во что-то превращаются. Сквозь опущенные ресницы Септимус видел лишь размытый силуэт, хрупкую черную фигурку, лицо и руки; видел, как она двигается, протягивает руку за мерной лентой или ищет (она постоянно что-нибудь теряла) шелковые нитки. Реция делала шляпку для замужней дочери миссис Филмер, которую звали… Имя он позабыл.
– Как зовут дочь миссис Филмер?
– Миссис Питерс, – ответила Реция, держа шляпку перед собой. Она боялась, что та слишком маленькая. Миссис Питерс была женщиной крупной и ей не нравилась. Это только ради миссис Филмер, которая к ним так добра. – Сегодня угостила меня виноградом, – сказала Реция, вот ей и захотелось как-нибудь ее отблагодарить. Позавчера она вошла в комнату и обнаружила миссис Питерс! Та решила, что их нет дома, и слушала граммофон.
– Правда? – удивился он. Слушала граммофон? Да, Реция уже говорила, что застала миссис Питерс в комнате.
Септимус начал медленно открывать глаза, чтобы увидеть, на месте ли граммофон. Реальные предметы… реальные предметы слишком будоражат. Нужно быть осторожным. Он не сойдет с ума. Сначала посмотрим на модные журналы на нижней полке, потом медленно переведем взгляд на граммофон с зеленой трубой. Все вполне настоящее. Собравшись с духом, он посмотрел на буфет: тарелка с бананами, гравюра королевы Виктории с принцем-супругом, затем на каминную полку и вазу с цветами. Ничего не двигалось. Все на месте, все настоящее.
– У этой женщины злобный язык, – заметила Реция.
– Чем занимается мистер Питерс? – спросил Септимус.
– Ах… – Реция попыталась вспомнить. Вроде бы миссис Филмер говорила, что он ездит по командировкам. – Прямо сейчас он в Халле.
«Прямо сейчас!» – произнесла она с итальянским акцентом. Септимус заслонил глаза, чтобы видеть лишь часть ее лица – подбородок, нос, лоб – на случай, если оно окажется деформированным или с какой-нибудь ужасной отметиной. Но нет, она выглядела вполне естественно, шила, поджав губы с напряженным, постным видом, как делают все женщины за шитьем. В этом нет ничего ужасного, уверял он себя, снова и снова глядя на лицо жены, на руки. Что ужасного в том, как она сидит среди бела дня и шьет? У миссис Питерс злобный язык. Мистер Питерс сейчас в Халле. Тогда зачем пылать гневом и пророчествовать? Зачем бичевать пороки и чувствовать себя чужим среди своих? Зачем дрожать и плакать навзрыд, глядя на облака? Зачем постигать истины и передавать послания, если Реция втыкает булавки в подол, а мистер Питерс уехал в Халл? Чудеса, откровения, терзания, одиночество, падение сквозь море вниз, вниз в пламя… все сгорело, и, пока он наблюдал, как Реция украшает соломенную шляпку, ему казалось, что он лежит под цветочным покровом.
– Для миссис Питерс шляпка слишком мала, – заметил Септимус.
Впервые за долгое время он заговорил в прежней манере! Конечно, согласилась Реция, до смешного мала, но миссис Питерс сама ее выбрала.
Он взял шляпку в руки. Для обезьянки шарманщика сойдет.
Как она обрадовалась! Много недель они так не смеялись, на пару потешаясь над ближним, как делают женатые люди. Если бы сейчас вошла миссис Филмер, миссис Питерс или еще кто-нибудь, вряд ли бы они поняли, над чем веселятся Реция с Септимусом.
– Вот так, – объявила она, прикрепляя розу сбоку шляпки. Никогда не была она так счастлива! Никогда в жизни!
Но ведь это же еще более нелепо, возразил Септимус. Теперь бедная женщина будет смотреться как хрюшка на ярмарке. (Никому не удавалось насмешить ее так, как Септимусу.)
Что там в шкатулке для рукоделия? Ленточки и бусины, кисточки, искусственные цветы. Реция высыпала все на стол. Он начал раскладывать украшения по оттенкам – хотя руки у него как крюки, даже сверток аккуратно не упакует, вкус у Септимуса был отличный, и часто он попадал в точку, хотя ошибаться ему тоже случалось, конечно.
– Сделаем ей красивую шляпку! – бормотал он, беря то одно, то другое, а Реция стояла на коленях и заглядывала через плечо. Наконец он закончил – то есть наметил композицию, теперь ей следует все закрепить. Только пусть будет очень, очень осторожна, попросил Септимус, и ничего не меняет.
И жена села шить. За шитьем она издавала звуки, похожие на шум чайника на плите: увлеченно сопела, бормотала, сильные заостренные пальчики втыкали и вынимали сверкающую иглу. Пусть солнце вспыхивает и гаснет на кисточках, на обоях, а он подождет, думал Септимус, вытягивая ноги, глядя на перекрученный носок на дальнем конце дивана, он подождет в тепле, в безветренном закутке, в какой иногда забредаешь вечером на краю леса, – то ли впадина какая в земле, то ли деревья растут особым образом (наука – прежде всего наука), и там задерживается тепло, воздух задевает по лицу, словно птичье крылышко.
– Готово, – сказала Реция, крутанув шляпку миссис Питерс на кончиках пальцев. – Пока сойдет, а потом… – Фраза радостно полилась, словно вода из незакрытого крана – кап-кап-кап.
Чудесно! Септимус гордился делом рук своих как никогда. Шляпка миссис Питерс такая настоящая, такая осязаемая.
– Ты только посмотри! – восхитился он.
Реция не могла нарадоваться, глядя на шляпку. Он снова стал собой, снова смеялся. Они были вдвоем. Шляпка ей очень нравилась.
Септимус велел примерить.
– Наверно, я выгляжу в ней нелепо! – воскликнула она, подбегая к зеркалу и крутясь. В дверь постучали, и Реция поспешно сорвала шляпку с головы. Неужели сэр Уильям Брэдшоу? И когда успел?
Нет, не он. Всего лишь ребенок с вечерней газетой.
Дальше было то же, что и всегда, – это происходило каждый вечер. Маленькая девочка сосала палец, стоя в дверях, Реция опускалась на колени, Реция ворковала и осыпала ее поцелуями, Реция доставала мешок конфет из ящика в столе. Так всегда и происходило. Сначала одно, потом другое. Так она все и выстраивала – сначала одно, потом другое. Танцевала, прыгала с ребенком по комнате, носилась кругами. Септимус взял газету. Суррей вылетел, прочел он. Стоит невиданная жара. Реция повторила: Суррей вылетел, стоит невиданная жара, вплетая газетные заголовки в игру для внучки миссис Филмер, и обе смеялись, болтали. Септимус очень устал. Он был очень счастлив. Нужно поспать. Он закрыл глаза. Шум игры понемногу стих, изменился до неузнаваемости и теперь напоминал крики людей, которые что-то ищут и не находят, удаляются все дальше и дальше. Они его потеряли!
Он вскочил в ужасе. И что он видит? На буфете тарелка с бананами, в комнате никого (Реция повела ребенка к матери – пора укладывать). Вот и все: он навеки один. Таков приговор, озвученный ему в Милане, когда он вошел в комнату и увидел, как девушки кроят коленкор; навеки один.
Он остался наедине с буфетом и бананами. Он остался один, совершенно беззащитный на этом выцветшем возвышении, простертый – не на вершине холма, не на скале, а на диване в гостиной миссис Филмер. Где же видения, лица, голоса мертвецов? Перед ним стояла ширма с черными камышами и синими ласточками. Там, где прежде виделись горы, лица, красота, теперь была просто ширма.
– Эванс! – крикнул Септимус. Никто не ответил. То ли мышь пискнула, то штора зашуршала. Это голоса мертвецов. Ему остались только ширма, ведерко для угля, буфет. Значит, придется смотреть на ширму, ведерко для угля и буфет… и тут в комнату ворвалась Реция, болтая без умолку.
Пришло какое-то письмо. У всех поменялись планы. Миссис Филмер не сможет поехать в Брайтон. Уведомить миссис Уильямс времени нет, и на самом деле это ужасно обидно… И тут Реция посмотрела на шляпку и подумала: может, сделать чуточку… Ее голос затих, перейдя в радостное журчание.
– А, черт! – вскричала она (ее ругательства тоже были предметом их шуток), сломалась иголка. Шляпа, ребенок, Брайтон, иголка. Так она все и выстраивала – сначала одно, потом другое – выстраивала, сшивала.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?