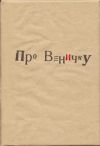Текст книги "Седая нить"

Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Мы читали стихи друг другу. Мы о многом тогда говорили. О серьёзном. И о прекрасном. О трагическом. И смешном. О таком, что связано было и с эпохой, и с нашими судьбами. Так теперь я, уже седой, понимаю это. И так говорю – сквозь время – об этом. Так бывало не раз и не два. Много раз. Так мы жили тогда. Как умели. Так было надо. Всем. От рая там шаг до ада, шаг, всего лишь. А дальше – край. Но за краем являлся – рай. Праздник. Музыка. Свет во мгле. Ветер, ветер – по всей земле…
День закончился. Вечер пришёл.
Я нашёл свечу – и зажёг её.
Пламя вспыхнуло, разгорелось. Наши лица вдруг озарило.
Пламя высветлило свободно и победно всё, что могло.
И тогда я сказал Губанову:
– Лёня, друг, почитай стихи!
И пора бесчасья исчезла. И раскрылся мир, как орех.
И эпоха СМОГа воскресла. В тот же миг. На глазах у всех.
(Буря с натиском? Так? Допустим. Да не так. Скорее – по-своему. Говоря точнее – по-русски. То есть: смог – это значит сумел.
Вот что важно. Мы-то – сумели. Мы всегда по-своему пели. Достигали по-разному цели. Каждый был свободен и смел.)
Все как будто помолодели. Встрепенулись. Расправили плечи.
Все невольно похорошели. Брови подняли. Стали добрей.
Все немедленно просветлели. Кто – лицом. А кто – и душой.
И тогда прочитал Губанов:
– Эта женщина недописана, эта женщина недолатана. Этой женщине не до бисера, а до губ моих – ада адова. Этой женщине только месяцы, да и то совсем непорочные. Пусть слова её не ременятся, не скрипят зубами молочными. Вот сидит она, непричастная, непричёсанная, ей без надобности. И рука её не при часиках, и лицо её не при радости. Как ей хмурится, как ей горбится, непрочитанной, обездоленной. Вся душа её в белой горнице, ну а горница недостроена. Вот и все дела, мама-вишенка, вот такие вот, непригожие. Почему она – просто лишенка, ни гостиная, ни прихожая? Что мне делать с ней, отлюбившему, отходившему к бабам лёгкого?.. Подарить на грудь бусы лишние, навести румян неба лётного?! Ничего-то в ней не раскается, ничего-то в ней не разбудится, отвернёт лицо, сгонит пальцы, незнакомо-страшно напудрится. Я приеду к ней как-то пьяненьким, завалюсь во двор, стану окна бить, а в моём пальто кулёк пряников, а потом ещё что жевать и пить. Выходи, скажу, девка подлая, говорить хочу всё, что на сердце… А она в ответ: «Ты не подлинный, а ты вали к другой, а то хватится!» И опять закат свитра тёртого, и опять рассвет мира нового, жёлтый снег да снег, только в чём-то мы виноваты все, невиновные. Я иду домой, словно в озере, карасём иду из мошны. Скольких женщин мы к чёрту бросили, скольким сами мы не нужны! Эта женщина с кожей тоненькой, этой женщине из изгнания будет гроб стоять в пятом томике неизвестного мне издания. Я иду домой, не юлю, пять легавых я наколол. Мир обидели, как юлу, завели, забыв, на кого.
И ещё прочитал Губанов:
– Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру, только кончится вздох. Белый пруд твоих рук очень хочет меня, ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог? Знаю я, что меня берегут на потом и в прихожей, где чахло целуются свечи, оставляют меня гениальным пальто, выгребая всю мелочь, которую не в чем. Я стою посреди анекдотов и ласк, только окрик слетит, только ревность притухнет, серый конь моих глаз, серый конь моих глаз, кто-то влюбится в вас и овёс напридумает. Только ты им не верь, что приходят с крыльца в тихий, траурный дворик «люблю», ведь на медные деньги чужого лица даже грусть я себе не куплю. Осыпаются руки, идут по домам, низкорослые песни поют, люди сходят с ума, люди сходят с ума, но коней за собой не ведут. Снова лес обо мне, называет купцом, говорит, что смешон и скуласт. Но стоит, как свеча, над убитым лицом, серый конь, серый конь моих глаз. Я беру кривоногое лето коня. Как он плох, как он плох, как он плох. Белый пруд твоих рук не желает понять… Ну а Бог? Ну а Бог? Ну а Бог?
Пригорюнился Ерофеев. И сказал:
– А я – потерял…
И Довлатов спросил его:
– Что?
Ерофеев сказал:
– «Шостаковича».
– Как? – спросил, опешив, Сапгир.
И промолвил Холин:
– Роман?
И воскликнул Губанов:
– Ты что?!
И вздохнул Беленок:
– Охо-хо!..
Леонард сказал:
– Ну и ну!..
Огорчился Пятницкий:
– Надо же!..
– Потерял! – сказал Ерофеев. – «Шостаковича». В электричке. Две тетради общие. Книжки записные. Всё было в авоське. Разумеется, вместе с бутылками. Кто позарился на бутылки – понимаю. Но кто – на тетради? Был я выпивши. Спал. Очнулся – в тупике. В вагоне пустом. Вышел. Было мне грустно. Лёг я навзничь, помнится. Спал в траве. Ничего, хоть убей, не помню – где я был? И что за места? Помню только, что спать в траве мне понравилось. Хорошо спать на воле, в траве! Блаженство! Красота! А романа – нет…
И сказал я тогда Ерофееву:
– Может, ты его восстановишь?
– Да, попробуй! – сказал Довлатов.
– Попытайся! – сказал Сапгир.
– Постарайся! – промолвил Холин.
– Непременно! – сказал Леонард.
– Потрудись! – загорелся Пятницкий.
– Надо, Веня! – сказал Беленок.
– Ты сумеешь! – воскликнул Губанов.
– Нет! – вздохнул Ерофеев. – Я пробовал. Не получится. Бесполезно. Лето жаркое было в этом високосном году. Я ехал в электричке – незнамо куда. И незнамо где – потерял «Шостаковича». Нет, я знаю, – он такой, «Шостакович», – его, как ни бейся, не восстановишь… И поэтому – хрен с ним, с романом. Напишу, даст Бог, что-нибудь и получше. Давайте выпьем!..
Все сочувственно помолчали.
Ерофеев наполнил стаканы:
– Помянём, друзья, «Шостаковича»!
Все торжественно поднялись.
А потом – задумчиво выпили.
– Так-то лучше! – сказал Ерофеев. – Помянули роман. По-людски. По-простому. По-человечески. По традиции нашей, отечественной.
Все растерянно переглянулись.
А потом – все разом – вздохнули.
По земле осенней, вечерней, этот вздох всеобщий прошёл…
И сказал я тогда Сапгиру:
– Почитай-ка, Генрих, стихи!
– Почитай! – оживились гости.
– Хорошо! – согласился Сапгир.
И Сапгир – всем нам – прочитал:
– Господи, бегу! Оглядываясь, вижу, как умножаются мои враги – или во мне горят их рожи? Мания – беги, беги. Испания, Германия, Польша, Россия. Что так жжёт босые пятки? Этот пепел ещё тёпел. Господи, освободи! – Нет ему спасенья в Боге! – Нет ему спасенья в Боге! – Нет ему спасенья в Боге! – А вот вам – фигу, фигу, фигу, бегу. И плачу, и смеюсь, и не боюсь. Здесь лёг и спал, а Бог мой сон оберегал. Не убоюсь, пусть будет вас больше в десять тысяч раз, потому что Он – мой щит – даст в зубы – челюсть затрещит. Господи, уповаю, но бегу, ибо не бежать я не могу, бегу, как заяц, полы подобрав, бегу из собственного дома, от сына (мерзавец) Авессалома, от братьев и жены бегу. Бегу и мыслю на бегу.
– Из псалмов Давида, – сказал, обращаясь ко всем, Сапгир. – Моё личное переложение. Прочитал я псалом третий. А теперь будет – сто сорок третий.
И Сапгир ещё прочитал:
– Господи, что есть человек и что Ты знаешь о нём! Ночью – один, днём – другой, и совершенно нагой, то есть абсолютно голый. Господи, у Тебя характер тяжёлый, как трактор. Господи, Ты – постоянный вектор. А человек – дуновение – фу! Тень эта белая, что она делает – просто тьфу! Господи, наклони свои небеса и сойди хоть на полчаса. Пусть вопят: мол, не я, не я! Но Господь как молния – в пламени от головы до пят! Неистов! – (по утверждению специалистов). Боже, новую песнь воспою Тебе на псалтыри, на гитаре, на пустыре и на базаре – воспою Тебе! Господи, зачем Ты нас оставил? Господин, это против правил. Мы достойны Хиросимы. Всё же, Господи, спаси! мы так хотим, чтобы нас хоть кто-нибудь спас.
– Послушать бы музыку, что ли! – сказал ни с того ни с сего, вроде бы обращаясь ко всем, но прежде всего к себе самому, Ерофеев.
Я встал. Отыскал пластинку. Включил свой старый проигрыватель. И поставил музыку. Баха.
Ерофеев, откинув чуб, как растрёпанное крыло, впился в звук. Буквально. Мгновенно. И, заметил я, не дилетантски, но привычно, профессионально. Слился с музыкой. Растворился в ней. Ушёл в неё безоглядно. Врос в неё. Стал почти что ею. Ну и Веничка! Молодец! Полагаю, таким вот слушателем был доволен бы рассудительный и придирчивый Себастьян.
Остальные – слушали тоже. Как умели. Уж как получалось.
И пластинка остановилась. И закончилась музыка вдруг.
Ерофеев сидел, задумавшись. Отрешённость в нём замечалась.
Остальные – были взволнованы. Стал теснее дружеский круг.
И сказал я тогда Холину:
– Игорь Сергеевич! Вы почитайте нам тоже стихи. Не часто вы этим балуете нашу богемную публику. В кои-то веки ещё доведётся чтение ваше услышать!..
И Холин тогда прочитал:
– Вот сосед мой, как собака: слово скажешь – лезет в драку. Проживаю я в бараке. Он – в сарае у барака.
И Холин всем пояснил:
– Написано это, братцы, ещё в пятьдесят втором году. Моё давнее, первое удачное стихотворение. С него-то всё и началось.
И ещё прочитал нам Холин:
– Познакомились у Таганского метро. Ночевал у неё дома. Он – санитар похоронного бюро. Она – медсестра родильного дома.
Довлатов спросил меня, потихоньку, чтобы не слышали остальные:
– Это стихи?
И сказал я ему, тоже тихо:
– Да, Сергей. Такие стихи.
– Буду знать, – подытожил Довлатов, – что бывают не только привычные, но ещё и такие стихи.
– Да, бывают! – сказал задиристо, услыхав его резюме чутким ухом, Генрих Сапгир. – Да бывают. И есть, представь. Существуют. Не только Бродский.
И Довлатов сказал примирительно:
– Вот! Название прямо – для книги. Я запомню: «Не только Бродский».
Холин пристально посмотрел на Сергея из-под очков – и сказал замогильным голосом:
– Разрешаю: «Не только Холин».
– Разумеется, можно и так! – закивал головой Довлатов.
– Ну а может, «Не только Сапгир», – закурив, сказал Леонард.
– Или, может, «Не только Губанов», – улыбнулся в усы Сапгир.
– Предлагаю: «Не только Алейников», – отчеканил, включаясь, Холин.
– Можно так: «Не только Довлатов», – почему-то сказал Губанов.
– Или так: «Не только Данильцев», – вмиг продолжил игру Сапгир.
– Или так вот: «Не только… – Холин выпил водки глоток, закусил и потом сказал: – …Ерофеев».
– Предлагаю: «Не только Пятницкий», – поднимая стакан с портвейном, обратился ко всем Беленок.
– Можно так: «Не только… – Сапгир пригубил коньяку, сощурился и сказал потом: – …Беленок».
– Нет, уж лучше: «Не только Зверев», – подал голос тогда Ерофеев.
И сказал я:
– Вон сколько «не только». Ворошилов, к примеру. Яковлев. И, конечно же, Величанский.
И промолвил Володя Пятницкий лаконично:
– «Не только все»!
Это всем почему-то понравилось.
Тут же выпили. И закусили.
Настроение было у всех превосходным. Шёл пир наш осенний, как и всё на свете, пожалуй, как и время, своим чередом. Пир прощания? Или встречи? Пир так пир. Уж такой, как есть. Был какой-то в нём зов, замечу. И ещё – о грядущем весть.
И сказал я тогда Леонарду:
– Почитай, дружище, стихи! Ты читаешь их слишком редко. Повод есть сейчас почитать.
И тогда Леонард прочитал:
– Про старинные страданья просто странно не стараться, просто странно, не зардевшись, простоять, как перст безгрешный, среди моря и стенанья, надо выковать призванье, про старинные страданья прокричать. О, мой друг любезный, Анна! Лучше б не было дивана, лучше б не было гаданья, наполнялась долго ванна, наполнялась полно ваша, переполнилась всё ж чаша. Выключай. Про старинные страданья просто странно не стараться, просто странно и нездешне простонать напев сердешный, прокричать сорокой вешней про старинные страданья, просто странно, в одеяле закатавшись, не загрезить. Я не мог тебя зарезать. Прочь диваны, ванны! Крезом восседаю на берёзе, рассуждаю на морозе про старинные страданья. Просто страшно.
И ещё Леонард прочитал:
– Люди, опять и опять воскрешающие, ваши глаза я коплю, как крестьянка лучины ниткой вяжет в пучок! В этом затасканном мире одно остаётся – верить в себя, и одна лишь обязанность жёсткая – не порочить имени своего.
– Поистине так! – сказал, обращаясь ко всем, Довлатов, – остаётся нам – верить в себя. И одна лишь обязанность жёсткая, – тут Довлатов повысил голос, – не порочить, – он встал и закончил, – имени своего.
Получилось довольно торжественно.
Все задумчиво помолчали.
А потом, наполнив стаканы, поднялись – и решительно выпили.
Почему-то почти у всех повлажнели слегка глаза.
Вечер был исполнен значения. Высочайшего? Глубочайшего?
Мы не знали – какого именно. Мы не ведали – что и как.
Но казалось мне – дуновение уловил я чего-то легчайшего.
Света вспышку. Звук возрастающий. Не от речи ли верный знак?
И Довлатов сказал мне:
– Володя! Почитай свою новую вещь. Ту, что ночью ты мне читал. «Возвращение на Итаку».
И тогда я – всем – прочитал:
– Северной ночи сквозит перехлёст. Так далеко до звезды! Но для тебя ль не доищешься звёзд? Хоть в получасе езды! Хоть в неуменье забора обнять сад, затянувшийся долго, чудится прыть и сбывается стать летнего тёплого толка, хоть раскрывает, как сонм передряг, сосны сомненья и стадо коряг сон, не желающий знаться, – ты раскрывала ладони свои, белую смуту плели соловьи, – так же легко обознаться. В обозначении чудится стук, дверь открывающий ряду потуг, осени шепчущий, что же неровно, – всё же значение это огромно – ветер кривляется в груде бумаг, Демон старательный делает шаг, Бог небесами заведует прочно, – а на земле навсегда непорочно лист упадает и лес шелестит, кто-то рыдает, а кто-то грустит, невидаль пламени милого в лёт птицу сшибает чужую, время отважное поверху ждёт, так же себя не щажу я. Что же меня ограждало порой? Ну-ка поступки мои перерой – те позабыты, те приступом взяты – то-то утраты во всём виноваты! – так-то отринут чреду предложений, чтобы раскинуть в чаду приглашений шёлковый купол, шатёр или свойство для неуверенной сметы довольства. Так, пробивая дельфином лобастым гущу отбора мирскую, меру свою сознавал и не хвастал, плавал я, честно тоскуя. Люди, постылые скинув плащи, улицы вытянув тяжко, всё исходили – теперь не взыщи – горестно – так-то, бедняжка! Так-то за пряжею дни протекут тонким потоком сквозь пальцы, так-то иные шутя завлекут, что не досталось скитальцу, так-то сетями не выловишь ложь – много её и на суше! Так ли вслепую расстались – и всё ж души нисколько не глуше. Гложет вода круговые устои, брезжит, вовсю разрастаясь, простое, прячется сложное, дремлет гранит, что-то тревожное гордость хранит, – что притомилось и в оба не смотрит? Только ли милость без выдержки мокнет? Только ли меркнет закат с якорями? Лета раскат расцветёт фонарями – и золотыми шарами жонглёр, вкось уходящий за крыши, спор разрешит – но настолько ли спор больше надежды и выше? То ли тепло, то ли холод почуешь – словно назло, безраздельно кочуешь – пусто – да куст позарос паутиной, в поле – колосья, а в доме – картины, свечи ненужные, сбивчивый тон, тайную дружбу несёт почтальон. Дыма изменчивый призрак на воле – этот ли признак? Из Гамлета, что ли? Мел на асфальте с песчаною пылью сразу тебя познакомили с былью, даль задрожала в биноклях оконных. Что залежалось в понятьях резонных? Что же украсит карниз голубями? Любо ли глуби заигрывать с нами? Что же я видел? Всего не откроешь, яму не выроешь, правды не скроешь – краешком блажи приткнулась Европа – так-то меня дождалась Пенелопа! Нам азиатские струны бряцают, тянут к венцу и концу восклицают, мол, предназначено это началом – ах, как отзывчиво я отвечал им! Трубным призывом, судьбы громогласней, прячется в зыби, что было опасней, что заставляло сдружиться с вниманьем – как я гордился его пониманьем! Нет у меня ни уменья унизить то, что поможет поверить и сблизить дрёму прощанья с поверьями встречи – так нелегко побывал я далече! – нет у меня ни желанья обнять то, что за давностью может пенять, чуть прикорнуть – и, в углу закурив, время вернуть, нарываясь на риф. Так и живут на московской Итаке – взор отвлекают дорожные знаки, кров обретают в порыве излишнем, кровь пробегает в изгибе неслышном, море ушло, даже дверь не закрыв, бремя навязчивый стелет мотив, тянет дождём освежиться иль делом, что навсегда проявляется в целом, – нет, ненадолго вина западала солью кристалла на донце бокала, нет, не навечно тебя привечали – больше корили, небось, обличали. Ты возвратился, Улисс, так смотри же – в раже бесстыжем подёрнута рыжим совесть столицы, слегка приготовясь выслушать горести грешную повесть. Стены твои вертикально внимают, снег, перемешанный с громом, в гомоне брезжущем дом обнимает, жаждущим рвам уготован, – и Провиденье рукой повернёт святость обители старой к старости мысли и стае забот, всюду бренчащих гитарой. Боги! Иль жертвы для вас не хватает? Гривы сражений над градом летают, Троя сгоревшая брошена где-то, – и бесконечности чёткое вето всё же позволит простить повседневность: крепости – святость, а древности – ревность. Спи же спокойно, прекрасное, – то есть, может, увижу тебя, успокоясь, может, всегда улыбаясь чудесно, встанет безвестное жизнью иль песней – и, просыпаясь и в зеркало глядя, «Сколько ведь, – скажешь, – над лишнею кладью лет безутешных витает! Мы-то с тобой ничего не забыли, мы и тогда неразлучными были – любим – и листья летают». Там электричек распахнута чуть, там раскрывают, кому – позабудь, временной ласки объятья, там занимает латунь или медь, что не могло на себя посмотреть, что променяло хотя бы на треть Крыма отроги, – и так угореть не суждено благодатью. Осень, как самка, дрожа, выжидает, бор ограждает и горе рождает, снег обещает, как белую манну, – это теперь и тебе по карману. Всюду грибы вырастают нарочно, горечь растает в ограде барочной – и за узором не знаются узы с теми, кто сами не звали обузы. Муза моя затевает поверья, птицы роняют последние перья, всюду воспетое нас убеждает, прежней порукою враз побеждает, – с тем убедительней станет родное, что за стеною повёрнуто к зною, что провисало цветами нарядными и заставляло меняться парадными, лестниц ценить многодумье и доверяться колдунье. Значит, к минувшему нету разгона – так просветим же во имя закона душ улетающих пару – пахнет безмолвье знакомой полынью, глина лукавая бредит теплынью и поцелуями грезит отныне даже царица Тамара. Просто нахмуриться иль опровергнуть, просто отпетое наземь низвергнуть, просто отвергнуть ветрила горячие – так по утрам просыпаются зрячие, – просто оставить, как тень оставляют, просто, как темень, наверно, меняют на ослепительно сизый голубя взмах или города ветер, просто, как телу живётся на свете, как отвечают на вызов. Где же развязка и ставень поспешность? Так навсегда изменяется внешность у берегов – и туманит мосты, где никогда не останешься ты.
(…Я читал, – по привычке своей многолетней, закрыв глаза, – не обычными, а духовными, как сказал очень верно Пушкин, глазами читая в себе, в душе своей, многое, пусть и не всё, но действительно многое, зная, что со мною останется это, лишь со мною, без всякой огласки, что пребудет это моим, сокровенным, столь долго, насколько захочу я его сохранить, затаить, при себе оставить, пусть на время, пусть навсегда, – и видел внутренним зрением весь нынешний год високосный, со всеми его событиями, со всеми его людьми, со всем, что принёс он мне так просто и так решительно, со всеми его скитаниями, которые, понимал я, только лишь начинались и все, со всеми их сложностями, были ещё впереди, как и всё впереди ещё было, что дано было мне пережить, что вставало вон там, в грядущем, сонмом образов и видений, что могло в любое мгновенье развиваться и возникать, чтобы вновь продолжаться, в другом, начинающемся мгновенье, продолжающем предыдущее, вызывающем на себя, как огонь, мгновение новое, чтобы длилось моё горение, разрасталось, не прерываясь, продолжалось, всегда, везде, где бы ни был я, разливалось, вместе с кровью, по жилам, крепло, помогало дышать, любить, принимать всё таким, как есть, как пришло это всё ко мне, как нашло это всё меня, как и сам я нашёл его, как пришёл к нему, сам, открыто, как даровано это Богом.
Нет, это лишь начало, понимал я, таких испытаний, за которыми свет найду я – для себя, для души своей, для любви, для надежды, для веры, для особого, нового зрения, для магической, властной, светлой, ощущаемой мною музыки, ежечасно, ежемгновенно, в мире дружной со мной, для речи.
Как там я буду жить, выживать, что, пожалуй, вернее, – ничего, это дело десятое, как-нибудь с этим я разберусь, и, наверное, проживу, и, пожалуй, всё-таки выживу, чтоб суметь на земле этой грустной, в нашей, слишком уж горькой, яви, в нашей, слишком уж странной, отчизне, в нашем, слишком уж страшном, столетье, встав однажды над всем и всеми, заодно с естеством, с природой, чтобы мир свой создать, прекрасный, гармоничный, разумный, чистый, изначальное слово сказать.
И звучала всем своим новым, всеобъемлющим и всевластным, небывалым многоголосьем, над землёй, за окном, в пространстве, раздвигающемся во времени, над моей судьбой, моя осень, – и горела, не догорая из упрямства, наша свеча…)
…Вечер плескался в окна. Широкий, многообразный, раскинувшийся над столицей, над всею землёю, вечер, обволакивающий своими назревающими волнами здания и машины, знания и поступки, чаяния и помыслы, думы и воспоминания, желания, настроения, состояния, расстояния, парки с их соснами, клёнами, аллеями и прудами, леса, электрички, летящие куда-то в сплошную темь, перроны с их ожиданием, сомненья с их оправданием, и людей, людей, разумеется, столичных, провинциальных, богемных, просто людей, таких, каковы они есть, со всеми их недостатками, с заботами вовсе не сладкими, с достоинствами несомненными, с признаниями откровенными, людей, землян, современников, соратников давних, друзей, и всех, кто живут на свете, и всё в этом мире странном, и мнился он океаном, воздушным ли, галактическим ли, неважно каким, но большим, огромным, вселенским, – вечер в году високосном, осенью, когда-то, в далёкой молодости, в бессмертном её сиянии, сквозь жизнь, и судьбу, навсегда.
Ветер шумел в деревьях. Ветер. Памяти ветер? Возможно. А может быть, веры? Наверно. А может, любви? Но, быть может, ещё и творения? Постижения и горения? Неприкаянного дарения? Это он, как его ни зови. Лист звездою к стеклу прикипел. Голос вырвался вдруг на волю. От диеза и до бемоля – только шаг. Так иди! Успел? Кто узнает? Сплошной минор. Фуга, что ли? Прорывы Баха в область празднества, где без страха звук витает. А ты, Линор? Прорастание тем. Аврал средь гармоний. Соната, может? Что печалит и что тревожит? Воссоздание дней. Хорал.
Ближе к полночи – дождь пошёл. Дождь пошёл – и подобье вздоха я расслышал. Прости, эпоха. Я искал тебя – и нашёл. Я шагал к тебе – и пришёл. Ты ушла – но всегда со мною ты пребудешь, пускай иною, чем была ты. О, как тяжёл путь во мгле, наугад, – к тебе! Нить незримую я сжимаю. Связь подспудную принимаю с естеством. Ты одна в судьбе. Ты одна. Вообще одна. И – на всех, для всего, что было, что пропало, воскресло, сплыло – сквозь пространство, сквозь бездну сна, бездну смысла, пучину зла, беспредельность добра, где знаки понимания всё ж двояки, что бы радость нам ни плела, что бы ревность ни пела вновь, что бы гордость нам ни шептала. Ты со мною. В тебе – начало речи, плещущей, словно кровь.
…Господа! – (Ведь вроде бы так обращаться надо сегодня и к согражданам, и к иностранцам, и ко всем вообще, включая пресловутых инопланетян?) – Господа! И, конечно, дамы! (Потому что без них – нельзя.) Ставлю дам впереди господ. Получается общепринятое. То есть: дамы и господа!
Проза прозе – рознь. К сожалению, понимают это немногие.
Часто путают: прозу прозаика – по привычке – с прозой поэта.
Между прочим, поэтов – мало. Их – по пальцам не перечесть.
А прозаиков – многовато. Их считать – значит, всех называть.
Понимают всё это порой – в наше время – умные люди.
Вот одна редакторша славная, в очень крупном одном издательстве, прочитав одну мою книгу, вознамерилась, было, сначала, сгоряча, по неясным причинам, что-нибудь сократить, поправить, как привыкла она. И вдруг – призадумалась. И вчиталась в текст. И всё поняла. И сказала: «Если даже букву одну из такого текста убрать – всё нарушится. Это – поэзия. Надо текст оставлять в таком, пусть и странном, на чей-то взгляд, как написан он автором, виде. В этот текст никаких вторжений допускать нельзя. Издаём – в первозданном, подлинном виде».
Молодец, редакторша славная! Эх, побольше бы мне таких!
Столько прозы уже написано! Кто издаст её? И когда?
И найдутся ли тоже славные, понимающие задачи написавшего прозу поэта, суть её и её гармонию, смысл её подспудный и свет, боль её и радость её, отличающиеся чутьём и вниманием к людям, сограждане, от которых услышу я, старый скиф, слова: «Издаём – в первозданном, подлинном виде»?
Я надеюсь – они найдутся. Если так – я сам к ним приду.
Верю я, что когда-нибудь наконец мы поймём друг друга.
Нужен ключ к пониманью? Вот он.
Возражая страстно редактору против некоторых сокращений в её «Доме у Старого Пимена», так сказала Марина Цветаева:
– Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) – не фраза, а слово, и даже часто – слог… Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, приписать, по окончании, ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая, либо идёт – в посмертное… Вы не страницы урезываете. Вы урезываете образ… Ведь из моего «Пимена» мог бы выйти целый роман, я даю – краткое лирическое живописание: ПОЭМУ. Вещь уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья.
Нечего здесь добавлять. Этим – всё уже сказано.
Помните же об этом, дамы и господа!..
Не удержусь от соблазна, вспомнив их, привести здесь мысли философа Фёдорова:
– …ибо прежде нужно всё разложить, разделить, чтобы потом сложить и соединить, так как только смертью может быть попрана смерть. Нужно было дойти именно до такой глубины сомнения, чтобы только воссоздание, восстановление всего исчезнувшего и бессмертие исчезающего признать полным доказательством действительного существования, и для такого доказательства необходимо, чтобы мышление стало действием, чтобы мысленный полёт превратился в действительное перемещение.
Да, Николай Фёдорович что-то, похоже, знал.
Ну а теперь – для того, чтобы отвлечься от лирики – в прозе моей появляются сразу три отступления, или – воспоминания, или же – три истории, связанные с Довлатовым.
Поначалу – история первая.
…Петербургские улицы – горизонтали. Сплошные горизонтали.
Куда ни посмотришь – всё вдоль да вдоль, всё куда-то вперёд, в пространство.
А куда? За черту горизонта? В зазеркалье? А может, на запад? В зарубежье? Да кто его знает! Иногда и в другую сторону, на восток. А то и на север. И, представьте, даже на юг. Все четыре стороны света – для наглядного удаления. Отбывания. В никуда? Нет, конечно. Просто – куда-то. На кудыкину гору, что ли? В тридевятое царство? Дальше? В тридесятое государство?
Петербургские улицы – нити, для кого-то, может, незримые, для кого-то и различимые, что связуют в памяти ныне судьбы наши и времена.
Петербургские улицы – тайны. Все они отнюдь не случайны. Предначертанность лет грядущих – в их чертах и в облике их.
Петербургские улицы – отзвуки давних празднеств и бед немалых.
Что ни отблеск в окне – то знак.
Что ни шаг – то начало бега.
Что ни взгляд – навсегда, насквозь.
В каждой – мир, ночами не спящий, холодок иглы леденящий, глас, врачующий дух болящий, ну а то и земная ось. То-то многое началось, завязалось – именно здесь. Знать, выходит, что-то в них есть, потому что их зов сейчас – наших слов золотой запас.
Тянутся, удаляются в перспективу жаркого, зыбкого, с испарениями, стелющимися с залива хмарью неумолимой, с испариною на лбу, с жаждой неутолимой, лета – просто кошмара, лета – фантасмагории, полного встреч и событий лета, когда-то всех нас, «бродяг и артистов», заворожившего и сдружившего, лета – источника ясного света, льющегося с небес, кладезя стольких чудес, в самом деле невероятного лета семьдесят второго.
Пусть они кажутся странной, а то и безумной, с вывертом, гиперболической, может быть, геометрией. Пусть. Ну и что?
Всё – по шнурку, по линейке? Трезвость ума? Расчёт?
Но рядом Нева течёт – и что-то уже не в счёт.
Отстранённость от яви? Оптический сдвиг?
В молчанье – чаянье. Во вздохе – крик.
В квадрате – круг. Обещанье книг.
Петербургские улицы. Риск велик – позабыть их. Но помнится каждый миг – из былого. Любая – к себе влечёт из теперешних дней. Что ж, пора почёт оказать им всем! Петербургским снам неуютно здесь и вольготно там, на широких стогнах, что к рекам льнут, где кого-нибудь непременно ждут, где не рай, так ад впереди грядёт и усталый вестник во мгле идёт.
А тут – вертикаль. Да какая!
Верста, не иначе. Веха.
Поднятая в высоту суть петербургской богемы.
Человек, достающий рукой до потолка в иных из окраинных, новостроечных, тесноватых, конечно, квартир – и сознательно посягающий на такое же действие в старых, с их высокими потолками, с изразцами, квартирах в центре.
То есть – знак подающий небу.
Связь поддерживающий с землёй.
Некто, вроде живой антенны, принимающей позывные – то ли с запада, то ли с востока, то ли с севера, то ли с юга, но скорее всего – из вселенной, и, конечно, с планеты всей.
Дух, наверное, питерский. Добрый. Человек. Друг своих друзей.
Сергей Довлатов. Собственной персоной.
Мечтатель вдохновенный, окрылённый.
Достоинств – просто не счесть.
Рост – метр девяносто шесть.
В жилах его – две крови: армянская с иудейской.
Всё ему в мире – внове. А парень он – компанейский.
И, несмотря на то что он крупен, город ему не тесен.
Страсть как он любит поговорить с тем, кто ему интересен.
Выпить всегда он не прочь.
До шутки хорошей охоч.
Ну, это в порядке вещей.
Ещё он большой книгочей.
А ещё он – хороший писатель.
Душ людских не ловец, но спасатель.
И всё в нём – добротное, славное.
И это – самое главное.
…Жара. Середина июля.
Стоим с Довлатовым в очереди за пивом.
Очередь – не просто длинная, а с какими-то завихрениями, зигзагами, вывертами и дополнениями.
И если кто-то и убывает из неё, то сразу же кто-то в неё вливается, входит, как в давно и хорошо знакомое состояние, и стоит в ней, ждёт, поскольку и совершенно все в ней стоят и ждут, а чего ждут – всем понятно: пива.
Жажду все желают утолить. Вот и стоят. Вот и ждут.
И никто, между прочим, как это в Москве заведено, без очереди вперёд не лезет. Ну, или почти никто не лезет.
Это – исключение из правил. На такие выходки здесь смотрят косо. С осуждением смотрят.
И даже сразу предполагают: если кто без очереди к пиву прорывается, то, скорее всего, это не питерский человек, это – из Москвы. И нередко такие предположения оказываются верными.