Текст книги "Моя ойкумена. Том второй. Поэмы"
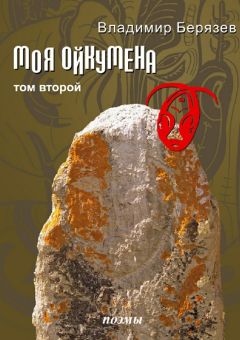
Автор книги: Владимир Берязев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Моя ойкумена
Том второй. Поэмы
Владимир Алексеевич Берязев
Дизайнер обложки Виктор Николаевич Савин
Иллюстратор Сергей Иванович Дыков
© Владимир Алексеевич Берязев, 2017
© Виктор Николаевич Савин, дизайн обложки, 2017
© Сергей Иванович Дыков, иллюстрации, 2017
ISBN 978-5-4485-0831-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Поле Пелагеи
поэма
П.Х.
Пепел, пепел – то сильнее, то слабее —
По земле, земле, землице, по стерне.
Птица пепла, птица-память, Пелагея
Плачет-молится, наверно, обо мне.
I
За четырежды девятым окоёмом,
Где в Катунь сползает пепельный туман,
Где чешуйчатой гадюкой в три приёма
Путь выскальзывает на Чике-Таман,
По-над пропастью,
Над каменным завалом,
Над белёсою опаловой рекой
Каруселью, серпантином, перевалом
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка…
Я уехал, я вернулся, я исчез…
Близко-близко, больно-больно,
жалко-жалко
Небо кинулось душе наперерез!
Всё открылось, словно не было разлуки,
Как пасхальное яичко из руки, —
В чистом поле от Кузнецка до Белухи
Колокольчики одни да васильки.
Вот она страна Муравия родная,
Лукоморья золотые берега —
В чистом небе от Урала до Алтая
Незабудок непочатые луга.
На четыре и на восемь направлений
Только воздуха пронзительная суть,
Вместо стен и человечьих поселений —
Тело беркута застыло навесу…
II
С перевала мы поедем к переправе
На стоянку под названьем Калбак-Таш.
Мы не все в саду каменья перебрали,
Нам не давит душу нажитый багаж.
Мы спускаемся в последнюю долину,
Где за Временем охотился герой,
Оленуха злоторогая молила
Здесь такою же весеннею порой:
Не пускать стрелы, не гнаться,
не тревожить
Ход времён, что заповедан испокон.
Но запела тетива, и у подножий
Трёх хребтов —
остановился ток времён.
Здесь за тыщу лет дождинки не упало.
Стал скалой гранитной
дерзостный Стрелец.
В древнем поле ожерелье из колец —
Всё курганы, всё курганы, всё курганы —
Тлен лишайника на серых валунах,
Да обглоданные ветром истуканы,
Да кочевник, что, привстав на стременах,
Долго смотрит за промчавшейся машиной…
А отвалится копыто у коня,
До пришествия Христова недвижимо
Пролежит…
И только жёлтая стерня
Стрелки пустит сквозь отверстья гвоздевые…
Старым трактом вдоль по Чуе полетим!
Пусть замкнут дозор хребты сторожевые.
Неба клок.
И ясный месяц-нелюдим.
III
Возле Чуи вечеруя и ночуя,
Буду слушать чужепамятную речь.
Шум воды.
И в этом шуме различу я
Путь души моей, что долог бесконеч…
Но…
но снова ворожит душа о тяжком
Часе!
Память, словно пламя, ожила.
И долина, словно выпитая чашка —
С каплей терпкого кумыса пиала.
Калбак-Таш, висячий камень в переводе,
Ты мне прошлое беспошлинно отдашь,
Ты такое помнишь о земном народе,
Что никто не знает верно, Калбак-Таш.
Как ушёл ледник, как вытаяло Слово,
Потекло по милой Азии тепло,
Вместо тёмного, кудлатого и злого
Светозарное сияние взошло,
Вместо мамонта – олень богоподобный,
Вместо сумрака – полуденный полёт.
Из пещер на белый свет послепотопный
Выходил немногочисленный народ.
Слышу, слышу как шумит поток зелёный,
Как грохочет в горле талая вода,
Человек по белу свету расселённый,
Эй, куда от счастья кинулся, куда?!
Луговые обнажилися террасы,
Потекли по ним весёлые стада,
Племена не разделённые на классы
Стали по миру бродить туда-сюда.
Калбак-Таш, отдохновенье у дороги,
Тишина, душе уже ни до чего,
Сколь языков, это знают только боги,
Брали воду у подножья твоего.
IV
Тишина здесь непонятная такая,
Шум порога тише этой тишины,
Камни живы, слышу в посвистке сурка я
Заунывное звучание струны.
Камни дышат, и наскальные рисунки,
Словно звёздный повторяя гороскоп,
Подставляют солнцу холмики и лунки,
Луч ловя то по касательной, то в лоб.
От волков-собак уносятся олени,
Козы скачут по отвесной крутизне,
И скрипят телеги всех переселений,
И мычат волы в удушливом ремне
И в ярме тяжёлом выйдя к водопою.
Воины стали на суровую тропу.
Остальной народ нестройною толпою
Тащит странствие земное на горбу.
Действо это не кончается поныне
И не кончится, наверно, никогда.
Я один в небесно-каменной пустыне,
Там внизу шумит, шумит, шумит вода.
V
Дом не знает духов скорби и разора,
Дом не пустит эти страхи на порог…
Но брезент палатки тонок, словно штора,
За которой я и мал и одинок.
Я на стойбище пустынной ойкумены,
С перевала и опять на перевал,
Не помогут мне ни руны, ни дольмены,
Ни любовь моя, на кою уповал.
Ветер давит, ветер рвёт тяжёлый полог,
Под полотнище чернильное ползёт,
Со скалы столкнёт невидимый осколок,
Вниз по осыпи кёрмёсов понесёт,
Над палаткой ветер тополь раскачает,
Ветки сыплются, как мелкая шрапнель,
Атмосфера всё густеет, всё дичает,
Мир скрипит, как будто севшая на мель
Баржа ветхого подвыпившего Ноя…
Время кончилось. Я выпал из него.
Я в провале, где у мрака за спиною
Нерождённое клубится вещество.
Только голос меня держит, только голос
Средь мучения, средь шума, средь борьбы,
Словно света нить иль Василисы волос
В лабиринте полупрожитой судьбы.
Голос близкий и родной,
и древний-древний,
Ниоткуда, то ли песня, то ли зов,
Ни жена, ни мать, ни ангел, ни царевна,
Ни тревоги, ни желания, ни слов —
Лишь покой и только сила всепрощенья…
Я вдруг вспомнил деревянное тепло,
Старой бабкиной деревни посещенье,
Молоко, что из кастрюльки утекло:
– Дверь прикрой, чтоб не сбежало,
Вова, слыш-ка!..
Баба Поля, Пелагеюшка моя,
Я в трикушке, я беспачпортный мальчишка
На пороге первобытного жилья.
В позаветном, изначальном, патриаршьем
Доме-облаке я вызнал всё как есть,
И не стать уже ни опытней, ни старше,
Не удобрить, не посеять, не отцвесть,
Коль не ведаешь кровей и вешек Рода…
А окликнул тебя атом дорогой,
И смиряется звериная природа,
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка,
Словно царство из пасхального яйца,
И уже и жизни прожитой не жалко,
Знаешь точно – нет у ней конца.
Эпилог
Город Энск
меня вернул к страстям и прозе,
К деньгам, деятельности, словом ко всему,
Что у клушки, копошашейся в навозе
Почитается по серцу и уму
За достойное и доблестное дело.
Я о ночи той, когда прибой времён
Стал стирать меня,
как слабый очерк мела,
Как никчёмный и почти забытый сон,
Я о ночи той не больно-то старался
Вспоминать.
Но в самый раз пришло письмо —
Мама пишет, что покуда я мотался
По раскопкам, в доме треснуло трюмо,
Из Кузнецка получили телеграмму,
Что поделать, баба Поля померла,
Вижу дату похорон, о Боже, мама,
В эту ночь она сама ко мне пришла,
И звала, и помогла пройти по кручам,
Показала бездну крови и родства,
Я, распластанный на камне бел-горючем,
Я, поверивший в могущие слова,
Был удержан, был оставлен,
был направлен
В том потоке, что теряется во мгле,
Что лишь в каменных рисунках чуть проявлен,
Что начало получил не на Земле,
А в каком-то нам не чуждом измереньи,
В чистом поле – бабы Поли зеленях…
О коровушке, о хлебе, о смиреньи,
Об июльским солнцем залитых сенях,
О простом и неизбывном чуде Рода!
Я уехал, я вернулся, я воскрес.
Есть одна – непобедимая свобода —
Слушать волю животворную Небес!
Никогда бы я о том стихом не вспомнил,
Сокровенный опыт дорог и сокрыт.
Звёзд,
ни лирика, разбитая о быт
Ни архангелы поющие,
Ни сонмы
Не тревожат во мне смутного стремленья
К стихотворчеству,
к маранию листов.
Но недавно…
Это было проявленье
Тех же сил,
и знало этот же исток.
Пела девочка.
И голос был всё тот же,
Только чище и сильнее, и древней.
Девяти годов.
Опять!
Мороз по коже…
Пелагея.
И всё прежнее – при ней.
апрель 1996, г.Новосибирск
Булавка
Грез завсегдатаи —
Мы и не знали закона,
Мы заклинали судьбу о продлении сна.
Вдруг я очнулся:
Взяла зажигалку икона,
Газ запылал,
она факел к глазам поднесла.
Вспыхнули очи.
Младенца огнем затянуло.
Он только крепче прижался к родимой щеке.
Пламя по алой порфире
на грудь соскользнуло
И запле-
пля-
пле-плясало на белой руке.
Стой, Богоматерь!
Отдай мне мою зажигалку.
Господи-Боже,
ну, кто ж теперь крест понесет?
Сон обратился
в гнилую чадящую свалку.
Стол задрожал
от предчувствия желчных икот.
Звякнули ложки.
И рюмка скатилась под лавку.
Черную доску
заткали в углу пауки.
Все что нашел —
на полу золотую булавку
Да белоснежный дымок непорочной руки.
Выстыла печь.
За окном одиноко и мглисто.
На чердаке домовой непохмельно мычит.
Высохла килька,
испортился «Завтрак туриста»,
Помер Гефест,
продырявился ядерный щит…
В левом углу
сквозь экран гомункулус плешивый
Что-то бубнит
и пытается цифрой замкнуть
Вечный пожар…
Но мы живы, поганец, мы живы!
И сквозь огонь
наш последний единственный путь.
Пусть твои дьяки
навыворот Слово читают,
И говорит о добре механический гроб.
Вот заикнись лишь о совести,
выкормыш стаи,
С бранью бутылкою бросит в тебя протопоп.
Уж Аввакуму на полке аукнулся Клюев,
С тихим смиреньем зарей занялась купина.
Игорев лебедь
несет землю Родины в клюве,
чтоб в океане ином возродилась она…
Никнет сирень под росой.
Отсырело полено.
Даже две мухи уснули в стакане на дне.
Только булавка
горит на ладони нетленно
Напоминаньем
о нашей нетленной вине.
Что же мне делать?
Убог я и деда не помню.
Может быть, за море сгинуть,
а дом подпалить?
Может, зарыть золотинку в ограде у комля
серебристого тополя?..
Или же проще пропить?
Справа ломбард.
Напрямую живет участковый.
Слева Хазанов – известный в народе дантист.
Что же мне делать
с булавкой твоей лепестковой,
Капелькой неба,
упавшей на вянущий лист?
Благодарить?
и хранить?
и с любовью молиться?
Но для молитвы, как минимум, надо иметь
то, чем душа возгорится
и умилится —
Ту безоглядность,
которой не ведома смерть.
Мы, одичав,
без прививки уж не плодоносим.
В уши мамлюка
не дозваться родным голосам.
О, Матерь Божья,
обрежь свои девичьи косы,
Мы позабыли пути к золотым небесам.
Тихо в избе.
Баба Поля давно на погосте.
Серою поступью
тронулись в утро кусты.
За поворотом
стучат командорскою тростью.
Тихий скулеж
из соседской звучит темноты.
Пса кличут Фустом.
Он дрожит от соседского стука.
Страшно, кобель?
Так ползи же к хозяйским ногам.
Как мне знакомы
холодные руки испуга,
Лихо глядеться
в пустые глазницы векам.
Страшно, кобель.
Ты сегодня вдвойне одинокий:
Не разделю
я твоих инфернальных скорбей.
Теплится весть
на последнем безумном пороге.
Катится жизнь,
как священный жучок-скарабей.
Бабушка Поля приходит,
садится на лавку,
Пальцем маячит, сквозит, улыбается мне.
И все глазами, лицом —
про святую булавку,
И все про деда,
чей профиль висит на стене.
Я посажу ту булавку
в горшок на оконце,
Охрой полью,
купоросом и горькой сурьмой,
Может быть, вырастет
синего неба иконка
С той, золотою по краю,
чеканной басмой.
Дервиш
поэма
I
В одной разрушенной мечети
Жил полудикой муэдзин11
Мой герой ежедневно призывает к молитве Аллаху всех пустынножителей, все Божьи твари.
[Закрыть],
Блаженный, словно божий сын,
Совсем один, совсем один…
Там в пыльной мгле дышали сети
Зеленоглазых пуков,
Жил шорох царственных песков,
И крики сов, и крики сов…
Ему служил седой тарантул,
Ему несли дары свои
И голуби, и муравьи,
И две змеи, и две змеи…
Как дивно змеи стих Корана,
Подвластны старческой руке,
Чертили вязью на песке!
А в том стихе —
ВСЕ в том стихе.
И длился зыбкой сон пустыни…
Как слюдяные витражи,
Дробились в далях миражи —
То бред души, то рай души.
А дервиш спал, одетый в иней,
А дервиш знал, как благ сей дар,
Вставал, шептал: «Ты жив, Омар.
Аллах акбар! Аллах акбар!»
II
О, было так.
Пока однажды
В сухую глушь, пустую тишь
Не пал беглец вражды и жажды:
Как пыльный шелест, сон-камыш
На месте озера былого,
Как перекати-поля куст,
Надтреснут,
высушен
и пуст —
То ль звон зурны,
То ль эхо слова —
Он был чужим в дому Аллаха…
Но хлеб,
Но чистая вода,
Но рис,
но теплая рубаха
Нашлись у дервиша…
Звезда
На шапке пришлого алела,
Пятном неведомой войны.
И зябло высохшее тело.
И обезумевшей страны
Свистящий бред услышал дервиш
Из уст обугленных и злых:
– Богов дрожишь…
Богатых терпишь…
К ответу их! К ответу их!
Я сам творец земли и неба.
Я сам велик, как Магомет.
На всех достанет жен и хлеба
На тыщу лет…
На тыщу лет…
Но змеи так же стих Корана
Чертили вязью на песке,
Плыл город-призрак вдалеке,
И дух эфедры и шафрана
Струился с каменных равнин
Сюда, в пустынную обитель,
Где бредил раб… или грабитель…
Герой,
безумец,
сукин сын…
Молился дервиш, клал поклоны,
Целуя нежный жар земли,
Стелился в прахе и в пыли,
Оплакав древние законы,
Оплакав «да»,
Оплакав «нет»,
Добро и зло:
– О, все смеркалось —
О серый дым, о сумрак-хаос!
Придет ли внове Магомет…
Господь велик, Господь велик
И милосерд, как дождь весенний!
Пусть
В полночь смут и средостений
Воскрикнет вороном кулик.
Пусть дэвы воют из огня,
Пусть скорпионы бьют хвостами
Из яда, бешенства и стали,
И, страхом землю накреня,
Пускай смеется и пирует
В крови дехканина шайтан.
Низринется земной султан,
Его бесстрастно поцелует,
Объяв крылами, Азраил.
Но только, Боже!
только, Боже!
Всех, кто безумней и ничтоже,
Прости, как Ноя ты простил!..
IV
ПРИШЕЛЕЦ
(приходит в себя и, открыв глаза,
снимает шапку):
Я жив, отец?..
ДЕРВИШ
(глядя в сторону, глухо)
– Шакал тебе отец.
– Я жив, отец, и даже силы чую.
– Ты помрачился разумом, пришлец,
И душу сжег гордыней…
Я тоскую.
Иса – пророк. И Мухаммад – пророк.
И оба были просто человеки.
И ты бы мог.
И я бы тоже мог.
И так должно быть присно и вовеки.
Свободны мы для счастья и любви.
Мы братья все – от Рима до Китая.
Что хочешь – строй!
Где хочешь, там живи…
– О, простота, воистину, – святая!
За что Аллахом изгнан был Иблис? —
За то, что не склонился пред Адамом.
А чем живет чинары юный лист? —
Молитвою о благодатном самом:
О солнце, об арыке у корней,
О песне птиц, о материнской ветке,
И чтобы (это осени страшней)
Душе не сгинуть в ураганном ветре.
Тебя ж давно сорвало и несет,
Ты позабыл о доме, как о дыме.
Ты знал рабов, но это не народ.
Бродяге ли мечтать о благостыне?
Ведь ты ни перс,
ни рус,
ни армянин!
Тебе не барс, а вошь худая служит…
– Но пробил час всемирных именин!
Старик, нас буря общая закружит.
Распустим вмиг мы Аль-Корана сеть,
Соткем стихи святей и веселее!
Мы разберем одряхлую мечеть
И будем строить чудо-мавзолеи.
V
ДЕРВИШ
(запрокидывает голову,
как от удара камчой по лицу)
Остановись, пришелец неверный,
Язык твой – скверна и хула.
Увы, грехи твои безмерны,
Безверье страшно… О, Алла!
Чего не знаете – не троньте.
Не бередите сон углей.
Очнутся демоны на троне,
Сорвутся страны с якорей.
От Индии до Гибралтара,
От эфиопов до Москвы
Такие вызреют удары,
Такие выроются рвы!..
Пусть у пророка в изголовье
Уснут библейские поля!
Ведь черной кровью, жирной кровью
Полна исламская земля.
Когда с раба содрали кожу
И расспросили о судьбе,
Он, весь объятый смертной дрожью,
Сказал, пришелец, о тебе —
Что ты придешь непобедимо
Разрушить времени мечеть.
Но мать в любом неизгладима.
Душа не в силах умереть.
Когда в сосуд с кунжутным маслом
Влез доброволец – растворить
Себя до мышц нагих и красных
И гайб таинственный узрить.
Он растворился…
Погибая,
Он вынут был, и начал зреть,
И зрел уже сквозь двери рая:
Земля – сгоревшая на треть.
Земля – покинутая Богом.
Земля – распятая тобой.
Он рассказать успел о многом:
«Не спорить, нет! – дружить с судьбой
Придется людям, чтобы строить
Град Добродетели Святой».
А сколько это будет стоить?
Вопрос пустой…
Вопрос пустой…
VI
Тот спор был короток ли, долог —
Не знаю: час или года.
Но дрогнул Полог, дрогнул Полог,
Такой незыблемый всегда.
Звезда полночная скатилась,
Задев ущербный минарет.
Волчица, словно спохватилась,
Завыла, потерявши след.
Змея ушла на дно колодца.
Ожили бабочки, цветы.
И можно было уколоться
О серп хрустальной чистоты.
В песок и в сон ушла беседа.
Но —
конский топот, храп и страх —
Бойцы ислама, моджахеды,
Во двор ворвались на рысях.
– Он здесь! —
воскликнул темный, тонкий,
Как ель тянь-шаньская джигит.
Упруго хрустнули постромки,
И жеребец уже хрипит,
И – на дыбы,
И – бьет копытом,
И сабля, описав дугу,
Как птица-чайка, с криком сытым
Вонзается в лицо врагу.
– Эй, дервиш, убери собаку!
Да закопай, чтоб не вонял…
И дай нам анаши и маку!..
Ты что как в рот воды набрал?..
VIII
Молчал монах.
Был нем осколок
Того, кто мнил, что он велик.
Что видел он, пройдя за Полог
В единый миг?..
В единый миг…
И из очей в раздумье странном
Струился в космос Божий дар.
И затихало за барханом:
«Аллах акбар! Аллах акбар!»

Свистульки
гуннская легенда
Шаньюй22
Князь, вождь (гунн.)
[Закрыть] Тоумань не любил перелета фламинго,
Их странный призыв раздражал его грузный покой.
Он жен покидал для охоты лишь иль поединка.
А с кем он сражался?
И кто он, позвольте, такой?
Позволю, позволю!.. Далеко за дальнею далью,
На севере желтой, как море, империи Хань
Жил смуглый народ, воспевавший осанку маралью
И солнечный вымах рогов в поднебесную рань.
Когда это было?.. Цветами окуталась Гоби.
Жена увидала тамгу божества наяву.
И первенец князя светло ворохнулся в утробе,
И пал, словно сокол, из лона в степную траву.
Медлительно тая, зенит огибали фламинго.
И хриплою птицей в коленях младенец кричал.
И синею змейкой вилась по траве пуповина,
И камень горячий любовную мгу источал.
А мир кочевал по пологому скату вселенной.
И кони дышали. И овцы текли к озерцу.
Шаньюй Тоумань, будь же славен
сей вестью моленной!
Под клики родни быть отцом тебе нынче к лицу.
Ай, княжия кровь, словно свиток огня в катапульте:
Гарцуя, он вырвал – как стон из немотной души —
Из горла стрелы две на шелковой нитке свистульки
И бросил шаману: «Вот этим пупок завяжи!»
II
Свистульки-пустышки! – прозрение Рыжего Хунна—
Степь в белых костях, но познал лишь великий Ата
Начертан скелет, как всесильная гибели руна,
А в трубчатой тьме и в глазницах свистит пустота.
Свистит пустота на изломе в сухой камышине,
Свистит пустота за распущенным конским хвостом,
Свистит пустота между скал на безлюдной вершине,
В отверстье нетопленой юрты и в сердце пустом.
Есть в свисте безумье!
Поэтому темен и жуток
Свист мыши летучей и мах над поляной ночной.
Свист жизни дрожанье,
разлад,
свист – лихой
Как трещина неба – разъятье в хаос глубиной.
Он может сорвать с поднебесья седую лавину,
Гремящим драконом обрушить на дол камнепад,
Владеющий им перережет ножом пуповину,
И духов сразит, и врагов опрокинет назад.
Все это постиг в своем сердце божественный предок,
Сын Неба-Тэнгри, рыжекудрый премудрый Ата.
– Пусть свистом владеет кто воин, кто храбр и меток,
Пусть в жилах китайцев сквозит мертвецов пустота!..
Он кость просверлил, чтоб зияло безумие свиста,
И выточил шариков крохотные черепа,
К стреле привязал и пустил ее во поле чисто,
И в этом полете свершилась народа судьба.
III
Эгей, Маодунь!
Быстроногий порывистый княжич,
Зачем ты глядишь, как фламинго плывут в вышине?
Ты быстро подрос. Но тебе не уйти из-под стражи.
Ты должен погибнуть заложником в скорой войне.
Ты отдан посольству могучих и доблестных саков.
Ты предан отцом за неверный и призрачный мир.
Есть младше наследник…
Но, Боже, как мир одинаков!
И в стане врагов те же юрты, и овцы, и сыр,
И тот же кумыс.
Только люди светлы, белолицы,
С глазами, как небо..
Но Небо одно – тут и там.
Шаньюй здесь печален – вдруг выпало сына лишиться,
К отшельникам скрылся он. Звали его – Гаутам.
Эгей, Маодунь!
Птицы счастья на Западе тают.
Где стрелы твои? С костяными накладками лук?
Как сладко мечтать раздробить эту дивную стаю
И бросить добычу невесте на свадебный круг.
А розовый пух источает прохладу и негу,
Не роскошь китайскую, чистоту ледников.
Чьи стрелы пронзят птиц Востока
– так было от веку, —
Тот Степи предстанет первейшим из женихов.
Как томен напряг тетивы под коснеющим пальцем,
А лунный изгиб тонкой луки девически строг.
Неужели, княжич, остаться тебе постояльцем,
Чужим среди чуждых, холодным кострищем у ног
Грядущих кочевий?..
Какие несметные силы
В тебе и в земле, что упорно сжимаешь в горсти!
Ты вскормлен златым молоком полудикой кобылы!
Ты свистом повязан, свисти же, наследник, свисти!
IV
Так было у сизых предгорий на дальней стоянке.
Увидел во сне Маоудунь стаю белых собак,
Их круг замыкался на волке, на сером подранке,
Их пасти цвели, языки окунались во мрак.
И видел еще, как по краю вечерней долины
Зарезанный скот уносили на холках своих
Разбойные тени, сородичи волчьего сына…
И княжич очнулся:
– Тесна стала Степь для двоих!
Но рано, но рано, отец, нам с тобою прощаться.
Я слышу, как почву колышет твой верный тумен.
Мне тоже приспела пора в долгий путь собираться.
Кровавый набег твой – предвестье больших перемен.
Он в ночь ускользнул и коня прирученного свистнул.
(Чрез бездну веков так же Игорю свистнет Овлур)
Как лист пред травой!
И – верхом! – по дороге в Отчизну.
– Отец просчитался…
Но чур меня! Чур меня! Чур!..
Разделит добычу – кто доблестно саков ограбил.
А храбрый наследник получит под руку отряд.
Шаньюй Тоумань будет править,
как раньше он правил.
А княжич не рад?
Отчего же, по-моему, рад.
V
Чем тешится княжич с подручными воями ныне?
В горах, на охоте он мечет в засохшую ель
Свистящие стрелы. А после, на черной осине,
Подвесив козла, указует на новую цель.
– Вы видите, я вынимаю стрелу из колчана,
Из желтой бересты в узоре цветного шитья,
Ее острие, как тугое соцветье тюльпана.
Зажгите тюльпаны! Разбейте о кровь острия!
Лишь тот победитель, чья воля с полетом едина,
Лишь тот победитель, кто крепит дружины крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб поле тюльпанов из тучной земли расцвело.
Стреляйте по звуку! Я начал. Стреляйте по звуку!
Туда, куда скажет родная свистулька моя.
А кто опоздает, тот сам пусть винит свою руку —
Он кисти лишится. И праведна кара сия…
VI
Так тешился княжич. А время из раны сочилось.
Луна кочевала, серебряной сбруей звеня.
В коротком походе однажды добыча случилась —
Ему привели в поводу золотого коня.
Он был как осенняя степь в переливах заката.
Он был как сияние славы на грозной броне.
А глаз оплывал всею тайною глубью агата.
А ноги – как стон тетивы в голубой вышине.
Крылатый Турана питомец, Дня Белого образ —
Достоин его Маодунь. Только чур его! Чур!
Вот сотник глядит на коня и темно и недобро…
– Эй, прочь жеребца! – крикнул княжич. —
Кто скучен и хмур?!
Лишь тот победитель, чья воля с полетом едина,
Лишь тот победитель, кто крепит дружины крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб родины тело тучней и обильней цвело.
Стреляем по звуку! Я клятвы своей не нарушу!
Туда, куда скажет пустая свистулька моя.
А кто опоздает, пусть Богу несет свою душу —
Он жизни лишится. И праведна кара сия…
И прыснули стрелы! И духи над бубном запели!
Раздался состав воздухов. И в мертвящей тени
Заржал жеребец. И возжаждали плоти и цели
Трехпёрые жала, налитые свистом слепни.
Вонзились. Заплакал Туранец и хрипло забился…
Но были такие, кто лук натянуть не посмел:
Задумчивый сотник, и всяк из них, жизни лишился…
Над каждым курган.
А отряд по степи прогремел.
VII
Зима обступила без грома победы и клича.
Морозный туман пеленал молодую Луну.
В далеком походе случилась другая добыча —
Бойцы привели ему в дар полонянку-жену.
Она была вся как фламинго в полете высоком,
Казалось, взмахнет и уйдет, огибая зенит,
В заоблачный мир. А во взоре ее волооком,
Все чудилось – горный ручей колокольцем звенит.
Как томен шатра белоснежный напруженный полог!
А бисерный ток ожерелий меж лунных холмов
Вот-вот и размоет рассудка последний осколок,
Размякнет костяк от свистящего пламени слов.
И кто здесь кого полонил ли пленил – непонятно.
Снега пуховые упали на брачную Степь.
На стойбище зимнем, как шорох мышиный, невнятно
Вдруг ропот возник, и военная дрогнула крепь.
И волки дерутся во время весеннего гона.
И бьются маралы в горах на заре сентября.
Со страстью рифмуется кровь.
И лишь только ворона
Над трупом вещает свое богомерзкое: «Зря!»
Но княжич услышал разлад и дрожание стана.
На лисью охоту он кликнул поутру отряд
И вывел из юрты княжну, как луну из тумана.
Верхом – на просторы!
Там звезды над снегом горят
Почти до полудни… – Скачи же, жена молодая!
Веселье и снег так прекрасны на зимней заре.
Пух Неба растает… А ты, моя верная стая,
Воспомни, воспомни о прежней жестокой поре:
Лишь тот победитель, чья воля и вера едины,
Лишь тот победитель, кто крепит дружины крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб родины тело тучней и обильней цвело.
По звуку стрелять! Я заклятья и здесь не нарушу!
Туда, куда скажет родная свистулька моя.
А кто опоздает, пусть сразу несет свою душу
К вратам подземелья. И праведна кара сия…
И прыснули стрелы! И духи над бубном запели!
Распался состав воздухов. И в безумной тени
Княжна обернулась… Не знали ни смысла, ни цели
Трехпёрые жала, налитые свистом слепни.
Вонзились!
С пробитым соском и растерзанным горлом
Она удивленно и тихо восплыла в зенит.
А лошадь кружилась,
кружилась и бегала во поле голом.
И беркут лишь видел,
как меч нерешительных воев казнит.
VIII
На крупных рысях проскакали еще одну главку:
Лишь камни да кровь,
конский топот да порох снегов.
Настала пора возвращаться в шаньюйскую ставку.
Настала пора окончания долгих стихов.
Отряд поредел, но клинок отковался на славу.
Лишь знак – и до дна рассекается надвое зга.
Такие мужи впятером сотрясают державу,
А дюжина их прожигает дружину врага.
Наметом, наметом! Ни жен, ни тяжелой поклажи…
Навстречу – табун. И табунщик ведет жеребца.
– Друг, чей это конь?
– вопрошает приветливо княжич.
– О, храбрый наследник, он твой, а точнее, отца.
– Он мой и не мой, словно соболь за пазухой вора.
Я сын и не сын, так, глядишь, не посадят к столу.
Не будем делить, разделенье – начало раздора…
И с мраком в очах Маодунь вынимает стрелу.
И все повторилось, как было с подарком Турана.
Под молнией свиста упал Тоуманя скакун.
Табунщик бежал, весь от страха белее тумана.
По древней террасе рассеялся рыжий табун.
Никто не замешкался. Птахи кровавые хором
Взошли и зарылись в горячие недра коня.
– Дождался! – вздохнул Маодунь.
И взглянул без укора.
– О, всадники славы! Сам Бог направляет меня!
IX
Час пробил! Час пробил! Судьба меня не зачурает,
Иначе от жадности сгинет держава моя.
Вы слышите, волк за оврагами зорю играет?
Пусть ложь истребится! И праведна кара сия…
…С колчаном распоротым схож серый труп Тоуманя,
А рядом, вповалку, – советники, мачеха, брат.
А новый шаньюй восприемлет присягу признанья,
И грозно молчит возле князя стосвистый отряд.
Но сказ не закончен.
Ревут и верблюды, и яки.
Тревога в стадах и кочевьях. Про смуту в орде
Узнали китайцы, дунху, и юэджи, и саки,
И волны захвата пошли, как круги по воде.
Отдай, Маодунь, две реки с побережьем Бай-коля.
Алтунскую чернь уступи или будешь разбит.
Пустыню отдай с выпасами и озером соли…
Посольства наглеют, и драка вот-вот закипит.
Война уже скалится. Даже на сходе старейшин
Седые мужи предлагают судьбы не пытать.
– Будь проклята трусость!
Так что же – земли будет меньше,
И вмиг на границах рассеется хищная рать?!
Земля – это плоть, это мышцы и кости народа,
Земля, словно вымя, сосуд присномлечной души,
И сумрак долин, и хребтов тишина и свобода,
И предков покой – нетревожим и несокрушим.
Земля – и тамга Божества, и основа Державы.
Уж лучше погибнуть, но землю и честь сохранить.
А вы – отдавать,
не хлебнувши ни крови, ни славы.
Всех, всех, кто хоть слово промолвил об этом —
Казнить!
…Полки уходили в поход, и колчаны скрипели
Десятками тыщ истекающих яростью жал.
А князь горевал: «Не избегнуть кровавой купели…»
Подумал и…
крепко свистульку к стреле привязал.
Лишь тот победитель, чья воля и вера едины,
Лишь тот победитель, кто крепит Державы крыло,
Лишь тот победитель, кто бьется за Мать и за Сына,
Чтоб Родины тело тучней, изобильней цвело…
X
Еще семь веков на земле было слышно о гуннах,
Но ветры изъели во прах Маодуня завет.
Его отголоски ищите в курганах и рунах,
Средь каменных книг тех
и большее сходит на нет.
Оленное солнце!..
Но старая мудрость забылась,
Не стало земли…
и сказаний,
и песен,
и снов.
Осталась жестокость,
что валом на Запад катилась,
Остался лишь свист,
что Европу прожег до основ.
Новосибирск1990 год, декабрь










































