Текст книги "Между двумя романами"
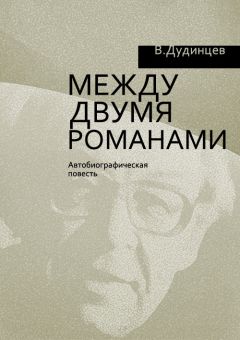
Автор книги: Владимир Дудинцев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 7
Проталкивание романа в журнальных редакциях. «Полированное хождение»
Как-то Симонов, тогдашний редактор «Нового мира», при случайной встрече говорит мне:
– Нет ли чего поострее? Тут я свой пирог и вынул из печи. Надо сказать, что я свой роман писал с опаской, никому не говоря об этом, боялся, что меня посадят: слишком неординарные высказывались мысли, крамольные даже… поэтому и держал все в тайне, хотя обычно писатели не могут умолчать о своей работе, есть такой грех. Но к тому времени настроение приподнято-праздничное после XX съезда – роман я уже почти закончил и даже перепечатал на машинке. Отнес его в несколько журналов, ну и в «Новый мир», конечно. Почему по нескольким редакциям? На это у меня были свои причины.
Когда я принес «Не хлебом единым» в журнал «Октябрь» в бытность там главным редактором Храпченко, то мне отказали в печатании этой вещи. Отказали с жестами брезгливого возмущения. Все члены редколлегии встали, а я там тоже сидел – я тоже встал, и все, стоя, проголосовали против печатания моего романа, как то предложил впоследствии Герой Социалистического Труда Храпченко. И даже Замошкин, которого я уважал, который мне, прочитав роман, написал письменное восхищенное заключение и лично вручил. Он тоже, стоя, не глядя на меня, а глядя на Храпченко, проголосовал против печатания.
А Симонов схватил роман, как окунь хватает блесну. Он быстро прочитал… окунь тоже, так сказать, прежде чем схватить блесну, интересуется ее блеском. И не успел я закинуть свою уду, как поплавок пошел ко дну. И заработал весь журнал. Заработала вся редколлегия.
В «Новом мире», однако, несмотря на почти единогласное одобрение редколлегии, все же нашлись голоса, выступавшие против. Борис Агапов, член редколлегии, стал ярым противником моего романа. В голосах противников была слышна опасность. Она прямо загремела, когда я встретился с Агаповым в его кабинете. У него было странное чутье – ведь никто еще не запретил этого произведения, а он все предвидел и доказал мне, как глубоко сидит в некоторых внутренний цензор. Он уже построил в своем сознании будущий запрет и последствия, которые ждут каждого, кто посмеет через него переступить. Борис Агапов испугался этих последствий. Я полагаю, что тот пряник, который он как член редколлегии сосал, был достаточно сладок. Вот Агапов и вступил в конфликт со всей редколлегией; он увел меня в этакую редакционную клетушку, вызвал туда стенографистку и под ее запись размеренным голосом начал перечислять мне свои возражения против романа, свое особое мнение, сугубо отрицательное. И прямо как в воду глядел: он перечислил все, за что меня в последующем били, что мне инкриминировалось, а еще позднее – вменялось в заслугу. Но это уже в наши дни, когда началась перестройка. Черты, которые входили в состав моего преступления, они же вошли в перечень моих достоинств…
И еще там были люди, струсившие, из-за чего Симонов замедлил немножко процесс глотания блесны. Напугать сумели и этого прогрессивного редактора. Он мне написал – «фрондируете?» – письмецо.
Я побежал в альманах «Москва» к Казакевичу. У меня не было обдуманного намерения. Меня погнал какой-то бес, который управляет несчастными авторами, я полагаю, многими, если не всеми. И не только авторами, но и изобретателями, всякими зачинателями. Дело в том, что прогресс – это такая вещь, которая старается пробиться. Вот, как говорят: «Вода дырочку найдет». Примерно вот так ведет себя и прогресс.
Я побежал и отдал Казакевичу еще один экземпляр романа. И Казакевич… Сейчас нет таких редакторов. Сейчас надо редакторов при помощи хитрости залавливать на чтение твоего произведения. А раньше: Симонов, Казакевич это были редакторы… И Твардовский… Которые сидели в своих редакциях, как окуни за сваей, и пристально смотрели, не плывет ли какая-нибудь плотва. И сейчас же молниеносным броском кидались, хватали ее. Они все были настоящими редакторами, агентами подлинного прогресса. Высочайшие люди…
Казакевич взял и сразу начал читать. Там тоже поплавок сразу пошел на дно. Не то что в «Октябре». В «Октябре» какая-то муть, поплавок ходил, подрагивал, что говорит о том, что там собралась, в этом болоте, мелкая уклейка, которая теребила, теребила наживку, теребила, и так никто и не сумел взять, потому что там не было крупной рыбы. Хоть сейчас он и увешан орденами, Храпченко, это все равно уклейка. Это не благородный окунь в два килограмма.
Ну вот, схватил. Поплавок пошел ко дну, прочитано было за сутки! За сутки было прочитано! Я уж не знаю, думаю, у него были дела. Дела отбросил.
А потом Казакевич мне и говорит:
– Дорогой Владимир Дмитриевич, не могу печатать. Не могу. Невозможно печатать. Слишком опасно. Вещь не пройдет.
Между прочим, спустя 7-10 лет одно Лицо, произношу с большой буквы, говорит: «Никаких ошибок не было» – и 150 тысяч в Гослитиздате, а потом, через 5–6 лет, еще 150 тысяч в «Современнике», в льняном переплете, на прекрасной бумаге, без малейшего изъятия – нигде не вычеркнуто ни слова. Что такое? Такой короткий кусочек времени прошел – и все иначе. Другое отношение. И уже окунем не надо быть. Понимаете? И уже уклейка берет и печатает.
Значит, было время, когда люди консервативного толка, тормозящие прогресс, составляли большинство и формировали мнение. И я полагаю, что не только в литературе, но уж во всяком случае в изобретательском деле. Тут уж наверняка. А после написания своего нового романа я, как изучивший этот предмет, могу сказать, что и в области биологии была такая же картина. Окуней били, а уклейка вовсю шебаршила на поверхности, с испуганными глазами что-то молола, создавая тот характерный шум, который и останавливал движение жизни.
Вот, значит, этот шум подействовал на Казакевича, который сначала проявил бойцовские черты – он был окунем, правда, поменьше размером, чем Симонов. И я ему говорю: «Эммануил Генрихович, давайте не спешите громко говорить, что вы не печатаете роман. Не спешите, выслушайте меня. Вы человек не старый. Вы полны интереса к жизни. Давайте сделаем так. Вы выходите в редакционную комнату, где сидят ваши редактора, и говорите: «Я уезжаю с Дудинцевым к себе домой на два дня. Мы будем редактировать его роман для печатания в нашем альманахе». Вот и все. И уедем на два дня. Эммануил Генрихович, – говорю я ему, – коньяк мой, – говорю. – Мы с вами хорошо проведем время. А потом вы мне отдадите роман и печатать не будете. Но сделайте, пожалуйста, вот такой скачок, который вам ничем не грозит».
Он засмеялся. Он был живой человек. Это была пора живых людей. Вышел и сказал эти слова, потом с важным видом меня – под руку, взял под мышку роман, и мы вышли на глазах у всей изумленной публики, которая уже каким-то образом знала, что это за роман. И уехали к нему. Он в Лаврушинском переулке жил. Беседовали там. Всякие вещи говорили…
С Казакевичем нельзя было не считаться. Он был крупной величиной в литературном мире. И если уж он обратил внимание на мой роман, то это был еще один положительный голос. Надежно уравновешивающий протесты Бориса Агапова. Мой дьявол, который подсказал мне этот ход, знал, что делает. Предвидел… Шпион немедленно донес в «Новый мир», что роман «Не хлебом единым» «у нас уже готовят к набору». Немедленно кто-то позвонил или телеграмму послал в Гагру или куда-то там на Кавказ, где у Симонова была дача.
Спустя много лет в Доме творчества в Пицунде нам с женой рассказал о том, что творилось с Симоновым в тот день, поэт Евгений Елисеев. «Мы, говорит, – сидим, и еще кто-то там, и раздается звонок. Да, это был телефон. Симонов подошел, ему звонят из Москвы, из редакции «Нового мира». И вдруг он прямо-таки встал на дыбы, начал кричать».
Я тут, отвлекаясь, задаю вопрос: кто из современных редакторов толстых журналов способен «встать на дыбы»? Они все вальяжные люди. Все спокойные. Для них нет таких новостей, литературных, конечно, – которые были бы способны их, так сказать, взвинтить.
Симонов вскочил и начал кричать, и мой поэт понял, что речь идет о каком-то Дудинцеве. О каком-то романе «Не хлебом единым». Он это запомнил и через 30 или, там, 28 лет мне рассказал. Столько лет помнил. Значит, столь впечатляющим было поведение Константина Михайловича. И что он кричал? Он кричал: «Немедленно засылайте в набор! Сейчас же чтобы был заслан в набор!» И роман был заслан в набор в «Новом мире». Тут же он сел и написал письменный протест в секретариат Союза писателей с жалобой на Казакевича, который переманивает авторов «Нового мира». Какие были люди! Какие радетели литературы! Что были за богатые натуры, что за характеры! Одним словом, роман там пошел.
Вот какой был ажиотаж и какой базар вокруг этого романа. Третья часть еще лежала на письменном столе без конца своего. Отправил в набор то, что есть, а третью часть я срочно закончил и передал. И редактор Закс Борис Германович… Прекрасный редактор! Чудо-редактор! Он у меня ее принял. Вещь уже набиралась, а зашла речь о поправках. Я, как водится, страшно уперся, потому что я вообще всегда пишу, как-то сильно обдумав и уже прошептав фразы себе под нос. Я, когда пишу, всегда шепчу. И Наталка моя говорит: «Он шепчет». И радуется – значит, пишу. А когда шепнешь фразу, то ей придается разговорность, какая-то особая стилистическая разговорная законченность. Мы, когда разговариваем, обычно хорошо оформляем свои фразы.
Правки Закса и Симонова были стилистические. Правда, две правки были политического характера. Там в конце у меня главный герой выходит на балкон ресторана, заснеженный. И он видит перед собой огни Москвы. Это происходит примерно где-то возле гостиницы «Москва» – ресторан на чердаке. И оттуда сверху очень много видно. Все в огнях. И он ночью глядит, опираясь на покрытую снегом балюстраду, и задумался… и запел из «Хованщины»: «Стонала ты под яремом татарским. Шла, брела за умом боярским… Престала дань татарская. Пропала власть боярская. А ты, страдалица, стонешь и терпишь…» Вот такие слова он загудел из «Хованщины». После чего закрыл рот, и, так ему говорил когда-то Бусько, он произнес какую-то клятву сам для себя, памятуя, что клятвы на людях – они неисполнимы обычно бывают. Потому что человек, поклявшись на людях, одновременно и получает плату за то, что он так гордо, красиво поклялся, а когда клянешься сам себе, то если эту клятву не исполняешь, ты, таким образом, оказываешься сам перед собой в чем-то человеком нравственно несовершенным, и эти угрызения тебя хоть немного, да будут донимать. Вот он такую клятву молчаливую произнес, и дальше там пошло… Вот этот весь кусок было приказано вынуть с одновременным пристальным глядением в глаза. И я вынул. Занимало это треть страницы или полстраницы, и я когда-нибудь вставлю это обратно, потому что не вижу тут никакой крамолы, а только выражение крайней любви к Родине. Примерно так… И потом были указания на стилистические огрехи со стороны Симонова и Закса, которых я не признавал. Например, секретарша «кушала» мороженое. Заксу не понравилось слово «кушала». «Что вы, Владимир Дмитриевич, кушала, ела». Я ему говорю, что это была – не ирония, а мягкая улыбка в адрес этой девочки, которая, конечно, не ела, а кушала мороженое. Потом он, Закс, не признавал таких слов, как, например, у меня уже в другой повести «На своем месте»: «и в глубине барака замерцали разговоры…» – мне казалось, что это наиболее точное выражение полуслышных разговоров, которые чем-то были прерваны, а потом какой-то побудитель их опять воскресил, и они там, в полутьме, замерцали. Ну вот, такие были споры, но это не относится к роману. Просто в качестве примера… Было таких восемь замечаний. По всему роману.
Роман пошел, скажу я вам, без редактирования, в чистом виде, каким я снял его со своего письменного стола. Он у меня очень гладко пошел. По тем восьми замечаниям, конечно, я уперся. Некоторое время был крик. Потом решили бросить «орел» и «решку». Вышло надвое: четыре мне, четыре – им. Кто предложил, не помню. Расхохотались. Достали пятак, стали бросать. Вот так все и кончилось: четыре каких-то замечания я без звука принял; четыре каких-то правки они без звука зачеркнули.
И еще одно место выкинули по политическим соображениям – про Дворец Советов. У меня там было довольно едкое замечание. Когда мой Дмитрий Алексеевич возвращается из заключения, он выходит из метро на «Кропоткинской» и видит, что площадка под строительство Дворца Советов – а раньше там был Храм Христа Спасителя – в таком же виде, забор стоит. А ведь он уже сколько просидел. Он в щель заглянул, а там уже пруд, и мальчишки удят рыбу, карасей, в этом котловане. Вот этот кусок тоже выбросили, сочтя его…
Представив роман, я убедился в том, насколько силен Сталин даже после своей смерти: уже прошел XX съезд, и Хрущев сказал уже свою речь, а в людях тем не менее еще глубоко сидел сталинский принцип… даже Симонов был слегка деформирован.
Но вот роман напечатали. Как отнеслась к нему публика, запечатлела стенгазета Союза писателей. Об этом я уже рассказал в 1-й главе. То было знамение – не сходи с тропы, пиши. Началось с первого номера… реакция читателей… звонки… Жена в это время была в Коктебеле, и с ней было двое моих детей. И дети были такие голенастые, босые, все лазили по виноградникам. И Наталка тоже была… Она у меня женственная… А там же ходили! Все в каких-то особенных халатах, в каких-то страшных одеждах, как турки, только кинжала не хватало на животе. Какие-то сверхдамы литературные… И вот туда пришел первый номер, начали читать, вдруг… к Наталке справа – киноартистка Тамара Макарова, слева – еще какие-то дамы.
Наталка вдруг «милочкой» стала. Хотел бы я, чтобы Тамара Макарова сыграла в моем киноромане «Не хлебом единым». И Пырьев начал было заниматься. Но…
Глава 8
Обсуждение в университете
Было еще обсуждение – в университете. Очень хлопотал о его устройстве профессор Дувакин. Потрясающее, конечно, обсуждение. Происходило оно в комаудитории. Мы с женою в урочный час приехали. Идем по Моховой от Библиотеки Ленина к университету. Сумерки. И перед нами и за нами – тянется цепочка, будто муравьи идут по дорожке. От станции «Охотный ряд» – тоже цепочка. Смотрю, а расстояние от одного идущего студента до другого – ну, не больше метра. Вот они такой веревочкой все идут, идут и туда входят. Я не верю глазам, подхожу ближе… Идут. Туда. И мы с Наталкой входим. Меня за стол президиума, Наталка – в первом ряду.
Студенты были активные, чувствовали себя как дома. Какие-то профессора намеревались, вроде как в романе «Кровь и песок»… Там описание фермы, где готовят бойцовых быков для коррид. Так вот, стадо бойцовых быков несется к водопою, бодаются, скачут… а со всех сторон их окружают кастрированные благонамеренные вожаки, так сказать, направляют движение. И эти вожаки как-то умело боками своими формируют это стадо. Чтобы оно бежало только к воде. Вот такие же благонамеренные вожаки выступали, но студенты сразу же начинали дружно топать ногами, кричать… Меня удивляет, почему не посмеяться, не порадоваться на молодой задор? Вот у Столыпина хватило ума и юмора сказать: «пусть порезвятся, из них выйдут хорошие столоначальники». Ведь так оно и есть. И выходят. Так чего бояться?
Да, самое главное, что все эти студенты топали во имя коммунизма, за чистоту идеи… Дело в том, что роман я писал, чувствуя на груди красный галстук. Так что студенты защищали, выступали против ошибки, которая зачтется не мне и не им, а этим товарищам-вожакам, да и некоторым именитым писателям: Суркову, Василию Смирнову… До меня дошел тогда слух, что они, организовавшись, побежали в ЦК пугать, что, мол, повторяется Венгрия, что роман организует вокруг себя реакционные силы и т. д. Вот студенты своими этими молоденькими головами и сердцами чувствовали творимую ошибку, которая происходила из-за того, что у старцев были слишком расплавленные мозги, что им слишком чудилось бог знает что. Что было в 20 году, в начале, эсеровский мятеж… И в заключение студенты, каждый, встали и закричали: «Ленинская премия!» – зааплодировали и закричали все хором: «Ленинская премия!» И это было напечатано в студенческой многотиражке.
Потом мне какое-то лицо сказало: нехорошо прошло в университете. Нехорошо прошло…
А надо сказать, сразу после напечатания романа в журнал пошла почта. Почти каждый день из почтового ящика мы вынимали объемистые конверты из «Нового мира» – письма от читателей. В основном хвалебные. Очень приятно было читать. И вырезки из газет. Тоже хвалебные. Не маленькие, статьи на целый подвал. Вот как… И московские, и много областных – из всех краев страны. В Москве Коля Жданов напечатал в «Московском рабочем», в «Известиях» было, Тамара Трифонова, критик, большую статью готовила… и тут вдруг прозвучало в воздухе нечто вроде струны в «Вишневом саду». Или как у Гоголя: «струна звенит в тумане». Так кончаются «Записки сумасшедшего». Вот какой-то такой звук раздался. Что случилось? И таким же дождем, как сыпались похвальные рецензии из «Нового мира, мне стали присылать пакеты с другими вырезками из газет. Правда, раньше шли такие трехколонники, «подвалы» с критическим уважительным разбором. А теперь были все четвертушечки. Авторы каялись в том, что позволили себе выступать. Сколько было статей в первый раз, почти столько же было и покаяний. Это было еще до выступления Хрущева на съезде писателей. Выступления еще не было, а аппарат заработал.
Глава 9
О Ленинградском обсуждении романа
Вот как было в Ленинграде. Позвало меня бюро ленинградское по распространению литературы. Организовали все хорошо. Выступления – в огромных залах. Дали мне в гостинице «Европейской» номер. Вообще отнеслись к делу должным образом. Выступлений много. Я никогда к выступлению не готовлюсь. Само собой как-то получается. Вот идет день, второй, третий. Выступаю ежедневно, иногда по два раза. По радио выступил. Потом впервые в жизни услышал, как из динамиков на улице или где-нибудь в парикмахерской, в холле гостиницы – мой голос! Я говорю свою речь, интервью, отвечаю репортеру. Прошло бурное обсуждение в Ленинградском университете, но об этом позже. И вот я готовлюсь к очередному выступлению. Что значит готовлюсь? Ужинаю. Жду машину, на которой поеду на выступление. Должно было быть в каком-то гигантском клубе рабочем. Я сижу в номере, жду машину ехать туда, и вдруг – телефонный звонок:
«Владимир Дмитриевич!» – и слышно там множество голосов. «Я». «Почему же вы к нам не едете?» – «Жду машину, сейчас буду». – «А почему у нас висит огромное объявление, что вечер не состоится?» – «Как так, в первый раз слышу?» – «Да, висит большое объявление».
Я в недоумении. И тут вваливается в номер группа писателей во главе с Сергеем Михалковым. Вот они посадили меня в машину и повезли в Союз писателей, Ленинградское отделение, прямо в кабинет Александра Прокофьева, того прекрасного поэта, с восхищения которым я, можно сказать, начал свой литературный путь.
Я ведь начинал эту свою литературную жизнь очень рано, в 12 лет. Я тогда молился на некоторых поэтов. У меня был период очень сильного увлечения Прокофьевым.
Вечер отправлен на гауптвахту, ночь на пески упадет.
От Белого моря до Сан-Диего слава о нас идет.
Огромны наши знамена, красный бархат и шелк.
Огонь, и воду, и медные трубы каждый из нас прошел.
Вот такой был поэт. Была такая группа деятелей искусства, которые писали о революции от чистого сердца. И художники. Петров-Водкин, который тоже писал о революции от чистого сердца. А раз так, значит, в запасник такой парадокс. Потому прекрасное творчество Петрова-Водкина до сих пор мало кому известно. Были какие-то одна или две коротенькие выставочки, и… вот вам и певец революции… его запрятали в запасник эти бюрократы, наводнившие Союз художников и устраивающие в год по несколько выставок, все торжественно изображают: Кремль, Ленин, идущий по льду Финского залива, и т. д. Везде, во всех картинах, не искусство и не вдохновение, а литературное содержание составляло основу – прямо берут из истории партии кусочек какой-то и иллюстрируют… А Петров-Водкин, величайший певец революции, прошел стороной, и не одного поколения, а двух или трех мимо. А еще Смеляков был, поэт, которого я считаю советским Гейне. Его запрятали в тюрьму. А это великий советский поэт. Он не литературщину гонит, а вдохновение, вдохновение… Эти поэты и художники – они показывали народу, что революция – дело живое, а не плод какого-то сочинительства. Это все восторженные художники. И вот какая закономерность: ударяло все по ним. Хлоп – и Смеляков на 25 лет… Вот ведь что происходило.
Таков был и наш Прокофьев, который в начале своего творчества чем-то был похож на Петрова-Водкина, но его постигла другая метаморфоза. Он стал бюрократом. Он стал толстым послушным бюрократом. Угадал силу, которая против Смелякова, Петрова-Водкина и еще многих прекрасных творцов себя проявила. Угадал и принял надлежащую позу. И был замечен. Сидит за громадным письменным столом.
Я вошел, ведомый под руку этими товарищами, и ослеп от восторга. Не вижу никакого важного начальника. Передо мною был тот, кто направлял меня в молодые годы и перед кем я до сих пор преклонялся. И такой восторг, видимо, заметен был во мне, что поэт в нем смутился и опустил глаза.
Я так, ничего не видя, прямо к нему устремился. А он помолчал немного и сказал низким голосом: «Вот что, Дудинцев, вот тебе билет, давай садись и поезжай в Москву. Тебе здесь, в Ленинграде, делать нечего». И смотрю, лежит билет приготовленный. И я поехал в Москву.
Оказалось, тогдашний секретарь обкома, Фрол Романович Козлов, выразил недовольство… Почему же Фрол Романович рассердился? Произошло вот что. Накануне или за два дня до того выступал я в Ленинградском университете…
Организовано это было так: в Египте есть такая аллея сфинксов. Между этими сфинксами могут ходить только жрецы. Так вот и мы шли – студенты и я – по этой длинной аллее, но сфинксы все были такие здоровые на подбор крепкие молодые милиционеры. Как бы специально настораживали, студенты уже с порога чувствовали, что будет что-то особенное – не зря же эта гвардия стоит. Гиганты. Значит, ожидается нечто.
Входим в зал. Большой. Полон студентов. Я – на возвышение, сажусь за стол. Около меня – академик Александров, ленинградский ректор. Худенький и очень нервный, все время оглядывался направо-налево. Появляется какой-то длинный тонкий субъект, разложил бумаги и начинает о творчестве Дудинцева бубнить с кафедры. Зачем? Никогда я о себе таких докладов не слышал. Лектор был настолько длинный, что согнулся на кафедре под прямым углом, уперся рукой, чтобы не упасть, и вычитывал, что там было написано. Смотрю, студентам уже надоедает, начинают студенты шуметь, говорить, ногами стучать. Это такая есть манера студенческая – топать ногами. Все четче, четче ритм – как скандируют. И тот стал, смотрю я, перелистывать страницы доклада, кое-как скомкал и завершил. После этого дали слово студентам. Один, второй выступает, с каждым разом все горячей… И вдруг, я смотрю, какой-то студент ломится через ряды. Хочет говорить. Александров заметил его и показывает – ему слова не давать, он уже не студент. А тот лезет напролом.
Александров повысил голос: «Я вам сейчас скажу, почему не даю слова. Мы его исключили из университета. За что? Он вчера пришел и бросил в лицо секретарю свой комсомольский билет».
Студенты начали орать. Они еще не стали столоначальниками, от них еще веяло теплом домашнего гнезда. Они еще не говорили «мать», а говорили «мама». Хорошие, еще не покоробленные жизнью ребята. И, как полагается в таком ребячьем обществе, когда об их товарище так подло начали говорить, они стали заступаться. В общем, он все-таки влез на трибуну. Тут же вскочил Александров, стал кричать что-то, я не помню, потому что минута была напряженная. Что-то о том, что это безобразие, вылазка, провокация. И прямо спрыгнул со сцены, на которой мы сидели, и убежал. Оказалось, он – прямым ходом то ли в поезд, то ли в самолет – и уехал в Москву. А в Москве он куда-то побежал наверх, с жалобой.
Картина, наверное, была, как в «Войне и мире», когда к Кутузову прибежал немецкий генерал, разбитый под Ульмом, развел руками и говорит: «Вы видите несчастного Мака». Так и тут: «Вы видите несчастного Александрова. У вас нет Ленинградского университета. Там все взломали двери сломали, окна сломали… Дудинцев там устроил такую провокацию». Что-то, думаю, в таком роде.
Естественно, сразу же был пущен в ход спецтелефон. Приведен в движение тот самый механизм несправедливый и провокационный, оставлявший во многих душах совершенно ненужный пепел, осадок грязный…
…Студент со сцены объяснил, за что был отчислен, рассказал о себе и стал горячо защищать Дудинцева, его роман. Кстати, удивительным образом студенты и в Москве, и в Ленинграде правильно произносили мою фамилию Дудинцев, в отличие от преподавателей.
Я смотрел на него и думал вот о чем… Есть еще много таких людей у нас, воспитанных за те семьдесят лет, которые любят и умеют создавать так называемых отщепенцев и диссидентов, особенно, когда их долго нет, и кругом тишина, и нет мутной воды, чтобы рыбку ловить… Я удивляюсь и благословляю свой характер, свою выдержку… Сколько раз я готов был взорваться. Бывали страшные случаи… Например, с генералом на Лубянке, когда он меня начал гипнотизировать. Это был выдающийся случай. Тогда я мог, прямо как самолет вертикального взлета, пробив крышу на этой Лубянке, взлететь в небеса и взорваться там каким-нибудь страшным поступком. Я очень тихо, спокойно, дисциплинированно вышел, оставшись самим собой. Вот так. Так что меня ни за что из Ленинграда прогнали. Ни там, ни в Москве, ни на одном из обсуждений я не говорил ничего такого, чтобы могли такие важные лица, как секретарь обкома, испугаться. А все сами, все сами делали, начиная с того обсуждения в Доме литераторов в Москве.
Так что до сих пор остался во мне этот странный крик: «За что?» – в душе. И до сих пор у меня осталась грусть такая: такое красивое, большое государство, и в нем возможны такие странные муравьиные войны, непонятно чем вызываемые…
Поехал я в Москву, не закончив свое ленинградское турне, проделать которое меня страшно уговаривали дамы из Литфонда, наивные, хорошие, интеллигентные, пожилые дамы. В Москве меня ждало сообщение. «Роман-газета» проявила большой интерес к моему роману. Каким-то курьерским способом набрала два тома своего издания «Не хлебом единым». Редактором была Чеховская, супруга Черноутцана. Все были ко мне очень благосклонны. Жизнь складывалась прекрасно.
Роман был уже набран, сверстан. Осталось только подписать его выход в свет. И умирает Котов, директор Гослитиздата – как раз в те самые дни, когда идет обсуждение в Союзе писателей. Выступил Паустовский – и это было началом процесса, продолжением которого было рассыпание набора в «Роман-газете». Рассыпание набора и прекращение платежей…
У нас договор не имеет силы, если директивный орган вмешивается и останавливает издание. Его вмешательство формировалось группой людей, поставивших себе цель создать еще одного отщепенца. На эти усилия тогдашний директивный орган живо отреагировал. Особенно в этом отличался Шепилов, вскоре «примкнувший», как известно… Он у меня в романе вычитал призыв к оружию. Там у меня вырваны по его требованию две строчки. В том месте, где Вадя Невраев подхватывает начатый Авдиевым романс: «и тайно, и злобно кипящая ревность пылает!» А дальше: «оружия ищет рука». Автор замыслил показать разбитого бюрократа, отрицательного типа, потерпевшего фиаско. А «примкнувший» Шепилов всех своих высоких службистов начал пугать: вот видите, оружие! На что намекает Дудинцев?
Набор был рассыпан. Платежи остановлены. Что будет дальше?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































