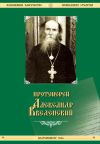Автор книги: Владимир Фещенко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В самом деле можно сказать, что Г. Стайн создает целые серии упражнений по грамматике, например:
A sentence is made of an article a noun and a verb. The time to come is a sentence.
Необычность этой грамматики состоит в том, что она творится «здесь и сейчас», на поэтической строке. Такая грамматика получает в творческой концепции Г. Стайн определение «мгновенная» («This makes instant grammar»). Это грамматика мгновенного действия, грамматика «на одном дыхании» («Grammar. In a breath»).
У Гертруды Стайн «регулярная» (regular) грамматика уступает место множеству «нерегулярных» (irregular) грамматик. Далее, употребляя определение «мгновенная грамматика», писатель подразумевает, что ее движущей, но одновременно и сдерживающей силой является поэтический ритм. Движущей – в том смысле, что нормативная грамматика перманентно разрушается, а сдерживающей – потому что при этом образуются новые формы и связи, как бы «мгновенные слепки» творимого языка. Ритм реализуется здесь не как однообразное повторение («принцип метронома»), а как «импульсы», как «ритм со случайными биениями». Это, говоря языком математики, – аритмия ритма, т. е. ритм в случайных числах (здесь нам близко геологическое понимание ритма А. Н. Колмогоровым, как «ритма вулканов» в противоположность «ритму гейзеров»). Ритмичность поэтической речи заключается в колебании между использованием значений, закрепленных в языке, и значений, вкладываемых поэтом-экспериментатором. У Г. Стайн это прежде всего выражается в сложнейшей комбинаторике языковых элементов («Много много случаев дистрибуции реконструкции и реставрации»), когда синтактика мгновенных, случайных форм определяет множественный, но цельный мир семантики:
Reform the past and not the future this is what the past can teach her reform the past and not the future which can be left to be here now here now as it is made to be made to be here now here now.
Reform the future not the past as fast as last as first as third as had as hand it has it happened to be why they did. Did two too two were sent one at once and one afterwards («Patriarchal Poetry»).
Интерпретируя данный отрывок в семиотическом ключе, можно сказать, что здесь цельность семантики (общие представления автора о времени, прошлом и будущем, первом и последнем, мгновенном и последующем) реализует себя посредством ограниченного числа комбинируемых грамматических форм «preform», «past», «future», «left», «to he», «here», «now», «made», «as», «two», «one») в множественности возможных смыслов (например, слово now в зависимости от положения в синтаксическом ряду – «to be here now», «left to be here now», «here now as», «here now here», «made to he here» и т.д. – будет обретать самые различные и неожиданные смыслы). Ритм как раз и состоит в этом задании бесконечного мира семантики конечным числом языковых единиц и их сочетаний, а цельность, органичность придает ему замысел автора-экспериментатора.
* * *
Типичным для Гертруды Стайн является абсолютная музыкальность всех ее творений. Английский писатель Уиндем Льюис называл все ее творчество «фугой из нескольких тысяч слов». Всей своей поэтической практикой (а ведь даже все ее теоретические тексты, манифесты и академические лекции написаны ритмизованной прозой) она подтверждает характеристику, которую мы могли бы ей дать, вслед за А. Белым (приписавшим ее себе, а также Гоголю и Ницше), как выдающегося поэта-ритмиста. Только у таких экспериментальных авторов, как Э. Паунд (ср. его «Я верю в абсолютный ритм»), Дж. Джойс (в «Улиссе» говоривший о «структурном ритме»), В. Маяковский («ритм – основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом»), А. Белый, и, конечно же, у Г. Стайн, только в ритмических текстах, по словам В. Налимова, «возможно прямое обращение к континуальному сознанию, когда в силу внутреннего семантического ритма несинонимичные слова сливаются в единые смысловые поля» [Налимов, Дрогалина 1995: 28]. Ритм здесь – организация языка экспериментально-поэтическим способом.
Между тем ритм также связан с восприятием текста читателем. В этом случае можно говорить о «ритмическом моменте», как раз нарушающем автоматизм восприятия. Е. Петровская, рассуждающая о стайновском «словаре раскрепощенных ритмов» [Петровская 2001: 583], употребляет применительно к рассматриваемой нами ситуации понятие «ритмический стык», определяя его как «опыт смысловой недостаточности» [Петровская 1995: 147]. Имеется в виду, что при нарушении синтаксических связей в предложении, в уме читателя возникает ситуация бессмыслицы, семантического осложнения, и для адекватного восприятия текста требуются дополнительные (отсюда – «недостаточность») «раскодирующие» механизмы. Следовательно, осложненный ритм создает сложную (комплексную) знаковую систему, язык более высокого уровня. Рассмотрим пример:
Eat ting, eating a grand old man said roof and never never re soluble burst, not a near ring not a bewildered neck, not really any such bay.
Is it so a noise to be is it a least remain to rest, is a so old say to be, is it a leading are been. Is it so, is it so, is it so, is it so is it so is it so («Tender Buttons»).
Необычная расстановка знаков препинания; неправомерная с точки зрения нормативного синтаксиса сочетаемость слов («old man said roo», «not a near ring», «so a noise», «a least remain to rest», «a leading are been»), морфемные разрывы («eat ting», «re soluble»), фразовые повторы («is it so is it so») – все это факторы поэтического ритма. Логико-грамматические сбои происходят одновременно на различных уровнях текста.
Грамматика «плюрализуется, появляются многие грамматики взамен одной „большой“ – разные наборы правил применительно к каждому конкретному усилию письма и соответственно чтения» [Там же: 162]. «Мгновенная грамматика» или «грамматика ad hoc» обнаруживает здесь принцип «многое в едином» (ср. с «concrescence» Альфреда Уайтхеда). Единство (то что позволяет говорить о новом языке) в данном случае обеспечивается индивидуальным поэтическим ритмом Г. Стайн или тем, что сам автор называет «композицией» (см. ее эссе «Composition as explanation»).
В очерке «Портреты и повторы» Гертруда Стайн пишет: «Композиция в которой мы живем изменяется но по существу то что происходит не меняется. Мы внутри себя не меняемся но то как мы расставляем акценты и мгновение в которое мы живем изменяются. То есть каждое последующее мгновение существования это уже не то же самое мгновение уже не тот же самый акцент. Так в чем же на самом деле состоит повтор. Об этом очень интересно спрашивать и знать эту вещь очень интересно».
Ритм – это порядок из хаоса или, скорее, серия таких порядков, а значит – ритма не может существовать без того, что повторяется (элементы серии). Язык Г. Стайн, как и всех остальных авторов авангарда, – это не хаос, как может казаться на первый взгляд, это, так или иначе, система повторов. (На самом деле абсолютный хаос в языке невозможен – его наличие означало бы, что ни одна буква, фонема, морфема не повторялась бы, что трудно вообразить. Так же и математики говорят, что получить абсолютно случайное число невозможно).
* * *
Гертруда Стайн, так же как и А. Введенский, не удовлетворена бытующим понятием времени, будучи убежденной в его «ложности» («falsity of time»). Однако, в отличие от русского поэта, ее больше заботит передача «текущего момента» мышления и речи, как бы «статично зависшего» в настоящем времени. Отсюда подчеркнутая тавтологичность в ее поэзии и прозе: глагол следует за глаголом, но никакого действия при этом не происходит, а утверждается лишь статичность настоящего момента.
Вопрос времени сопряжен также с вопросом памяти. Введенский заявляет: «Яне доверяю памяти, не верю воображению». Гертруда Стайн, создавая свои поэтические «портреты», утверждает, что художник не должен припоминать черты натурщика, природного пейзажа или натюрморта. Собственно, здесь работают не механизмы памяти, а механизмы забвения:
And so the human mind is like not being in danger but being killed, there is no remembering, no there is no remembering, and no forgetting because you have to remember to forget no there is none in any human mind («Портреты и повторы»).
Г. Стайн стремится описать, как возможно знание без структур памяти, основанное исключительно на переживании «настоящего момента». Освобожденные от памяти, логические противоречия не разрешаются, так как они либо просто не замечаются, либо два соседних высказывания «не помнят друг о друге»:
One is frightened in being one being living. One is not frightened in being one being living. One is frightened again. One is again and again not frightened.
Память, согласно Г. Стайн, является врагом творческого мышления. В любое мгновение без памяти о себе человек проявляет свою творческую сущность:
At any moment when you are you you are you without the memory of yourself because if you remember yourself while you are you you are not for purposes of creating you.
Разница между концепциями памяти у Стайн и Введенского проявляется в том, что у первой ложность памяти связывается с положением дел в новой, современной действительности и в мире современного искусства, а у последнего искусство, да и вообще сознание не имеют ничего общего с памятью, все по той же причине «раздробленности времени» и «всеобщей бессвязности».
Так как память, согласно Введенскому и Стайн, не участвует в поэтическом процессе, становится невозможным и чистое повторение чего-либо: идей в творчестве, слов в речевой цепи, смыслов в поэтическом произведении.
* * *
Повтор в произведениях исследуемого автора составляет важную часть и даже обусловливает ее грамматику. Вооружившись верой в цикличность («Я верю в повторение. Да. Всегда и всю жизнь нужно сочинять гимн повторению»), Г. Стайн выстраивает свою «поэтику повтора» («<…> иметь любить повторять и тем самым стремиться глубоко понимать»). Повтор того или иного элемента (фонологического, графического, морфологического, лексического) не является механическим. Повторяющийся элемент серии всегда оказывается в особом синтаксическом положении, как раз неповторимом:
«Врэ говорит хорошо хорошо, отлично. Врэ слушает и когда он слушает он говорит хорошо хорошо, отлично. Врэ слушает и так как он Врэ когда он прослушал он говорит хорошо хорошо, отлично» («Длинная забавная книга»);
Можно нам сесть.
Можно нам присаживаться
Можно нам присесть
Можно взглянуть
Можно взглянуть
На Марту
Можно взглянуть на Марту
Можно взглянуть.
Можно взглянуть
(«Разъяснение» – см. полный текст в приложениик данной главе ниже. – В. Ф.).
Такого же рода повторы встречаются и в стихотворениях А. Введенского, как, например, в этом:
Мне страшно что я двигаюсь
не так как жуки жуки,
как бабочки и коляски
и как жуки пауки
(«Мне жалко, что я не зверь…»)
Мне страшно что я не трава трава,
мне страшно что я не свеча.
Мне страшно что я не свеча трава,
на это я отвечал,
и мигом качаются дерева
(там же).
При этом, по воспоминаниям Я. С. Друскина, повтор такого плана был чрезвычайно важен для Введенского. При чтении данного стихотворения, в частности, он якобы специально акцентировал эту вариацию «свеча трава – трава свеча».
По замечанию Ю. М. Лотмана, «одинаковые (то есть „повторяющиеся“) элементы функционально не одинаковы, если занимают различные в структурном отношении позиции» [Лотман 1998: 135].
Проиллюстрируем этот феномен на примере:
The spider says
Listen to me I, I am a spider, you must not mistake me for the sky, the sky red at night is a sailor's delight, the sky red in the morning is a sailor's warning, you must not mistake me for the sky, I am I, I am a spider and in the morning any morning I bring sadness and mourning and at night I bring them delight…
(«Ида. Роман»).
Слово morning в этом абзаце повторяется в чистом виде три раза, а также два раза в видоизмененной форме (омофонической mourning и паронимической warning), но в каждой отдельной позиции подразумевает новый смысл; а то, что здесь повторяется, – это лишь знаки ритма (звуковые, графические, морфологические и т. д.). Если бы мы продолжили цитату, мы бы увидели те же самые слова снова и снова, но ритмическое их повторение никогда бы не отменило случайности их окружения, т. е. смысла (ср. название знаменитой поэмы С. Малларме «Как бы ни выпали кости, случая все равно не избежать»). Ведь «поскольку именно одинаковые элементы обнажают структурное различие частей поэтического текста, делают его более явным, постольку бесспорно, что увеличение повторов приводит к увеличению семантического разнообразия, а не однообразия текста» [Лотман 1998: 135].
Рассуждая о повторении, сама Г. Стайн предпочитала говорить не о чистом повторе (repetition), а об особой его разновидности, названной ей словом «insistencе». Этим словом-термином подразумевается, что повторяемый элемент претерпевает с каждой новой серией минимальное, но значащее различие («slightest change»): происходит структурный сдвиг. Например, в следующем примере из книги «Как писать» сдвиг происходит на фонологическом уровне:
Opium den opium then opium when.
Русский перевод этой строки-серии мог бы звучать так: «Опий притон опий притом опий потом». И здесь подобным же образом обнажается фонологическая структура, при этом общий смысл английского варианта сохраняется.
В обыденном языке, а также в языке так называемой классической поэзии, грамматические и фонологические единицы повторяются, как правило, «в чистом виде», по предсказуемой схеме (в этом залог коммуникации, будь то бытовой или эмоционально-стилистической). В языке Г. Стайн эти единицы «переформируются» с каждым новым повтором (ср. «повтор с вариациями» А. Белого), вот почему можно говорить о грамматике, которая «может быть пересоздана» (см. название нашей статьи [Фещенко-Такович 2003]).
Г. Стайн спрашивает: «Если произведен звук который нарастает а затем прекращается сколько раз он может повториться» [Стайн 2001]. Учитывая последние два приведенных примера (а по существу весь корпус текстов автора), ответ мог бы быть таким: до тех пор, пока автор желает повторять, а также пока не исчерпают себя структурные запасы английского языка. В данном случае важна не сумма этих структур (как в грамматическом справочнике), а их частное – то есть их динамическая взаимосоотнесенность, процессуальность. Не случайно Г. Стайн так увлечена перечислением слов, впрочем, не совсем обычным перечислением: «Один плюс один плюс один плюс один плюс один. Вот естественный способ продолжать подсчет <…> Это имеет теснейшее отношение к поэзии».
* * *
Еще один ключевой концепт в художественной семиотике Г. Стайн – «incantation», то есть поэзия как заклинание (прежде всего заклинание самого языка, та «магия слов», о которой идет речь у А. Белого и В. Хлебникова). Здесь несомненна связь поэтического слова с ритуалом: таким способом современное экспериментальное слово смыкается со словом архаическим, становясь по-новому синкретичным [Korg 1995]. Эндрю Уэлш, автор книги «Корни лирики», имеет в виду именно это, когда говорит о «языке чарующего мелоса» (см. [Dekoven 1983]). Это язык сил, и эти силы исходят не из конкретных лексических значений, архаических либо обыденных, но от несколько иных значений, тех, что запрятаны глубоко в структуре звука и ритма. М. Дековен, автор исследования о Г. Стайн, называет эти «иные значения» «досимволической сигнификацией», а эти силы, магические силы, и есть, по ее мысли, силы экспериментального письма [Dekoven 1983: 108]. Гертруда Стайн постоянно подчеркивает процессуальность языка, бесконечное, неравновесное движение смысла от слова к слову: «Что-то завершить, то есть продолжать что-то завершать, то есть быть тем кто не прекращает что-то завершать так что это что-то это такая вещь о которой любой может сказать что это завершенная вещь это уже кое-что»; «Это звучит так как если бы это могло быть завершением чего-то что характерно для ответа на вопрос но это не так это было всего лишь тем что продолжается».
Как видно из данных примеров, слова Г. Стайн как бы говорят сами за себя (и о самих себе в том числе). Ритуальность поэтического слова основана на процессе, конкретно – на процессе производства значений и смыслов. Сущность формы в экспериментальной поэтике– не структура, а процесс.
Упор в экспериментальной грамматике Г. Стайн делается на категорию длительности (continuity), продолженного времени. В общефилософском плане эти идеи были созвучны теориям Альфреда Уайтхеда, которого сама писательница считала своим единомышленником, наряду с Бертраном Расселом. Уайтхед провозгласил «принцип процесса» в своей книге «Процесс и реальность» (1929): «Каждое действительное существование можно описать только как органический процесс» [Whitehead 1969: 248]. Если же задаться вопросом «что описывает язык Г. Стайн?», ответ будет таков: «процессы мира». Или лучше: «становление нового», тот вид текучести, который Уайтхед называет «переходом». В лингвистике данному переходу будут соответствовать языковые отношения, которые стремится пересоздать, переосмыслить авангардный автор. По наблюдению Ю. С. Степанова [Степанов 2004b], в рассматриваемую эпоху параллельно с зарождением абстракции в искусстве и литературе создается новая философия языка. Главный фигурант нового движения – Бертран Рассел заявляет: «Мир состоит не из вещей, а из событий». Но о том же говорит и Г. Стайн, хорошо знакомая с теориями Рассела и многому у него научившаяся: слова не описывают реальность, а сами ею являются:
«Поранена собрана трость, поранена собрана чашка, поранен собран предмет небывалых отдохновения и раздражительности, поранен собран, поранен и собран это так нужно что ошибка недопустима» [Стайн 2001: 535].
Важным оказывается не описание трости, чашки, любого другого предмета и даже не факт их наличности (референция), а те события, которые происходят в семантическом мире («трости», «чашки» здесь тоже события, как и «пораненность», «собранность», «небывалость»).
Как следует из предыдущего параграфа, логика, а именно – логика смысла, также претерпевает в языковом эксперименте Г. Стайн существенные перемены. Уже не работает старая оппозиция «истинность-ложность высказывания» («the human mind is not concerned with being or not being true»). Так как референция к реальному миру отрицается, отпадает и связанная с ней логическая двойственность. В действие вступает «парадокс нейтральности, или третье состояние сущности» (Ж. Делёз), отмеченный нами выше в текстах А. Введенского. В соответствии с данным парадоксом, фразы типа «Она есть и ее нет» (Г. Стайн) имеют смысл. Ср. из «Портрета Жоржа Гюне»:
«Грамматика так же расстроена не расстроена как грамматика так же расстроена. Грамматика не так как грамматика так как расстроена».
Бертран Рассел отмечает наличие особой, парадоксальной логики в некоторых ситуациях высказывания о мире. Так, он обращает внимание на следующий пример (ставший с тех пор популярным). Естественно сказать: «Я знаю, что идет дождь». Но логически справедливой будет также фраза: «Я знаю, что я знаю, что я знаю… что идет дождь». Описанный случай называют «бесконечной итерацией». У нас уже шла речь о нем в связи с А. Введенским и Ж. Делёзом (это как раз тот тип логического казуса, который именуется «парадокс регресса, или неопределенного размножения»). Г. Стайн говорит ровно об этом парадоксе в своем известном примере:
Rose is a rose is a rose is a rose is a rose.
Данная серия из слов в семантическом отношении потенциально бесконечна (актуально она ограничена лишь волей автора высказывания – художника, задающего определенный период повторения). Итерация здесь самодовлеюща: каждый новый предикат отсылает к следующему или предыдущему и в логической состоятельности не нуждается. Так рождается логика, еще более парадоксальная, чем рас-селовская – логика экспериментально-поэтическая.
Называя поэтический метод Г. Стайн «итерацией», У. К. Уильяме [Уильяме 2006] подчеркивает особый вид повтора, характерный для языка писательницы, а именно тот, который в логике именуется «сериальностью». Сериальное мышление интересовало, как говорилось выше, английского ученого Д. У. Данна, который на примере искусства и физических явлений обнаружил особое состояние, в которое попадают некоторые объекты – состояние процесса, бесконечного и многоразмерного (multidimensional). Позднее, в 1960-е гг., такой лингвист, как Дж. Р. Росс, представитель «американской школы семантики», в своей статье «О декларативных предложениях» проанализировал предложения из английской грамматики типа «(Я говорю, что) В Арктике живут белые медведи». Он показал интересную особенность «префиксов» типа «Я говорю, что» – их возможность повторяться более одного раза – итерироваться. Такие «префиксы» могут итерироваться бесконечно, «синонимично» (см. по этому поводу [Степанов 1998: 116–121]).
К тому же прозрению, но уже с художественной точки зрения, пришла и Г. Стайн задолго до научных открытий. В ее текстах слова в синтаксической цепи также имеют способность итерироваться до бесконечности, при этом в независимости от того, какими частями речи являются слова, они являются «синонимичными» уже в силу своей «эквивалентности» (Ю. Тынянов). Так, предлоги и междометия ничуть не уступают по значимости глаголам и существительным. Ср. любопытный пример из текста Стайн под названием «Мы пришли. История», где «равноправие» слов в поэтической речи обыгрывается графически, с помощью математического символа:
Howdoyoulikewhatyouhaveheard.=Historymustbedistinguished=From mistakes. =History must not be what is=Happening.=History must not be about=Dogs and balls in all=The meaning of those=Words history must be=Something unusual and=Nevertheless famous and=Successful. History must=Be the occasion of having=In every way established a=Precedent history must=Be all there is of no importance=In their way successively=History must be an open=Reason for needing them=There which it is as they=Are perfectly without a=Doubt that it is interested.=History must not be an accident.
* * *
Одним из принципов поэтической техники Г. Стайн является несовпадение знаков с денотатами, слов с обозначаемыми ими вещами. Мы уже отмечали, что в типологически близкой Г. Стайн поэтике А. Введенского «предметом поэзии» становится парадоксальная знаковая ситуация – своего рода «семиотическое молчание», «немой» или «глухой» семиозис, когда значимым становится не значение, а промежутки, пустые расстояния между значениями. Слово в поэзии-прозе Гертруды Стайн как будто бы имеет в виду свое означаемое, оно менее сдвинуто относительно мира денотатов, чем у Введенского. Тем не менее общая с Введенским закономерность налицо. И у того и у другого автора, присутствует то, что Жиль Делёз называет «парадоксальным элементом». Этот элемент обеспечивает соотносительное смещение плана выражения и плана содержания, означающих и означаемых в поэтической речи.
О подобном процессе абсурдистского семиозиса говорится в следующем металингвистическом примере Г. Стайн, взятом нами из романа «Становление американцев»:
«I mean, I mean, and that is not what I mean, I mean that not any one is saying what they are meaning. I mean that I mean something and I mean that not anyone is thinking, is feeling, is saying, is certain of that thing. I mean I am not certain ofthat thing, I am not ever saying, thinking, feeling, being certain of this thing, I mean, I mean, I know what I mean».
Что имеется в виду? О чем говорится в данном высказывании? Что обозначается?
Имеется в виду как раз та самая парадоксальная ситуация, когда не совсем ясно о чем говорится, но тем не менее смысл самого говорения присутствует. Вопрошание о том, что имеется в виду, что обозначается, о чем говорится, становится содержанием подобного высказывания. Ср. примеры Г. Стайн: «Coal any coal is copper»; «A shawl is a hat and hurt and a red balloon and an under coat and a sizer a sizer of talks»; «Sugar is not a vegetable». «Tears are not the chorus. / Food is not the chorus. / Money is not the chorus». Здесь вещи определяются тем, чем они не являются, и то, чем они являются, остается под вопросом. В этом – загадка.
Свойство парадоксального элемента – всегда быть смещенным относительно самого себя. Он одновременно – вещь и слово, имя и объект, смысл и денотат, выражение и обозначение. В этой семиотической осцилляции заключена природа логики абсурда. Г. Стайн (так же как и Введенский) не озабочена внятным, ясным описанием природы вещей, о которых она пишет. Постулируемая и осуществляемая неясность, запутанность языка у Стайн коррелирует с «чинарской» тайнописью Введенского, о которой писал трактаты Я. Друскин. Однако это неясность положительная, так же как для Введенского, по меткому замечанию О. Г. Ревзиной, «не понять» – это положительное понятие, смысл которого должен быть раскрыт. «Мы должны отказаться от тех сочетаемостей живого и неживого, действий и объектов, которые заданы нам формами обыденного сознания. Лишь тогда – вне привычных глагольных управлений, вне заданного для каждого объекта способа действий и состояний – мы сможем частично проникнуть в иной, созданный самим языком и отвечающий, возможно, внутренним потребностям души человека, новый мир» (цит. по [Мейлах 1993: 11]).
Содержание произведений данных авторов отнюдь не равняется нулю, как в чистой зауми, оно как бы стремится к нулю, не достигая его, и в этом устремлении производит содержание. Выражаясь словами Теодора Адорно, содержание здесь растет в процессе отрицания смысла. «Затемнение» смысла здесь является функцией измененного содержания, тогда как каждая языковая форма предстает как «превращенная форма» (М. Мамардашвили).
* * *
В литературе абсурда Г. Стайн и А. Введенского кардинально меняется подход к пониманию самого понимания (см. предыдущую главу). Понять саму непонятность оказывается здесь более важной творческой задачей (как самого автора, так и читателя), чем пытаться объяснить непонятное. «Если произведение ставит своей задачей выражение недоступности пониманию и под знаком ее отбрасывает все, что в нем есть доступного пониманию, то унаследованная от прошлого, традиционная иерархия понимания рушится. Ее место занимает рефлексия относительно загадочного характера искусства. Но именно так называемая литература абсурда <…> показала, что понимание, смысл и содержание не являются эквивалентными» [Адорно 2001: 493]. Так как мир и вещи находятся в процессе становления, ничто не может быть адекватно поименовано, классифицировано. Все события и вещи случайны, равновероятны, к тому же они постоянно и непредсказуемо меняются внутри себя. Мир денотатов как таковой нивелируется (у Введенского в «Серой тетради» запись: «Предметов нет»). Слова как кнопки, пристегивающиеся друг к другу (ср. с названием стайновской трилогии «Нежные кнопки»), означающее к означаемому, становятся гибкими, текучими, подвижными (см. примеры выше).