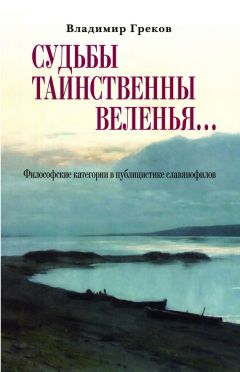
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
В таком случае, став архетипами, категории роли и предназначения оказываются связанными с коллективным бессознательным, с потребностями трансформации личности. К. Юнг полагает, что структурное изменение человеческой личности происходит в форме некоей «одержимости». Причем эту «одержимость», по мнению Юнга, можно определить как «идентичность эго – личности с комплексом»[23]23
Юнг К. Душа и миф. Клев, 1997. С. 261.
[Закрыть].
С каким же «комплексом» связано творчество И. Киреевского, его характер и самая его личность? Его семейные отношения были довольно благополучными, в семье он находил понимание и сочувствие всем своим начинаниям. Однако неудачное сватовство к Н.П. Арбеневой в 1829 г., затем неприятности с изданием «Европейца», «Москвитянина», «Московского сборника» неизбежно должны были отразиться на самосознании публициста. Уверенность в собственном призвании, сознание собственных сил неожиданно столкнулись с непониманием внешнего мира, с невозможностью реализовать свои знания, наконец, почти что с запрещением писать.[24]24
После запрещения 2 тома «Московского сборника» его участникам, в том числе и И. Киреевскому, было запрещено публиковать или даже публично обсуждать свои новые произведения без разрешения Главного управления цензуры в Петербурге. Он был объявлен «неблагонамеренным», и за ним был установлен не секретный, но гласный полицейский надзор.
[Закрыть] Его увлечение Древней Русью, ее историей и культурой противоречило официальному европеизму и официальной идеологии, казалось смешным и грустным оппонентам-западникам. Сама мысль об ином историческом пути России, об ином будущем, чем представляли государственная наука и государственная литература («штатс-наука» и «штате-литература» – назовет их позднее И. Аксаков), казалась ересью. Не соглашался он и с прогнозами западников, уверенный в самобытности и непредсказуемости русской жизни. За каждой его строчкой – глубокое чувство уважения к простому русскому человеку, к его вере, понимание самых незначительных особенностей его быта, связанных с его характером и его верой. В 1852 г. в статье «О характере просвещения России и его отношении к просвещению Европы» он коснулся общекультурных особенностей истории России и Европы, попытался понять психологию европейца и русского. И на все это он смотрит не с позиций целесообразности, прагматичности, а с точки зрения красоты и цельности натуры. Сравнивая обычаи и быт русских и европейцев, он утверждает, что «самый характер народных обычаев, самый смысл общественных отношений и частных нравов был совсем другой».
По существу, Киреевский поставил задачу понять национальные особенности Европы и России. Причем Европа рассматривается обобщенно, европейцы в данном случае не подразделяются на немцев, французов, испанцев, англичан, а собирательно подразумеваются под словами «Запад», «западный человек».[25]25
Киреевский И.В. Критика и эстетика, С. 282–283. Вспомним, что обычное возражение славянофилов против введения западных политических или социальных норм в России сводилось к вопросу: каким именно установлениям следует подражать – английским, голландским, немецким, французским?
[Закрыть]
Вот характеристика западного человека. Его отличительное свойство – раздробленность, ибо он «раздробляет свою жизнь на отдельные стремления, и хотя связывает их рассудком в один общий план, однако же в каждую минуту жизни является как иной человек. <…> Западный человек легко мог поутру молиться с горячим, напряженным, изумительным усердием; потом отдохнуть от усердия, забыв молитву и упражняя другие силы в работе; потом отдохнуть от работы, не только физически, но и нравственно, забывая ее сухие занятия за смехом и звоном застольных песен; потом забыть весь день и всю жизнь в мечтательном наслаждении искусственного зрелища».
Нельзя не отметить, что психологический анализ приобретает у Киреевского эстетическую форму Но эта эстетика одухотворена религиозным чувством. Все изображение, весь анализ русского и западного быта связан, по-видимому, с архетипом выбора пути. «Не так человек русский. Моляся в церкви, он не кричит от восторга, не бьет себя в грудь, не падает без чувств от умиления; напротив <…> он старается сохранить трезвый ум и цельность духа. Когда же не односторонняя напряженность чувствительности, но самая полнота молитвенного самосознания проникнет его душу и умиление коснется его сердца, то слезы его льются незаметно и никакое страстное движение не смущает глубокой тишины его внутреннего состояния <…> Так русский человек каждое важное и неважное дело свое всегда связывал с высшим понятием ума и глубочайшим средоточием сердца». Вот с таким русским человеком, в его молитвенном созерцании, в его обращении к «высшим понятиям ума» и непосредственно к Богу, и отождествляет себя И. Киреевский. Не случайно, о чем бы ни писал он, все время помнит о народе, о его судьбе. Это сказывается в его публицистике, в содержании, которое он вкладывал в категории роли и предназначения.
Обратимся вновь к авторитету К. Юнга. Он объясняет, что чаще всего человек ощущает свою «идентичность с персоной (маской), являющейся личной системой адаптации к миру… Каждое призвание или, например, профессия имеют свою характерную персону (маску)». Характерной маской И. Киреевского, писателя и мыслителя, была маска уединенного отшельника, лишь изредка высказывающего свои сокровенные мысли. Эта роль отчасти совпадала с той ролью, какую, по мнению Киреевского, играл русский народ: народ, призванный в тишине и смирении выработать новые начала для всей христианской культуры. Таким образом, понять роль или предназначение невозможно, не определив этический идеал, сокровенную идею или цель автора и его персонажа. Архетипы, реализуемые как в творчестве, так и в поведении, затрагивают личностные мотивы, связаны с попыткой выбора (или изменения) судьбы. С такой точки зрения предназначение также разновидность одержимости, только иная, более сложная.
Чтобы понять, какой смысл вкладывает Киреевский в категории роли и предназначения, следует понять стремление народа (ведь именно с ним ощущает публицист свою близость), понять задачу народа. В рецензии на повесть Ф. Глинки «Лука да Марья» Киреевский указывал на парадоксальную особенность народного мышления: «Он (народ. – В. Г.) прямо приступает к самым высшим отвлеченным вопросам любомудрия; ищет постигнуть их внутреннюю связь и внешние отношения к жизни, не ограничивая любопытства своего интересом корысти или применимостью… к житейским пользам… Он прежде всего ищет составить себе понятие о высшем существе, о его отношениях к миру и человеку, о начале добра и зла, о создании и устройстве вселенной… о правде и грехе, о первоначальном законе человеческих отношений… о возможности внутреннего усовершенствования человека, о характере высшего соединения его с Богом и т. д.».[26]26
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 226. Нам представляется, что данное суждение И. Киреевского вполне совпадает с его пониманием характера «верующего мышления», которое мы находим в его «Отрывках»: «…главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и и истинное, и желанное, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первобытной неделимости» (Там же. С. 334). Это подтверждает наше предположение о том, что предназначение русского народа, с точки зрения Киреевского, – в просвещении, воспитании европейских народов в духе истинного христианства. Причем народ нисколько не озабочен своей просветительской эмиссией, он готов и сам учиться (и обучение ему, по мнению Киреевского, необходимо). Но все это нисколько не умаляет его главной, сущностной задачи, его предназначения. У исследователя невольно возникает соблазн провести параллель между двойственным характером задач народа (самому научиться и других научить) и самого Киреевского. Но это не соответствует взглядам самого Киреевского. Он выполняет свое предназначение – истолкователя народной мысли, высшего исторического и христианского предназначения России и русского народа.
[Закрыть] Итак, проясняется предназначение русского народа: понять высшую истину, откровение Божие и, вероятно, передать его другим народам. Мы видим, что личностные мотивы поведения самого И. Киреевского и те, что приписывает он русскому народу, связаны с попыткой выбора или изменения судьбы, или же с попыткой ее осуществления, выполнения высшего, провиденциального предназначения. Средством к этому служит просвещение.
Разумеется, не сразу Киреевский пришел к своей теории. Но с самого начала, с 1827 г., он принимает на себя роль просветителя. Со временем эта роль только усложняется. Точнее говоря, он в самом начале своей деятельности попытался совместить две роли – прилежного студента, который обучается у европейских авторитетов, и воспитателя отечественного общества. Собираясь издавать журнал, И. Киреевский писал в 1831 г.: «Мой журнал, как записки прилежного студента, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средства брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него только как приложение к европейской…» Итак, цель критика – просвещение, средство – издание европейского журнала. Роль критика зависит от аудитории, от включенности в определенную группу.
Напомним, что уже «Обозрение русской словесности за 1831 г.» начинается признанием: «Наша литература – ребенок, который только начинает чисто выговаривать…» В этих словах нет, конечно, ни малейшего оттенка неуважения к народу, но зато присутствует уверенность наставника, знающего, куда и как направить своего воспитанника. Возможно, не только литература, но сам народ представлялся критику ребенком. В 1845 г. в рецензии на книгу Ф. Глинки «Лука да Марья» Киреевский рассуждает уже совсем иначе: «Те не совсем правы <…> которые смотрят на народ как на ребенка, еще ничего не смыслящего и требующего детских игрушек, поверхностных наставлений… в нешуточных мыслях своих обращает он интерес уже не к частным элементарным истинам <…> но <…> прямо приступает к самым высшим отвлеченным вопросам любомудрия…» По мысли Киреевского, народ обладает общим, единым сознанием и способен – как единый организм (включающий и образованные слои) – рассуждать о высших началах. Эти идеи И. Киреевского развил позднее в газете «День» И. Аксаков. Он полагал, что «народ не есть собрание единиц, а живой, цельный организм, живущий и действующий самостоятельно и независимо от лиц, составляющих народное множество; организм <…> где самая нравственность определяется скорее обычаем, бытом, нежели личным убеждением единиц».[27]27
Аксаков И.С. Поли. собр. соч.: В 7 т. М., 1886. Т. 2. С. 168.Следует признать, что в теории славянофилов связь между индивидуальным и коллективным народным сознанием почти не раскрыта. Индивидуальное сознание уже не опирается на традиционные ритуалы и «священные события». Однако роль веры в этой связи по-прежнему чрезвычайно велика. Причем эта вера определяется самим укладом жизни народа, не столько общими убеждениями, сколько общей эмоциональной и этической оценкой происходящего. Ср.: в статье «Девятнадцатый век» И. Киреевский пишет: «Наше время для одного поколения меняло характер свой уже несколько раз… Один век вмещал в себя людей разных поколений, разных убеждений… Взгляните на европейское общество нашего времени: не разноголосные мнения одного века найдете вы в нем, нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, и не столько противные друг другу, сколько разнородные между собою, каждый будет иметь свою особенную физиономию во всех возможных обстоятельствах жизни… каждый явится перед нами отпечатком особого века…» (И. Киреевский. Критика и эстетика. С. 81).
[Закрыть]
Таким образом, речь идет о коллективном сознании, о традиции, воплощенной в обычае. Разделяя отдельного человека и народ в целом, И. Аксаков идеализирует именно народ. Но при этом парадоксально сочетается мифологизация народа как носителя духовного идеала и весьма трезвая оценка его конкретных заблуждений и ошибок. Так, в 1849 г. в записке «О служебной деятельности в России» И. Аксаков предостерегал от безоговорочного доверия народу, полагая, что из народного опыта надо взять только то, что соответствует христианскому идеалу.[28]28
Ср. также: в 1863 г. в газете «День» И. Аксаков писал: «…удивляясь нравственному смыслу и духу народа как народа, мы должны сознаться, что каждая отдельная единица того же народа, перестав быть живою частью народного организма, и явившись как личность, нередко точно так же удивляет нас личною слабостью и неблагонадежностью… (Аксаков И.С. Соч. Т. 2. С. 168–169).
[Закрыть]
Как видим, в позициях И. Аксакова и И. Киреевского много общего. У каждого из них анализ действий, связанных с уяснением роли народа, вытесняется анализом отношений. Отношение к вере, к грамотности, к соблазнам современной жизни отражает для Киреевского всю целокупность народного сознания. И. Киреевский отвергает ролевую – индивидуальную – установку как заведомо неполную, недостоверную. Однако не поддался ли сам критик другому искушению – отождествить массовое сознание с индивидуальным? И не подменяет ли он подчас народное воззрение – своим? Чтобы понять это, нам придется проследить за формированием эстетической концепции И. Киреевского, в частности, его взгляд на предназначение (т. е. на миссию) человека.
Размышляя о характере поэзии Пушкина, Киреевский утверждает, что «трудно привести к единству все разнообразие его произведений и приискать общее выражение для характера его поэзии, принимавшей столько различных видов». Дело не в естественном развитии таланта поэта: многие поэмы «различествуют и самым характером поэзии, отражая различное воззрение поэта на вещи так, что в переводе их легко было бы почесть произведениями не одного, но многих авторов». Пушкин как бы менялся сам одновременно со своей поэзией. Поэтому изменения в поэзии отражают и изменения в личности самого поэта. У каждого героя – своя судьба, своя роль. Но Пушкин не следует за героями, он живет своей жизнью, и его роль (если только это вообще можно назвать ролью) сложнее и многообразнее. Киреевский пытается найти принцип (или, точнее, закон), которому подчиняется эволюция пушкинского творчества, – и, кажется, находит. Для молодого критика это принцип самого творчества, творчества как способа познания и преобразования мира, как жизнеустройства. В конечном счете Киреевский выдвигает на первый план идею вдохновения. Называя первый период поэзии Пушкина «школой итальянско-французской», он считает, что в «Руслане и Людмиле» Пушкин предстает «чисто творцом-поэтом. Он не ищет передать нам своего особенного воззрения на мир, судьбу и жизнь человека, но просто созидает новую судьбу, новую жизнь, свой особый мир…».
Функция поэта при этом – населить мир «существами новыми, принадлежащими исключительно его творческому воображению». Творец-поэт, очевидно, – особое состояние, особая роль, предназначенная поэту. И в самом поэтическом вдохновении автор не забывает о поэтических правилах и законах: «Наблюдая соответственность частей к целому, автор тщательно избегает всего патетического… ибо сильные чувства несовместимы с охотою к чудесному-комическому и уживаются только с величественно-чудесным». Киреевский полагает, что совершенство формы «Руслана и Людмилы» смягчает, но не уничтожает недостатки в содержании поэмы. Для гармонии Пушкин пожертвовал полнотою чувствований.
Второй период поэзии Пушкина Киреевский определяет как «отголосок лиры Байрона, причем сам Пушкин в это время уже «поэт-философ». Проникновение в поэзию здесь уже глубже, серьезнее, ибо Пушкину удалось «в самой поэзии выразить сомнения своего разума».
Однако нельзя не заметить, что то, что поэт ставит себе как цель, для его героев уже роль. Это определение границ, а следовательно, сужение возможностей и целей. «Но он не ищет, подобно Гёте, возвысить предмет свой, открывая поэзию в жизни обыкновенной, а в человеке нашего времени – полный отзыв всего человечества, а, подобно Байрону, он в целом мире видит одно обманутое противоречие… и почти каждому из его героев можно придать название разочарованного». Но в таком случае отрывистость пушкинских поэм – следствие неполного понимания художественных целей и задач. Формулу Киреевского (Пушкин – отголосок Байрона) можно рассматривать не только как простое сравнение, а как некую ролевую установку. В данном случае роль воспринимается как предназначение, ибо совпадение Пушкина и Байрона не случайно: «Лира Байрона должна была отразиться в своем веке, быв сама голосом своего века». Отражать век – роль хотя и почетная, но все-таки не вполне самостоятельная. Эту роль и принимает на себя поэт, сознательно или бессознательно. Это шаг по пути, следуя по которому он может достичь своего предназначения.
Роль всегда связана с самовыражением. Для ее успеха необходимо желание или нежелание. Это категория более объективная. Предназначение автора требует размышления не только о себе, но и о своем времени, о своем веке и о поэзии. Предназначение не зависит от единичной воли. Напротив, это выражение идеи народа, его идеала.
По мнению критика, к выполнению своего предназначения Пушкин вплотную подошел в третьем периоде своего творчества. Киреевский анализирует черты русско-пушкинского периода, называя их все и каждое характеризуя подробно: «Отличительные черты его суть: живописность, какая-то задумчивость И, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чудесное, которым дышат мелодии русских песен… и которое можно назвать центром его сердечной жизни».
Онегин отличается от Чайльд-Гарольда содержанием своего характера, он находится как бы на границе с будущим, связывая различные времена и традиции. Онегин – человек обыкновенный и потому, считал Киреевский, не похож на Чайльд-Гарольда, «ибо только разногласия связуют два различные созвучия».
Заслуга Пушкина в том, что он не подражал Байрону, не попытался сделать из Онегина нового Чайльд-Гарольда. Онегин, может быть, и готов к этой роли, но «не живет внутри себя жизнью особенною… и презирает человечество потому только, что не умеет уважать его». Роль диктуется временем, но, как справедливо замечает Киреевский, «время это еще не пришло для России и дай Бог, чтобы никогда не приходило». Это значит, что Пушкин следует не ролевой установке, а некоему предназначению. Ибо главное стремление Пушкина было аналогично стремлению всей русской культуры во второй половине 1820-х годов.
Киреевский определяет его как «стремление воплотить поэзию в действительности», «сближение с господствующим характером века». Так возникает идея синтеза, в котором сближение поэзии и действительности лишь один из этапов. Впрочем, сближение поэзии и действительности не означает еще подчинения одного другому. Синтез не уничтожает противоречий, но помогает их примирить, т. е. осознать и принять необходимость каждого элемента, подчинить их некоему третьему, высшему началу. Таким началом может быть архетип, вынуждающий художника (и его героя) следовать своему предназначению.
Киреевский не случайно упоминает о «разногласиях», которые преодолеваются, смягчаются в синтезе. Он подразумевает переход к новой роли, более сложной, но более соответствующей предназначению.
Ролевая установка формально сохраняется. Поэт стремится соединить в своем творчестве жизнь и поэзию, постигая и отражая свой век. Однако же новая «роль» носит уже иной характер. Это уже не просто функциональное выполнение обязанностей, определяемых временем, культурой и т. п. Поэт уже зависит от действительной жизни с ее противоречиями, приземленностью интересов, со всеобщей пошлостью, наконец. Нам кажется, что такой подход уже исключает закрепление за человеком одной-единственной роли, предполагает существование нескольких ролей, а следовательно, и возможность выбора. Это уже принципиально. Тем самым Киреевский делает шаг к признанию множественности эстетических систем и их художественного равноправия. Он полагает, что художник сознательно делает свой выбор (во всяком случае, обладает таким правом). Применительно к Пушкину это означает осознанную эволюцию, созидание своего художественного мира по своим собственным правилам. Киреевский пишет: «…Такое борение двух начал – мечтательности и существенности – должно необходимо предшествовать их примирению. Это переход с одной ступени на другую…»
Как же совершается этот переход? От подражательности и фантазии «итальянско-французской» Пушкин приходит к сознательному следованию традициям и приемам Байрона, в котором также отразился «голос века». Этот переход, следовательно, также пока еще функционален. Роль романтического поэта вообще связана еще тесно с ролью последователя Байрона. Но постепенно эти роли расходятся. Но тогда отпадает необходимость в любом подражании, в любом следовании.
Пушкин постепенно обретает самого себя. В его поэзии появляются черты, присущие народной поэзии и отражающие народную жизнь. Это переход к освобождению от игры, от роли. Дело в том, что роль поэта в данном случае, в данное время совпадает с его предназначением. Роль может быть случайной или сущностной, минутной или длительной. Предназначение же связано со всей жизнью поэта. Это категория субстанциональная. В «Обозрении» 1829 г. Киреевский разбирает творчество Д. Веневитинова и говорит, между прочим, что Веневитинов «был рожден еще более для философии, нежели для поэзии».
Слово «рожден» легко истолковать как подтверждение того, что публицист сознательно противопоставлял роль и предназначение в поэзии. Однако на самом деле все сложнее. Киреевский все же не только разделял, но и связывал два этих начала. Веневитинов был рожден, т. е. предназначен для философии. Но это его предназначение уже есть его истинная роль в литературе, роль поэта-философа, мыслителя. Веневитинов попытался соединить рациональное и сердечное, т. е. добиться того же, к чему стремился и сам Киреевский. «Созвучие ума и сердца и было отличительным характером его (Веневитинова. – В. Г.) духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения… Прозаические сочинения его, которые печатаются… еще подтвердят все сказанное мною». Однако смерть Веневитинова, так и не выполнившего своего предназначения, не останавливает всеобщего развития и не мешает свершиться предназначенному. «Но что должен был совершить Веневитинов, чему помешала его ранняя кончина, то свершится само собою, хотя, может быть, не так скоро, не так прекрасно. Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности». Поразительно здесь признание, что даже смерть Веневитинова не может помешать выполнению его предназначения, что оно лишь «задержится» и ослабится, но тем не менее осуществится. Как объяснить этот парадокс: предназначение как бы отделяется от личности, существует и реализуется вне ее? Киреевский ведь прямо указывает, что оно исполнится «само собою». Но сам автор не видит в своих словах никакого противоречия. С одной стороны, сама ранняя кончина Веневитинова могла быть заложена в его судьбе и связана с его предназначением. С другой стороны, его наследие, все, сделанное им, становится частью народной культуры, нуждающейся в развитии.
В словах Киреевского столько же наивной веры в народ, в движение русской словесности, сколько и трезвого расчета, понимания сверхличностного характера истории. Судьба Веневитинова, его предназначение были тесно связаны с судьбой России. Функциональное («ролевое») совершенствование под силу каждому. Предназначение выпадает на долю только гению, только избраннику, – будь то личность или народ.
Балансирование между категориями роли и предназначения позволило Киреевскому более объективно, чем современные ему критики, взглянуть на Пушкина. Киреевский прослеживает, как Пушкин, отходя от ролевых установок, приходит к постижению самого себя и, выражая век, невольно выполняет свое предназначение художника. Так действует архетип «выбора судьбы».
Для эстетики Киреевского значим и другой важный архетип, также повлиявший на его понимание роли и предназначения, архетип, определивший эстетические поиски и решения Киреевского – уже не только как критика, но и как самобытного художника. В неоконченной повести И. Киреевского «Остров» мы находим архетип золотого века.
На первый взгляд он находился на периферии творческого сознания Ивана Киреевского. Но так ли это? Если исходить из того, что до нас дошло всего четыре прозаических фрагмента Киреевского, причем всего два из них завершенных, мы можем согласиться. Но если рассматривать мифологему золотого века в связи с философскими интересами Киреевского, если искать следы этой мифологемы в его публицистике и критике, то окажется, что мотив золотого века – пусть и опосредованно – прослеживается в большинстве его статей. Попробуем понять способы и приемы представления этой мифологемы в его творчестве.
Так, в первой же своей статье – «Нечто о характере поэзии Пушкина», Киреевский анализирует поэму Пушкина «Цыганы». Он сравнивает повседневную жизнь цыган (как ее изобразил Пушкин) и «внутреннюю музыку их чувствований». Это сравнение приводит критика к осознанию противоречия между мечтой поэта и реальностью. «Мы видим народ кочующий, полудикий, который не знает законов, презирает роскошь и просвещение и любит свободу более всего; но народ сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному общежитию <…> Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии, и внутреннее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счастливой неиспорченности совершенства народного»[29]29
Киреевский И. Критика и эстетика М., 1979. С. 50.
[Закрыть]. Мысль о золотом веке интересует Киреевского как мысль о возможности природного нравственного совершенства. Может ли народ необразованный, не знакомый с законами, живущий природным инстинктом и чувствами, добиться справедливости, достигнуть нравственного превосходства над народами цивилизованными? Критик не дает прямого ответа на вопрос, поскольку отказывает картине Пушкина в праве называться золотым веком. Тревоги, сомнения, обиды не обошли стороной цыганские шатры. Тогда, замечает Киреевский, «вместо золотого века», Пушкин показал бедный, несчастный, полудикий народ.[30]30
Там же.
[Закрыть]
Знакомый уже нам мотив иллюзорности и обманчивости мира мы встречаем в романтической новелле «Опал» (1830 г). Вот заключительные слова Нурредина, героя новеллы: «Суета все блага земли! суета все, что обольщает человека, и чем пленительнее, тем менее истинно, тем более суета! Обман все прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это мечта».[31]31
Киреевский И.В. Опал. // В царстве Муз: Салон Зинаиды Волконской. М., 1986. С. 553.
[Закрыть] В сказке Киреевского мы вновь встречаемся с концепцией роли и предназначения. Художник сталкивает две судьбы, две модели поведения властителя, показывая внешнее крушение и одновременно – духовное преображение героя. Воинственный и грубый сирийский царь Нурредин начал войну против китайского царя Оригеллы и победил. Китайский царь пытается прибегнуть к магии, но дервиш говорит, что враг непобедим, ибо «счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполняться, ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать». Нурредин неуязвим вследствие своей природной грубости, неспособности прикоснуться к тайнам мира, отсутствия любопытства. Однако дервиш придумал еще одно средство. Он обещает: «Я сорву звезду с неба; я привлеку ее на землю; я сожму ее в искорку; я запру ее в темницу крепкую, – и спасу тебя; но для этого, государь, должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданническую». Оригелла согласился на все. И вот к Нурредину является монах и вручает ему перстень, в котором тот может увидеть и свое счастье, и свою погибель. Нурредин не верит, но все же надевает перстень с опалом и начинает в него всматриваться.
Человек, который дотоле никогда не увлекался, не желал невозможного, не задумывался о несбыточном, неожиданно ощутил зов прекрасного. Он попадает внутрь опала и оказывается в ином царстве, на незнакомой планете, где властвовала Музыка. Романтическое двоемирие – указатель двойственности переживаний и состояния Нурредина. Он, не задумывавшийся о потустороннем, сам теперь начал жить одновременно в двух мирах. «Жизнь Нурредина на звезде была серединой между сновидением и действительностью». Земные дела его пришли в упадок, и насколько он раньше считал важными победы, сражения, настолько же теперь он мало придает им значения. Нурредин понимает и принимает идею красоты, любви. Он наслаждается обществом девицы Музыки Солнца и вручает ей свою судьбу, заключенную в перстне. Он сделал выбор – и проиграл. Девица Музыка Солнца больше не появлялась. Как и обещал дервиш, Нурредин потерял свою звезду, а с ней и свою судьбу – девицу Музыку Солнца. Диалог с судьбой завершен, и вчерашний победитель утратил интерес к жизни, проиграл войну и уже сам попал в плен к Оригелле.
Но нам по-прежнему неясно, выполнил ли Нурредин свое предназначение или же отказался от него? И какая роль уготована ему была на земле? И справился ли он с этой ролью? Ответить на эти вопросы можно по-разному. Если предназначение Нурредина – битвы и покорение мира, оно осталось невыполненным. Если же его предназначение – прикосновение к красоте, тогда оно реализовано. Киреевский не настаивает ни на одном из вариантов и не дает прямого ответа. Однако сказка существовала в контексте романтической литературы. Гофман, любимый автор Киреевского и русских романтиков, в новелле «Песочный человек» утверждал устами Клары: «Ежели существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную, губительную стезю, куда мы бы иначе никогда не вступили, – ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим "я", ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы. Но ежели дух наш тверд и укреплен жизненной бодростью, то он способен отличить чуждое, враждебное ему воздействие, именно как такое, и спокойно следовать тем путем, куда влекут нас наши склонности и призвание, – тогда эта зловещая сила исчезнет в напрасном борении за свой образ, который должен стать отражением нашего “я”[32]32
Гофман Э. Т. А. Песочный человек // Литературные манифесты… С. 192.
[Закрыть].
По этому принципу и разворачивается действие «Опала». Нурредин видит в перстне себя, попадает в другой мир и уже верит в реальность происходящего. Вопрос же заключается в том, какой именно Нурредин настоящий – тот ли, кого мы видим в начале, или же тот, кто смиренно разговаривает со своим вчерашними врагом Оригеллой и признается в разочарованности всем миром? А может быть, что оба они настоящие. Ведь мудрец попытался поднять сердце Нурредина выше его звезды. Но важно и другое. Нурредин в обоих случаях свободен (разумеется, в романтическом понимании свободы). Он сознательно делает выбор, идет на риск, начиная войну или отдавая опал Музыке Солнца.
Мотив волшебного камня и его влияния на судьбу человека использован в повести Е.А. Баратынского «Перстень» и повести В.А. Жуковского «Красный карбункул». Но это чисто внешнее соответствие.[33]33
Можно отметить еще стихотворное переложение сказки, сделанное В.И. Киреевским, сыном И.В. Киреевского, однако оно ничем не отличается от оригинала и не представляет интереса как самостоятельное произведение.
[Закрыть] Гораздо интереснее идея рассказа Л.Н. Толстого «Ассирийский царь Асархадон». Толстой использует мотив перемены судьбы, когда победитель вдруг превращается в побежденного. Царь Асархадон завоевал царство царя Лаилиэ, а его самого посадил в клетку и собирается казнить. В это время и приходит к нему старец, объясняющий: «Ты и Лаилиэ – одно…Тебе только кажется, что ты не Лаилиэ, и Лаилиэ не ты». По приказу старца Асархадон погружается в купель с водой и осознает себя царем Лаилиэ, переживает момент казни.
«– Сейчас смерть, уничтожение, – думает Лаилиэ и, забывая свое решение выдержать мужественно спокойствие до конца, рыдая, молит о пощаде. Но никто не слушает его.
– Да это не может быть, – думает он, – я, верно, сплю. Это сон. – И он делает усилие, чтобы проснуться. – Ведь я не Лаилиэ, я Асархадон, – думает он.
– Ты и Лаилиэ, ты и Асархадон, – слышит он какой-то голос и чувствует, что казнь начинается. Он вскрикивает и в то же мгновение высовывает голову из купели. Старец стоит над ним, выливая ему на голову последнюю воду из кружки»[34]34
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 14. С. 18, 21. Вопрос о степени оригинальности этого рассказа нуждается в дальнейшем изучении. Сам Толстой остался недоволен и писал Шолом_Алейхему: «Мысль сказки “Царь Асархадон” принадлежит не мне, а взята мною из сказки неизвестного автора, напечатанной в немецком журнале “Theosophischer Wegweiser” в 5-м № 1903 года под заглавием “Das bist du” (Кузина А.Н. Примечания // Там же. С. 536).
[Закрыть].
Общий вывод рассказа вполне в духе Толстого. Человек не властен над жизнью ближнего, ибо «жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть одной жизни». Предназначение Асархадона (как и Лаилиэ, как и всех других) жить и постигать жизнь. Ибо «жизнь уничтожить и изменить нельзя, потому что она одна только и есть. Все остальное только кажется». При всем различии замысла двух художников мы можем заметить и общие черты. Романтический чернокнижник Киреевского берется погубить Нурредина, пробуждая в нем чувство любви. Старец Толстого старается спасти Лаилиэ-Асархадона, показывая единство двух сущностей, внушая победителю любовь к противнику как к самому себе. Жизнь держится на любви. «Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от жизни других существ, будешь считать другие существа собою – любить их»[35]35
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 14. С.22.
[Закрыть]. Таким образом, помимо сходства ведущего мотива, в обоих новеллах мы находим мысль о необходимости любви. Только у Киреевского это любовь романтическая, выраженная с помощью прямой фантастики. Толстой же, прибегая к завуалированной фантастике, вкладывает в уста героя мысль о всемирной, всечеловеческой любви, реализует христианскую идею любви к ближнему как к самому себе. Но зародыши этой идеи мы, бесспорно, находим уже в сказке Киреевского.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































