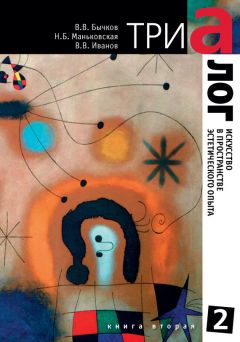
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
О синтезе искусств
338. В. Бычков
(12.04.15)
Христос воскресе!
Дорогой о. Владимир, пусть в эти светлые праздничные дни душа Ваша наполнится духовной радостью и полнотой бытия.
Недавно, перебирая старые книжки по византийскому искусству, я натолкнулся в одной из них на пожелтевший листок с планом когда-то замысленной, но не написанной статьи по византийскому литургическому синтезу искусств. Я тогда активно работал над книгой по византийской эстетике, увлекался идеями Флоренского, высказанными в статье «Храмовое действо как синтез искусств» и собирался как-то осветить эту проблему и в книге. Однако кажется, так до этого всерьез и не добрался. Между тем в то время (70-е годы), как Вы помните, идея синтеза искусств витала в интеллигентских кругах и в связи с по-новому прочитанными текстами символистов, и, с другой стороны, под влиянием стуктурно-семиотических и информационных поисков некой общей для всех искусств эстетической информации, и в связи с нарастанием технико-сциентистского проникновения в сферу искусства. В Питере этим, как я вспоминаю, занималась группа Сапарова, в Казани – группа Галеева, в Москве этим интересовались кинетисты и т. п.
Я тогда понял, что в связи с Византией и вообще православным богослужением у меня не хватает материала и, главное, конкретного богослужебного или хотя бы воцерковленного опыта. А относительно синтеза искусств уже в современном понимании я тогда тоже испытывал определенный скепсис, хотя в обратном меня вроде бы пытались убедить и русские символисты, и Скрябин, и Кандинский со своим «Желтым звуком», и, отчасти, о. Павел. Да и Рудольф Штейнер, с которым я тогда начал постепенно знакомиться, создавал свой Гётеанум, конечно, имея в виду определенный срез именно синтеза искусств. Тем не менее, во все последующие годы эта тема ушла из моего сознания, а вот сейчас пожелтевший листок с планом ненаписанной статьи опять возбудил какие-то движения в моем сознании, и я решил поделиться своими давними соображениями с Вами. А с кем же еще? Ведь Вы в процессе литургического действа живете в среде, которую и о. Павел в свое время, и я под его влиянием в 70-е годы считал во многом созданной именно с помощью этого синтеза. Так ли это? – хотелось бы мне спросить Вас сейчас, и, может быть, совместно поразмышлять на эту тему.
Для этого я направляю Вам свои старые тезисы, несколько развернув их в достаточно связанный текст, в котором для Вас, я думаю, нет ничего принципиально нового, но важно, как сегодня Вы изнутри Вашего и церковного, и художественно-эстетического, и эзотерического опыта смотрите на эту проблему. Мне было бы это и интересно, и полезно, ибо более компетентного собеседника на эту тему сегодня найти невозможно.
Вот неожиданно обретенные мною на Страстной неделе (теперь уже апрельские сего года) тезисы.
Проблема синтеза искусств имплицитно вызревала в культуре еще с глубокой древности. Первыми и, может быть, наиболее органичными опытами синтетического объединения искусств в некое целостное действо были культовые мистерии древних народов, в частности, древних греков. Они основывались на мифологическом сознании, которое находило конкретное сакрально-художественное выражение, воплощение, презентацию в мистериальном действе, включавшем в свой состав целый комплекс древних искусств. Синестетический синкретизм древних мистерий в начале XX века хорошо прочувствовали, как известно, некоторые русские символисты, особенно глубоко Вячеслав Иванов, Андрей Белый (на основе антропософии Рудольфа Штейнера), композитор Александр Скрябин, и усматривали в нем перспективы для будущего синтезированного развития искусства.
Между тем активно развернувшиеся в XX веке исследования византийского искусства, культуры, эстетики показали, что следующим шагом после античных мистерий в развитии мифо-синестетического сакрально-художественного опыта и сознания стал литургический синтез искусств византийского богослужения. Первым, как известно, эту тему тезисно, но достаточно четко сформулировал еще в 1918 г. о. Павел Флоренский. Сегодня, после основательного изучения патристической и византийской эстетики, византийского храмового искусства, можно с еще большей уверенностью, чем в начале прошлого века, утверждать, что византийцами действительно был заложен фундамент для организации храмового синтеза искусства на духовно-синестетических началах.
Храм осмысливался византийцами как духовно-материальный космос, некий реальный посредник между миром земного бывания и метафизической реальностью подлинного бытия. Соответственно и все средства художественного выражения (искусств): архитектуры, живописи, декоративных искусств, певческого искусства, освещения храма, драматургии литургического действа были направлены на созидание этого космоса. Динамику и жизнь ему придает само храмовое сакральное действо с его глубинной мифо-символологией, движением, событиями, таинствами, т. е. всей церковной жизнью, в которую активно включены не только ведущие действо священнослужители, но и все верующие, участвующие в нем.
Литургическое действо византийцев предельно символично. И эта символика, будучи сакрально-мифологической по своему существу, воспринималась византийцами в процессе богослужения как реальная символика. Литургический символ в сознании византийцев не только символизировал (в современном понимании), но и реально являл символизируемое. Презентность метафизической реальности в литургическом символе составляла сакральную основу храмового синтеза искусств, его духовные скрепы. Реальная символика храмового духовно-материального космоса имела своей высшей точкой, центром духовного восхождения пресуществление Св. Даров во время Литургии и причастие им (Дарам) участвующих в литургическом действе, реальном единении верующих с духовным Центром и Средоточием Универсума – Богом.
Сакральная функция храмового действа была его главной, высшей реальностью, духовно просвещающей и приобщающей верующего к высшему знанию, к вечному бытию. Однако путь к этому в храмовой предельно эстетизированной среде осуществлялся с помощью целого ряда других функций, таких как информативная (чтение Св. Писания и иллюстрирование его в визуальных образах мозаик, икон, росписей храма), дидактическая (проповедь правил «образа жизни» христианина), лаудационная (благодарственное прославление, величание Бога), молитвенно-поклонная, символико-дидактическая (осмысление символики священной истории) и др.
На реализацию этого был ориентирован весь комплекс художественных средств выражения, организованных в византийском храме на синестетически-синтетической основе. Главным эстетическим модусом объединения храмовых искусств в нечто целостное было глубинное стремление византийских мастеров к организации их на основе анагогического (от греч. anagoge – возведение) принципа, именно в модусе возвышенного. Не столько прекрасное – хотя и оно тоже, – сколько возвышенное являлось объединяющим принципом византийского художественного синтеза. Все виды храмовых искусств, как и само литургическое действо, были ориентированы на возведение верующих от земного мира к высокому, но пугающему, устрашающему миру метафизической реальности. На протяжении ряда столетий в византийском храме была сформирована целостная предельно эстетизированная среда, которая основывалась на общих для всех искусств (архитектуры, живописи, прикладных искусств, красноречия, певческих искусств) принципах организации художественного образа. Среди них на первом месте стоят светозарность, каноничность, условность, иератичность, символизм, вневременность и внепространственность.
Главным синтезирующим фактором храмовых искусств стал свет. Разработанная на рубеже V–VI вв. Дионисием Ареопагитом световая мистика и эстетика стали духовно-эйдетической основой всех видов византийского искусства. Автор «Ареопагитик» показал, что свет всех уровней материализации (от сверхсветлой тьмы до видимого света) является главным носителем (photodosia) высшего духовного знания в системе небесной и церковной иерархий. Поэтому создатели храмовых искусств от архитекторов до мозаичистов, от творцов песнопений до производителей облачений церковнослужителей и храмовой утвари стремились всеми имеющимися у них ремесленно-художественными средствами наполнить светом создаваемые ими произведения и предметы. Отсюда и цвет воспринимался византийцами в первую очередь как носитель света. Мозаики и иконы византийских храмов прекрасны и возвышенны именно своей светоносностью. Золото, серебро, драгоценные камни, в обилии украшавшие всё в византийском храме, усиливали своим магическим блеском общую атмосферу торжественно-возвышенного настроения в храме. Свето-цветовая среда являлась одной из основ синестетического объединения искусств в некую динамическую художественно-сакральную целостность в византийском храме.
В этом же направлении действовали и остальные, перечисленные выше сущностные принципы организации художественно-стилевого единства главных видов византийского искусства. В частности, каноничность этого искусства активно способствовала усилению его художественности, т. е. эстетического качества, ориентированного в этом искусстве на инициацию возвышенного состояния всех присутствующих в храме.
Дорогой Вл. Вл., мне и сегодня высказанные здесь мысли в основе своей представляются актуальными, но очень хотелось бы узнать и Ваше мнение, а может быть, и как-то продвинуться в этом направлении дальше, если эта тема Вас заинтересует.
Это письмо я с Пасхальным поздравлением отправляю и Надежде Борисовне. Очень надеюсь, что и она сочтет возможным присоединиться к нашему разговору. Все-таки после десятилетних триаложных бесед мне лично как-то не хватает ваших писем, друзья.
С праздничным ликованием и добрыми энергетическими посылами
Ваш Виктор Б.
339. В. Иванов
(17–18.04.15)
Дорогой Виктор Васильевич,
только сегодня у меня появилась возможность присесть за письменный стол и снова перечитать Ваше содержательное послание. Поднятая Вами тема литургического синтеза искусств ничего, кроме радостного одобрения, у меня не вызывает. Даже в тезисной форме она раскрыта с увлекательной полнотой. При всей моей любви к царапкам и цапкам в дружеской дискуссии, право, не нахожу повода к чему-нибудь прицепиться. Вот, Ваше предшествующее письмо – это дело другое… Познакомившись с обличительными речами агностического младенца, я чуть не потерял дар речи, и еще долгое время из моего кабинетика раздавалось скрежетание зубов, угрюмое рычание и неприятные звуки, вызванные царапаньем медвежьими когтями по компьютерной клавиатуре. Теперь же, напротив, сижу в полном умилении, перечитываю Ваши строки, и сердце мое наполняется благодарностью судьбе за то, что мне послан такой мудрый друг и собеседник!
Поэтому с моей стороны было бы проявлением душевной черствости и вопиющей к небесам черной неблагодарности увильнуть от посильного участия в обсуждении Ваших тезисов, хотя, признаюсь, в последнее время византийский синтез не входил в круг моих исследовательских интересов, более сосредоточенных на проблемах анамнестического платонизма. Статья о Флоренском, возбудившая столь гневную реакцию у новорожденного младенца, вовлекла меня в неокритский лабиринт, из которого я не вышел и по сей день. Однако попробую все же в лабиринтной полутьме поразмышлять над Вашими тезисами, хотя характер предполагаемого собеседования, точнее говоря, его целевая направленность не представляется мне достаточно ясной.
Для начала предложу Вам со своей стороны вопрос о том, какое содержание вкладываете Вы в понятие синтеза! Занимаясь некогда разработкой теории метафизического синтетизма, возникшей в силу потребности осмыслить свой собственный эрмитажный опыт, приучивший меня сочетать несочетаемое, мне приходилось делать терминологический выбор между символом и синтезом. Несмотря на свое преклонение перед Андреем Белым, признававшим символ и отвергавшим синтез, я все же остановился на синтезе. Слово «сюмболон» Белый производил от глагола «сюмбалло» (соединяю), а «синтез» – от глагола «сюнтитэми» (сополагаю). Символ выражает соединение двух или более качеств в новое органическое целое. Синтез же только сополагает рядом эти качества. При таком словопонимании нетрудно понять все преимущества символа над синтезом. Тем не менее я остановился на синтезе. Символ – понятие слишком многозначное, способное вместить самые разнообразные содержания, тогда как синтез более точно отражает процесс сплавления разных форм и качеств, в результате которого возникает принципиально новое целое. Ориентиром для меня служило прежде всего понятие химического синтеза, который не «со-полагает» качества, а творит новое вещество. Еще более глубоко синтетические процессы проходили на алхимическом уровне. В конце концов, и сам Андрей Белый признался, что под символом он разумел «химический синтез». «"Символизм" означало: осуществленный до конца синтез, а не только соположение синтезируемых частей».
Теперь, возвращаясь к византийской культуре, уместно спросить: с какого рода синтезом в литургически-художественной сфере мы имеем дело? Удалось ли византийцам синтезировать различные искусства в «химическом смысле» или речь идет о «механическом» соположении различных искусств в культовом пространстве и времени? Как вообще возникло желание использовать все основные виды искусства в литургической жизни? Совершенно очевидно, что церковные таинства (мистерии) в первоначальной форме сами по себе не предполагали никакого «синтеза» искусств и не нуждались в них. Тайная вечеря была совершена Иисусом в «устланной» горнице (Лк. 22,12), т. е. простой комнате с подстилками для возлежания в доме одного из своих приверженцев (вероятно, тайных). Возможность совершать Евхаристию в домах имелась вплоть до IV века и могла бы сохраняться и дольше, если бы не новые канонические запреты, связанные с радикальными переменами в церковной сфере.
Столь же мало нуждалось в эстетическом оформлении и второе по значимости таинство. Для совершения крещения, как свидетельствует Лука в «Деяниях святых апостолов», достаточно было любого водного источника. Некий евнух высокого ранга («вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее»), убежденный апостолом Филиппом, восхотел немедленно креститься. «Они приехали к воде, и евнух сказал, что мешает мне креститься?» – «и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Лк.8,36; 38). В отличие от Евхаристии таинство крещения в случае необходимости и по сей день может совершаться в домашних и прочих (например, в больнице) условиях.
Таким образом, не входя в исторические подробности, Вам прекрасно известные, можно сказать, что литургическая жизнь в раннехристианский период не только не нуждалась в эстетическом оформлении, но даже в некотором смысле находилась в оппозиции к символическому ритуализму Моисеева законодательства, придававшего большое значение сакральному искусству (символике цвета, например) при сооружении скинии. Соответственно, в этих рамках и не возникал вопрос о синтезе искусств. Однако постепенно в литургическую жизнь начали вводиться эстетические элементы, и так или иначе возникала необходимость гармонизации в их употреблении, но предполагаю, что никто не задумывался об их синтезе в вышеупомянутом смысле.
Здесь также надо различать между синтетическими процессами, проходившими в рамках одного вида искусства (например, живописи или архитектуры) и синтетическими устремлениями в гармонизации соотношений между различными искусствами, теми же архитектурой, живописью, музыкой и поэзией (следует добавить в этот ряд еще выявленные Флоренским такие малоизученные или даже совсем неизученные в их историческом развитии виды сакрального искусства, как искусство огня, запаха, дыма и одежды). Каждое из этих искусств, в свою очередь, имело собственный ритм развития. Одно достигало большего совершенства, другое находилось лишь в зачаточном состоянии. Но, безусловно, к рубежу второго тысячелетия можно говорить о состоявшемся византийском синтезе, прежде всего в литургической сфере, предопределившем и синтетические процессы в области церковного искусства.
Шмеман выделил три основных элемента (пласта) в византийском синтезе, приведших к принципиально новому литургическому уставу. Первый пласт в той или иной степени сохранял остатки «иудео-христианской первоосновы христианского культа». Замечу, что зрелый византизм чем дальше, тем больше отходил от этой основы также и в искусстве. Второй пласт отражал тип «мирского» благочестия, сложившегося в константиновскую эру, и был наиболее благоприятен для развития церковного искусства. Третий пласт – монашеский, первоначально наименее способствовавший эстетизации культа и затем – в силу таинственной диалектики духовной жизни – ставший основой для укоренения иконопочитания в литургическом благочестии. Нетрудно заметить очевидные параллели между процессами в чисто культовой и эстетической сферах, приведших к византийскому синтезу.
Что касается литургики, то здесь Шмеман разработал исследовательский метод, который можно использовать и при изучении византийского искусства. Согласно Шмеману, «задача историка состоит в том, чтобы, с одной стороны, определить каждый из этих пластов в отдельности, а с другой, раскрыть соотношение их в конечном синтезе, в одном замысле или уставе». Задача трудная, признавался Шмеман, поскольку «эти три пласта были не просто "сцеплены" один с другим в некоем механическом соединении, а претворены в подлинный синтез и, это значит, изменены в соответствии с общим замыслом». В эстетической сфере эти процессы еще более сложны, поскольку если в литургике мы имеем дело с культовыми формами, структурами и уставными предписаниями, то в нашем случае гораздо труднее установить соотношения между гетерогенными видами искусства. Допустим, в монастырях утреня служилась так, а в городском храме по-другому, но тем не менее утреня остается утреней, и сравнивать развитие городского и монашеского богослужения сравнительно легче, чем найти соотношение, например, между архитектурой, музыкой и «искусством дыма» (каждением).
Поводя итог моему вынужденно краткому письму, замечу, что не предвижу больших расхождений в понимании синтеза. Но предполагаю немалые трудности при конкретном выявлении и осмыслении синтетических процессов в византийском искусстве.
Мог бы написать больше, но на следующей неделе у меня будет, к сожалению, мало времени для кабинетной работы, а мне не хочется замедлять ритм нашего виртуального (увы) общения. Пусть письма будут короче, но зато чаще отсылаемые друг другу.
С пасхальным приветом и светлыми благопожеланиями Л. С. и Н. Б.
Ваш внимательный собеседник В. И.
340. Н. Маньковская
(20.04.15)
Дорогие друзья, меня очень радует тонус наших бесед. Их полемический характер в двух предыдущих «Триалогах» приводил порой к своеобразному синтезированию наших художественно-эстетических позиций. Так что разговор о синтезе искусств и проблемах синестезии представляется важным, в том числе и по этой субъективной причине.
В. В. совершенно справедливо пишет о том, что русские символисты хорошо прочувствовали синестетический синкретизм древних мистерий. Вдохновлял он и французских символистов, стремившихся к художественно-эстетическому синтезу духовного и земного, невидимого и видимого миров – о характере этих поисков, сущности символистской концепции соответствий мне уже приходилось писать в предыдущих Разговорах.
Впрочем, не все символисты во Франции были охвачены синестетической эйфорией. Так, представитель мистической ветви французского символизма Жозефен Пеладан занимал в отношении синтеза и синестезии особую позицию, во многом отличную от той, что утвердилась во французском символизме. Признавая, что некоторые музыкальные произведения сопряжены с цветовыми впечатлениями («Лоэнгрин» – серебристый, серо-голубой; «Тристан» – пурпурный), он полагал, что делать на этом основании далеко идущие обобщения несколько наивно. Более обоснованным Пеладан считал разговор не о звукоцветовых ассоциациях, а о колорите музыкальных модусов, как в древнегреческих ладах. Живописный контур уподоблялся им мелодической линии в музыке либо поэзии (Тициан – мажор, Сюлли-Прюдом – минор); живописец оркеструет, гармонизирует свое произведение. Пеладан заключал, что если что-то и роднит музыку и живопись, то это порождаемые ими вибрации души, мечты, воспоминания – та неопределенность, которая возвышает слушателя и зрителя до энигматического, таинственного, загадочного мира идей.
Что же касается концепции синтеза искусств как таковой, то Пеладан сопрягал ее, скорее, с упадком эстетики: «Связи между искусствами требуют осторожности. Когда творец пользуется средствами другого искусства, он дезориентирован, так как в искусствах покоя нет вибрации; в нервных ассоциативных искусствах нет цвета, в морфологических искусствах нет тона». Пеладан выступал приверженцем не синтеза искусств, а их строгой классификации по иерархическому принципу. Высшим искусством он считал литературу; на среднем уровне расположены изобразительные искусства, причем архитектура превалирует над живописью; музыка же оказывается низшим искусством, так как, по Пеладану, она воздействует материальным путем на нервную систему, на чувства, и лишь потом – на дух. Последний вывод представляется весьма парадоксальным: ведь один из кумиров Пеладана в сфере искусства – Вагнер; впрочем, возможно, французского мистика волновала не столько музыка немецкого композитора, сколько вдохновлявшая его германская мифология.
Дорогие собеседники, предлагаю сделать «большой скачок» и перейти от исторического экскурса к искусству и арт-практикам XXI в., активно использующим некоторые синестетические и синестезийные принципы на основе современных мультимедиа. Ведь они позволяют объединить кино, видео, анимацию, компьютерную графику, фотографию, текст, звук в одном цифровом представлении, а также задают способ интерактивного взаимодействия с последним в гипермедиа. Актуализируя поиски символистов и их последователей, мультимедийные арт-практики – современные шоу с использованием электроники, кинематики, лазерной техники, компьютерные инсталляции, сетевая литература, трансмузыка, интернет-арт, интерактивное искусство, виртуал-арт – способны открыть новые перспективы синтеза искусств и художественной синестезии на техно-электронной основе. Открываютли?
Да, сегодня активно задействованы такие художественные (или псевдохудожественные) приемы, как «кино в театре», «театр в кино» и т. п., и при этом есть основания утверждать, что в современном арт-пространстве мультимедиа – везде. На мой взгляд, о мультимедийности во всех визуальных искусствах имеет смысл говорить как о приеме. А раз о приеме – то сам по себе он нейтрален, как, скажем, канон в иконописи, повторение в визуальных искусствах и т. п. То есть все зависит от того, в чьих руках он находится – отталанта художника, и в каких целях используется – художественно-эстетических, и тогда речь идет о художественном приеме, или же иных. Здесь интересно проследить, что может дать и дает не просто традиционный синтез искусств (как известно, кинематограф, например, по своей природе является синтетическим искусством), но интродукция поэтики одного искусства в художественный язык другого как авторский прием.

Сцена из балета «Чайка».
Хореограф Д. Ноймайер




Сцены из балета «Дама с камелиями».
Хореограф Д. Ноймайер
Но для начала – о самом приеме. Как таковой он не нов. Вспомним «кино в кино», способное придать кинозрелищу стереоскопичность, играть на рифмах и контрастах или провоцировать зрительское остранение, создавать эффект зеркала – возможно, и кривого, взгляда со стороны («Валентино» Э. Декстера, «Американская ночь» Ф. Трюффо, «Вечное возвращение» К. Муратовой, «Оттепель» В. Тодоровского).
Издавна распространен прием «театра в театре» – вспомним хотя бы дачный театрик Треплева в чеховской «Чайке». А сегодня все чаще встречается прием «балет в балете». Вот хотя бы недавняя премьера в Большом театре – «Дама с камелиями» Джона Ноймайера: Виолетта и Арман смотрят сцену из «Манон Леско», Манон и де Грие участвуют во многих балетных сценах, оттеняя различные аспекты отношений двух пар, рифмуясь и контрастируя с судьбами главных героев, их переживаниями (балет в балете был у Ноймайера и в «Чайке» на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, где он транспонировал коллизию старого и нового в литературе на балетмейстерство). К приему «балета в балете» часто прибегал и Морис Бежар, начинавший некоторые свои спектакли с «класса», балетного станка, то есть обнажавшего сам прием, демистифицирующий балетную «магию». Тот же самый ход применительно к оперному искусству – «опера в опере» использовала, правда крайне неудачно, Мэри Циммерман в своей постановке «Сомнамбулы» Винченцо Беллини в Метрополитен-опера, которую, действительно, хотелось слушать с закрытыми глазами, чтобы не видеть бытовой кавардак на сцене.

Сцена из оперы В. Беллини «Сомнамбула».
Режиссер М. Циммерман
(Метрополитен-опера, 2009)




Сцены из фильма «Анна Каренина».
Режиссер Д. Райт
В данном ключе можно было бы говорить о «живописи в живописи» – вспомним хотя бы «Менины» Диего Веласкеса.
Понятно, что все рассмотренные нами выше приемы – случаи гомогенности, однородности поэтик внутри одних и тех же видов искусства. А как обстоит дело с их гетерогенностью, разнородностью, ну хотя бы применительно к кинематографу?
Здесь тоже существует ряд синестетических приемов, таких, скажем, как «театр в кино». Сошлемся на недавний пример – фильм «Анна Каренина» Джо Райта по сценарию Тома Стоппарда. В этом постмодернистском кинохэппенинге на первом плане оказываются остранение, иронизм, в конечном итоге создающие у зрителя ощущение ледяного холода. (Знаменательно, что финал этого фильма рифмуется с решениями Сергея Соловьева в его «Анне Карениной» и Романа Виктюка в давнем спектакле в Театре Вахтангова: постаревший Каренин созерцает подросших детей Анны: 1) играющих на цветущем лугу; 2) катающихся на катке; 3) возникающих в воспоминаниях примирившихся старцев – Каренина и Вронского, припоминающих дела давно минувших дней.) Странно, что еще никто не додумался, наоборот, ввести в театральную «Анну Каренину» символическое «Прибытие поезда», с которого начинается и заканчивается история героини, рифмующаяся с фильмом братьев Люмьер.

Сцена из фильма «Гольциус и Пеликанья компания».
Режиссер П. Гринуэй
Другой пример «театра в кино» – «Гольциус и Пеликанья компания» Питера Гринуэя. Здесь он оборачивается архаизацией киноязыка, акцентом на живых картинах. Весьма эротичное, по замыслу, действо оказывается совершенно холодным, крайне неэротичным. Даже не верится, что сценические отношения персонажей живых картин могут, по сюжету, перейти в личные. И здесь не помогают талант режиссера, его мастерство и технические возможности, хотя задействованы те же инновационные приемы, что в «Чемоданах Тульса Люпера». Кстати, в том фильме много было и «живописи в кино» – стоит вспомнить ожившую мадам Муатасье Энгра в «Чемоданах», а до этого – гринуэевские же «Контракт рисовальщика», «Тайну „Ночного дозора“».
А теперь поговорим о «кино + видео в театре». Как не вспомнить здесь «Мастера и Маргариту» Франка Касторфа и его многочисленных эпигонов, таких как Андрий Жолдак («Кармен. Исход», «Федра. Золотой колос») – имя им легион. Режиссерский замысел очевиден – придать зрелищу объем, стереоскопичность; показать всевидящему оку зрителя закулисье, подробности интимных сцен, дать сверхкрупные планы, выйти на улицу, сопоставить происходящее между людьми с жизнью вивария. Но то, что одно время было театральной модой, сегодня уже стало общим местом.
Конечно, дело на этом не закончилось. Вот уже появилось и «ТВ в театре» – в «Гамлете/Коллаж» Робера Лепажа, где, как я уже писала выше, Гамлет – Евгений Миронов смотрит по телевизору фильм «Гамлет» Григория Козинцева с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. Но это, по-моему, единственная интересная сцена спектакля. Все остальное – сценографические трансформеры на фоне набора расхожих штампов. Играть в полную силу Миронову некогда, да и от его биомеханических экзерсисов в «Калигуле» осталась одна видимость.

Сцена из балета «Инфра».
Хореограф У. МакГрегор


Сцена из балета «Прототип».
Хореограф М. Вольпини
Все рассмотренные нами современные приемы воспринимаются сегодня в качестве подготовки к внедрению мультимедийности, 3D и 4D, элементов пара– и протовиртуальной реальности в разные виды и жанры искусства. И такие опыты уже существуют – это и многократно упоминавшиеся в наших беседах «Чемоданы Тульса Люпера», и балеты Уэйна Мак-Грегора, в которых фигурируют как танцовщики, так и их виртуальные компьютерные двойники[48]48
(Вставка 02.11.15): В балетном номере «Прототип» (хореография М. Вольпини, муз. П. Сальватори), исполненном премьером Ла Скала Роберто Болле на гала-концерте звезд мирового балета по случаю закрытия Всемирной выставки ЗКСПО-2015 в Милане, танцовщик взаимодействовал со своими многочисленными клонами.
[Закрыть], или Кристофера Уилдона с его «Алисой в стране чудес», где танцевальная неоклассика сочетается со спецэффектами в духе диснеевских мультфильмов (запомнилась мастерски сделанная компьютерная улыбка чеширского кота).
Пока что, на мой взгляд, синестетические достижения на новой технической основе в художественной сфере – большая редкость. Мультимедийные приемы поставлены, скорее, на службу «всеобщей шоуизации». И здесь для мультимедийщиков возникает большой риск перетянуть одеяло на себя, девальвировать актерскую игру, пение, танец. Само собой разумеется, чтобы не пришлось воспринимать все это «с широко закрытыми глазами», желательно пользоваться возможностями мультимедийности тактично, умело, осторожно, в собственно художественных, а не коммерческих целях. Но пока что это всего лишь благие пожелания.
Так может быть, Жозефен Пеладан был прав в своем скепсисе по поводу синтеза искусств? Как вы думаете, друзья?
Н. М.
341. В. Бычков
(25.04.15)
Дорогие коллеги,
я рад, что вы так активно и достаточно оперативно для нашей, мягко говоря, вялотекущей переписки откликнулись на мое письмо о синтезе искусств, к которому и сам-то автор послания, как я уже писал, относится достаточно скептически. Это в принципе. Между тем неожиданно обнаруженные мною старые тезисы о литургическом синтезе византийского искусства показались мне в какой-то мере имеющими под собой достаточные основания для того, чтобы вас с ними ознакомить, даже не рассчитывая на ваши реакции.
Поэтому мне особенно приятно, что такая реакция последовала, и отнюдь не формальная, а по существу. Мысли вслух о. Владимира на эту тему и вопрошания ко мне только усилили во мне убеждение, что тема литургического синтеза в православном искусстве вполне закономерна и ею имеет смысл заниматься, не мне, конечно, но представителям нового поколения, если таковые обретутся. Теперь я вдруг вспомнил, что в свое время, давным-давно, кажется, вскоре после выхода моей «Византийской эстетики» (нет, пожалуй, значительно позже; возможно, за несколько лет до празднования 1000-летия Крещения Руси) владыка Питирим (Волоколамский) предложил мне написать книгу об эстетике православного богослужения. На это я ответил высокочтимому руководителю издательского отдела патриархата, что мне это, увы, не по силам. Такую работу должен делать клирик, ведущий богослужение и чуткий к эстетическому опыту, а не исследователь, робко топчущийся по ту сторону от церковных стен, хотя и около них. И назвал ему кандидатуру о. Александра Салтыкова, который начинал как искусствовед в Рублевском музее и в то время (а возможно, и до сих пор) совмещал работу в музее со службой в храме. На это, к моему удивлению, владыка ответил, что о. Александр не справится с такой работой, а вот Вы могли бы. Не знаю, откуда такая уверенность была у владыки, хотя сам-то я хорошо знал и тогда, знаю и сейчас, что лично я не мог бы. Слишком трудно. А вот наш о. Владимир мог бы. В этом я уверен. К сожалению, в то время мы как-то редко общались с ним, и мне не пришла в голову его кандидатура.









































