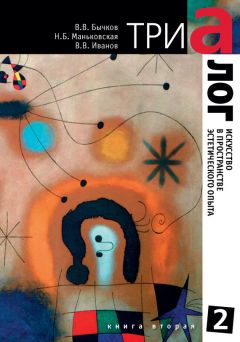
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Однако. Не будем размышлять за других. Дай Бог, в себе бы разобраться. Изложив в своем послании некоторые основные духовно-эстетические принципы, на которых, как мне кажется, основывается если не синтез, то нечто близкое к нему в православном храме, я лишний раз убедился, что сие возможно было в наиболее полном объеме именно и только в православном литургическом действе. Там удивительным образом совпали какие-то глубинные метафизические основы главных и хорошо развитых уже в зрелой Византии видов искусства с духовно-мистической ориентацией церковного богослужения. Именно поэтому, я думаю, в византийской культуре, как ни в какой иной того времени, да и в поздние периоды (кроме Руси, продолжавшей византийские традиции), все основные искусства активно и органично встроились в храмовое действо, многократно усиливая эстетическим опытом опыт религиозный.
О каких-то формах храмового синтеза мы можем говорить, конечно, и в культурах западного Средневековья. Несколько об иных, чем в православном ареале, но все-таки достаточно сильных. Вспомним хотя бы даже современные праздничные мессы в готических храмах. Там архитектурное пространство и музыка играют главную синтезирующую и эстетизирующую службу роль.
Да, вероятно, о чем-то подобном можно говорить и применительно к древним индуистским храмам. Однако в них я бывал слишком мало, чтобы составить достаточно серьезное представление о столь масштабном феномене, как богослужебный синтез искусств того ареала.
Глубокая вера в Великое Другое, составлявшая метафизическую основу храмового действа, была тем могучим общим знаменателем, который и объединял на духовно-синестетической основе разные искусства в храмовом действе. И синестезию здесь надо понимать не как чисто психический ассоциативный процесс, на чем заостряли внимание исследователи XX века, пытавшиеся (безуспешно) создать какой-то новый синтез искусств, а как особую способность души улавливать общие метафизические основы совершенно вроде бы разных искусств. Их глубинную эстетическую, или, если хотите, эйдетическую, сущность.
Нечто подобное последний раз на закате Культуры осознали и символисты, но именно закат Культуры не позволил им сделать ничего путного в этом плане, хотя многое чувствовали они очень тонко и четко. Притом как во франкоязычном мире, так и в России. Да и Рудольфа Штейнера здесь уместно, конечно, помянуть. Кстати, разделяя почти полностью скепсис Ж. Пеладана относительно возможностей синтезирования искусств, я не могу не подчеркнуть, опираясь хотя бы только на текст письма Н. Б., что при этом он достаточно точно понимал суть художественной синестезии. Именно подмеченная им «неопределенность, которая возвышает слушателя и зрителя до энигматического, таинственного, загадочного мира идей» и является определенной основой, на которой символисты и пытались, хотя бы теоретически, организовывать синтез искусств. И в этом есть свой резон.
Что же касается попыток искусственного синтезирования искусств, предпринимавшихся достаточно регулярно в XX в., то к этому я отношусь очень скептически. Во-первых, потому что без глубинного понимания (понимания в смысле внутреннего, – отнюдь не рационального, – ощущения, чувствования нутром) метафизических основ искусства нельзя выйти на общий знаменатель синтезируемых искусств, на синтезообразующий духовный фундамент. И «выйти» не на уровне рацио, а интуитивно, как это и свершалось в Средние века; если сказать по-иному – на уровне соборного сознания или коллективного бессознательного.
Сегодня же напрочь забыты метафизические основания искусства, его эстетический смысл, да и сами искусства в их классическом понимании приказали долго жить. Что синтезировать-то? Примеры подобных попыток, приведенные Н. Б., только показывают с очевидностью, что ничего близкого ни к какому синтезу, ни к какому единению, да и ни к какому подлинному искусству как эстетическому феномену это все не имеет отношения. Эксперименты с пустотой! Хотя иногда и довольно занимательные, забавные, информативные.
Если же вернуться к первой половине прошлого столетия, когда возникали еще подлинные произведения искусства и когда собственно и появились идеи синтеза, отчасти на техногенной основе, в том числе и на основе кино, то здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. С так называемым человеческим фактором, – это уже во-вторых. На примере кино, как наиболее продвинутого в плане единения разных искусств вида, хорошо чувствуется, что человек (художник, творец) оказался не в состоянии овладеть всеми теми средствами художественного выражения, какие ему предоставила техника того же кино. Сгармонизировать в единое высокохудожественное целое драматургическое действие, игру актеров, музыку, свет, цвет, монтажные возможности, а позже и компьютерную графику оказалось практически не под силу ни одному человеку, даже очень талантливому. Что-то более или менее удачное сумел сделать в некоторых фильмах Гринуэй, но и он уже к концу прошлого столетия пришел к убеждению, что искусство кино, как и искусство вообще, скончалось, и приступил к организации более поверхностных, но актуальных для нашего времени явлений – мультимедийных шоу. Они сейчас часто и выдаются за синтез искусств.
Другой вопрос, о котором можно было бы еще поразмышлять когда-то, это дигитальные сетевые искусства. Там вроде бы есть хотя бы некая техническая основа для синтеза – цифровые технологии для всех компьютерных искусств, но сами-то эти искусства, как правило, еще совершенно не являются искусством, не обладают эстетическим качеством и будут ли им обладать – большой вопрос. Кроме того, и это главное, под ними нет никакой духовной (метафизической) синтезоорганизующей основы. В моем понимании синтез искусств возможен только как гармонизация ряда разных по своим формообразующим принципам искусств на основе выражения своими художественными средствами некой единой глобальной идеи, некоего, как любит говорить Вл. Вл., метафизического Архетипа, имеющего значение, если не трансцендентного Абсолюта, то хотя бы некой Вселенской Идеи. А этого сегодня человечество не имеет и вряд ли уже будет иметь. Так что о современном синтезе искусств всерьез я бы пока говорить не стал.
Между тем, я хотел бы напомнить Вл. Вл., что у него где-то в загашнике лежит как минимум четыре страницы начатого письма о музее Пикассо и замысел написать о какой-то уникальной выставке в Орсэ, которой он нас как-то заинтриговал, даже не дав ее названия, а теперь своекорыстно скрывает от бедных россиян, с грустью наблюдающих за ростом не по дням а по часам новой мощной стены отчуждения между нами и Западом, за которой уже начинает скрываться не только Орсэ, но и весь Париж, а с ним и остальная Европа. Единственная надежда теперь в плане информации о художественных явлениях по ту сторону Стены на о. Владимира, но он как-то затаился в своей берлоге и молчит. Ваш московский отшельник просит нижайше Вас, друг мой, прерывать время от времени свой сеанс исихии и радовать нас новыми порциями Ваших художественно-эстетических открытий.
Всем дружеский весенний привет.
Ваш В. Б.
342. В.Иванов
(05.05.15)
Дорогие друзья,
отрадно после долгого перерыва начать письмо с обращения ко всему триаложному братству, вновь подающему знаки пробуждающейся жизни в полном и гармоническом согласии с весенней природой. Обмен мнениями, инициированный В. В., показывает, что виртуальные дискуссии, включавшие в свой репертуар дружеские побоища и умилительные примирения, оставили неизгладимый след в наших душах. Мне особенно близка высказанная Н. Б. мысль о том, что в прошлых беседах мы уже приходили «к своеобразному синтезированию наших художественно-эстетических позиций». Таким образом, приступая к обсуждению многоликой проблемы художественного синтеза, мы можем в известной степени опираться и на наш собственный экзистенциальный опыт. Вчитываясь и вдумываясь в ваши, друзья, последние письма, я нахожу в них возможность нового синтеза и шеллингианского потенцирования наших позиций в рамках начинающегося собеседования.
Еще в 60-е годы мне было ясно, что основы художественного синтеза закладываются в метафизическом измерении. Слово «метафизика» я употреблял в качестве знака (signum), не придавая ему строго академического содержания. Так понимаемые термины-знаки, выражаясь в духе Ясперса, являются «не формирующими предмет категориями, но знаками для мыслей, взывающих к экзистенциальным возможностям». Иными словами, понятие-знак служит опорной точкой для перемещения размышляющего сознания в духовный мир. Такое трасцендирование может осуществляться человеком на свой страх и риск, например, тем же Ясперсом. Но, как правило, оно проходило в рамках определенной традиции, транслирующей ритуалы и прочие практики, способствующие преодолению границ, поставленных эмпирическому сознанию. Процессы такого рода в древности (и не только) принято называть инициацией. По мере того как терялась связь культуры с мистериями, утрачивалась и способность проводить синтезы на метафизическом уровне. Поскольку потребность в них в той или иной степени оставалась, то стали возникать суррогатные проекты, градацию которых я пытался очертить и систематизировать в конце 60-х годов.
Теперь – вполне для меня неожиданно – по инициативе В. В. в нашем виртуальном пространстве возникла тема художественного синтеза, которую наш высокочтимый магистр совершенно справедливо связывает с мистериями древности. Н. Б. также отмечает интерес к ним в среде символистов. Так или иначе, но занятия французским и русским символизмом приводят к необходимости поразмышлять о связи искусства со школами эзотерического толка. Вторая половина XIX века во Франции изобилует именами оккультистов, хотя по большей части мы имеем дело с эпигонами, эклектиками и шарлатанами, неспособными внести в культуру плодотворные духовные импульсы. На этом фоне в более благоприятном свете предстает фигура Пеладана, стремившегося соединить новые художественные течения в живописи, музыке и литературе с эзотерическими традициями, а их – в свою очередь – примирить с католицизмом. Пеладану удалось сплотить вокруг себя (хотя и на сравнительно короткое время) большое число настоящих художников-новаторов. Но радикальных перемен пеладановский эксперимент не принес и остался в истории своего рода курьезом, не имевшим серьезных последствий. Тем не менее, вероятно, следовало бы исследователям отнестись к Пеладану с большим вниманием, и я рад, что Н. Б. в своем письме вводит в наш дискуссионный оборот это имя. Впоследствии надеюсь и сам поговорить на эту тему, но, забегая вперед, кратко замечу, что пеладановская критика распространенных тогда представлений о синтезе в искусстве кажется мне во многом отвечающей существу дела.
Главным же остается вопрос о древних мистериях, в которых осуществлялся синтез искусств таким образом, что он включался органически в процесс инициации, приводивший к реальному общению с духовным миром. Путь, ведущий теперь к познанию этих мистерий, сам должен носить инициационный характер и тем самым выходить за пределы, очерченные современной наукой (в ее академическом понимании). Кроме того, не представляется возможным сделать сразу же скачок из современности в древность. Следовательно, надо искать более близкие к нам формы синтезирования и символизации, проводившиеся на духовных основах. В наиболее доступном (относительно, конечно) для научного познания виде они (формы) предстают перед нами в византийском варианте. Поэтому я вполне разделяю мнение В. В. о значении византийского синтеза и готов принять участие в дальнейшем обсуждении его особенностей, не лишенных связи с мистериальной культурой.
Таким образом, на сегодняшний день вырисовываются три комплексные темы, вызывающие наше внимание:
– мистерии древности как основа синтеза искусств на базе конкретного познания духовного мира;
– византийский синтез и проблема «Византия после Византии»;
– синтез в понимании французских и русских символистов на рубеже двух столетий.
Есть еще и четвертая тема, озвученная в письмах В. В. и Н. Б.: синтез в современных арт-практиках.
Словом, есть нам о чем поговорить. Но не хочется говорить мимо. Уже, правда, поставлено много вопросов, побуждающих к совместным поискам вразумительных ответов. Размышляю пока над возможностями выбора: манят и Сведенборг, и Пеладан, и выходят из сумрака Дионисий Ареопагит с Максимом Исповедником… На чем же остановиться?
Выбираю пока самый простой вариант: поскольку В. В. изъявил желание познакомиться с началом моего потом заброшенного письма о музее Пикассо, то посылаю вам обоим сей фрагмент. В декабре я замахнулся на огромное письмище, способное испугать своим объемом, но вовремя остановился. Посылаемые четыре странички – это только малосодержательный запев, проба голоса, не более.
С радостным упованием на продолжение переписки
Ваш касталийский собрат В. И.
343. В. Иванов
(15.12.14, получено 07.05.15)
Дорогой Виктор Васильевич,
если ряд триаложных лет прошли у меня под умиротворяющим душу зодиакальным знаком Гюстава Моро, то в этом году я испытал неожиданно сильное воздействие Скорпиона – Пикассо. Январь начался осмотром выставки графических листов великого мастера разрушительно-обновительных деформаций. Он предстал мне еще и в облике экстатического мифотворца, не чуждого анамнестических переживаний. А декабрь завершается погружением в наплывающие время от времени воспоминания о музее Пикассо, который мне удалось посетить в конце ноября. Постепенно в душе окрепло ощущение минотаврианской природы динамичного полистилиста, привольно бродившего в своем сознательно запутанном Лабиринте. Известно, что Пикассо находил большую усладу в самоидентификации с образом критского чудища. В 30-е годы это чувство мифической идентичности проявило себя в наиболее законченном и художественно совершенном виде. Если попытаться представить себе музыкальное звучание работ Пикассо того времени, то они поразительно будут напоминать рев и стенания Минотавра. Симптоматическим образом даже экспозиционная структура вновь открытого музея в Париже своей запутанностью без натуги и предвзятости вызывает ассоциации с переходами критского Лабиринта.
Не хочу стилизовать себя под новоявленного Тесея, но все же не могу отрицать наличие отдаленного сходства с ним в моменте растерянного блуждания по узким парижским улочкам и лабиринтным закоулкам. У Тесея была, однако, нить Ариадны, у меня только помятая карта. Вначале мне казалось, что я без особого труда проберусь к давно намеченной цели. Эта самоуверенность основывалась на возникшем в последнее время иллюзорном чувстве хорошего знания Парижа, поскольку вместо бездумного бродяжничества я ограничил себя ставшим для меня каноническим передвижением между четырьмя музеями (Лувр, Орсэ, Центр Помпиду и музей-квартира Гюстава Моро). Все же, несколько проплутав по бальзаковским закоулкам, и, как потом осозналось, «дав кругаля через Яву с Суматрой», то есть избрав наиболее длинный путь, я подошел к музею с его левой стороны, огражденной мощной стеной, вдоль которой – к моему ужасу (а у страха, как оказалось, глаза велики) – вилась длинная лента очереди, напомнившая мне об утомительных стояниях перед Уффици. Тем не менее, помня, что посещение этого музей было главной целью ноябрьской поездки, я решил набраться ангельского терпения и покориться свой паломнической участи. Опытность моя подсказывала, что, несмотря на змеевидность, очередь может ползти с приемлемой скоростью, однако в течение довольно долгого времени она – против всех ожиданий – замерла в пугающей неподвижности.
Пишу об этом незначительном эпизоде с единственной целью: предупредить Вас о том, что музей Пикассо – в отличие от других – теперь (возможно, так было и раньше, так что мое предупреждение излишне) открывается не в 10 часов, а в половине двеннадцатого. Зато, когда врата Лабиринта широко распахнулись и змея с тихим шипением стала вползать во двор, то дело пошло на лад. Все же я провел в гостеприимном дворе несколько более получаса, употребив с пользой вынужденный досуг, рассматривая фасад Hotel Aubert de Fontenay, дворец, более известный как Hotel Sale, поскольку его первый владелец был сборщиком налога на соль. Великолепная в своей строгой сдержанности постройка не принесла ему счастья. Он вселился во дворец в 1659 году и ровно через два года был вынужден с ним расстаться. Поскольку Обер (Aubert) находился в дружеских и деловых отношениях с могущественным министром финансов Фуке, то вместе с ним пал жертвой разгневанного Людовика XIV, лишился своего состояния, а роскошный дворец был приобретен в 1668 году Венецией для размещения там своего посольства.
Все эти подробности стали мне известны уже после посещения музея. Упоминаю их только для того, чтобы пояснить свои непосредственные впечатления от дворца во время долгого стояния в очереди. А они сводились к мысли: вот здесь неплохо бы снять фильм о трех мушкетерах, говоря точнее, о четырех, уже во времена Людовика XIV, описанные в романе «Десять лет спустя». Представьте мое изумление, когда я прочитал потом о связи владельца с всесильным Фуке, история падения которого дала обильную пищу для благородной фантазии Александра Дюма. Весь ансамбль хорошо передает дух той эпохи, когда упрочивалась абсолютная власть «короля-солнца». Мое внимание особо привлекли статуи двух сфинксов, фланкирующих дворцовый фасад. Тут я в полной мере оценил преимущества стояния в очереди, позволяющего, не возбуждая подозрений у охраны, посвятить полчаса созерцанию безмятежно спокойных Сфинксов. Они исполнены величественного покоя. Лица их отрешенно суровы и не имеют того кокетливого выражения, которым наделяли Сфинксов в XVIII веке. Даже груди их – в отличие от их изнеженно-чувственных потомков эпохи рококо – целомудренно прикрыты панцирем. Головы Сфинксов увенчаны весьма нетрадиционными для сих существ коронами. Над несколько напоминающим кокошники основанием высится замок, состоящий из трех примыкающих друг к другу башен. От них спускается гирлянда из крупных цветов, тянущаяся по всему телу, чтобы элегантным взмахом перекинуться на другую сторону. Словом, для поклонника Сфинксов есть на что посмотреть, хотя не знаю точно времени изваяния сих загадочных существ, но, согласитесь, что подобное созерцание, уносящее воображение в эпоху Людовика XIV, – не самая лучшая подготовка к восприятию минотаврических деформаций. Теперь по прошествии двух недель после парижского паломничества отчетливо представляется вопиющее несоответствие между архитектурой дворца и размещенным в нем музеем Пикассо.
Удивляться тут, впрочем, нечему. Еще Ницше в своих «Несвоевременных размышлениях» отметил несоответствие между формой и содержанием на разных уровнях и в разных сферах как характерную черту европейской цивилизации со второй половины XIX века. Но к чему капризничать, надо радоваться, что есть собрание работ Пикассо, позволяющее сопережить все основные этапы его творчества (впрочем, и здесь будет нужно сделать несколько критических оговорок). По крайней мере таково было мое представление об этом музее, посещение которого я поставил главной целью своей поездки в Париж. Возник он не в результате заботливо целенаправленного собирания произведений франкофонного Минотавра, а как следствие «хода конем» осторожных наследников, решивших избежать непомерных налогов и преподнести в «дар» государству пять тысяч работ Пикассо. Этим вполне объяснимы как пробелы в экспозиции, так и разноуровневое качество выставленных картин и графики. Сам музей был, как Вам прекрасно известно, основан в 1985 году и размещен во дворце неудачливого собирателя налогов на соль.
Следующее пожертвование сделано в 1990 году наследниками Жаклин Пикассо, а в 1992 г. был передан музею архив великого мастера, состоящий из 200 тысяч документов. Ввиду непомерной огромности всего собрания встает вопрос об отборе экспонатов и расстановке акцентов. Поскольку я не бродил в музее до его реставрации, мне сравнивать новую экспозицию не с чем. Буду ориентироваться на Ваши апокалиптические пост-адеквации, чтобы не повторяться многословно и утомительно. В них упоминается двадцать залов. После ремонта теперь – согласно экспозиционному плану – двадцать два плюс восемь залов в лофте, где размещено собрание, состоящее за редким исключением из работ мастеров классического модерна, принадлежавшее самому Пикассо и переданное его наследниками государству еще в 1973 году.
Представляется, что важнейшим объектом ремонтно-реставрационных работ был обширный вестибюль музея. О нем хочется сказать исполненными меланхолической мудрости словами Хемингуэя: «В баре чисто, светло, а вот стойка не начищена». Это преувеличение. Все чисто, светло и стойка блестит. Полностью стерилизованный, холодный интерьер, вполне уместный в четырехзвездочной гостинице. Все функционально и удобно. Возразить нечего.
Теперь переходим в залы.
После хладного великолепия reception попадаешь в полутемный зал, собственно говоря, не зал, а закуток, в котором выставлены работы Пикассо «доисторического» периода. Обведя быстрым взглядом стены, понимаешь, что здесь останавливаться незачем. Зал второй – здесь в душе поднимается чувство настоящего разочарования. После Эрмитажа, Пушкинского музея и других крупных собраний видишь набор третьестепенных вещей, так сказать, объедков с барского стола. Это, впрочем, неудивительно, поскольку у наследников в распоряжении было не так уж много работ ранних периодов…
…заглядываю в «Апокалипсис»: там зал первый означен как «ранний и голубой», а зал второй – как «розовый»; может, так и было до ремонта; теперь все «голубое» (не в одиозном смысле, разумеется) находится во втором зале, а «розового» и вовсе не видать. Самые интересные работы во втором зале – не «розовые», а «голубые»: «Автопортрет» (мало похожий на Пикассо, если вспомнить фотографии того времени), датируемый концом 1901 года, и «Селестина» («La Celestine») (ок. 1904), знаменитый портрет стареющей дамы с затянутым катарактой глазом. Эта не лишенная патологического эффекта картина завершает в экспозиции «голубой» период. Где же «розовое»? Ну да, кажется, есть две-три мелочи. Полистал новый каталог, тоже ничего не нашел. Вывод: или экспозицию радикально переделали, или Вы в своей пост-адеквации охарактеризовали «розовый» период, вероятно, безотносительно к реально существовавшей экспозиции во втором зале.
Не подумайте, ради Бога, что я встал в тот день с левой ноги или плохо позавтракал и поэтому смотрел на мир не сквозь «розовые очки юности», подобно Пикассо, а как брюзжащий старичок в дымчатых окулярах. Просто хочу зарисовать первые впечатления. Они разочаровывали. А дальше все пойдет по восходящей линии вплоть до критских экстазов и восторгов. Конечно, хочется теперь неспешно разобраться в том, какие перемены претерпел музей в результате пятилетних ремонтных и прочих работ, не в плане создания более удобных туалетов и пр., а прежде всего на концептуальном уровне. Очевидно, что и в прошлом музей его устроители все же сознательно планировали как своего рода визуализированный справочник по всем периодам творчества Пикассо.
Теперь вся экспозиция разбита на пять периодов: 1) 1895–1906. Genesis. Monochrome[49]49
Для удобства оставляю без перевода термины, заимствованные мной из краткого путеводителя по музею на английском языке.
[Закрыть]; 2) 1906–1915. Primitivism. Cubism; 3) 1915–1936. Polymorphism; 4) 1936–1946. War paintings; 5) 1946–1973. The pop years. After the masters. Безусловно, эта самая общая и нуждающаяся в уточнении классификация. В Вашем «Апокалипсисе» я встречаю такие уточнения, когда там выделяются «классический период» и период сюрреализма.
(На этом письмо обрывается. В. Иванов)









































