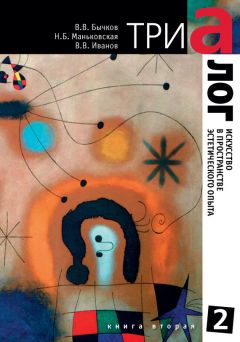
Автор книги: Владимир Иванов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
О новой русской прозе
348. В. Бычков
(20.05.15)
Дорогой Владимир Владимирович,
в ожидании Вашего письма о последних выставках в Европе я обнаружил почему-то не отправленное Вам мое письмишко о недавно прочитанных книгах. Исправляю эту оплошность и пересылаю его сейчас исключительно в информативном порядке. Н. Б. я отправил его сразу, надеясь на ее реакцию, ибо она следит, в отличие от меня, за всем наиболее интересным в мире искусства и литературы.
Also.
349. В. Бычков
(03.05.15)
Дорогие коллеги,
собрался на досуге, которого вообще-то очень мало, увы, даже в моем почтенном возрасте, прочитать несколько книг наших новейших, но уже хорошо известных и именитых в литературных кругах писателей. Первым попался мне давно нашумевший и отшумевший, получивший всякие литпремии роман Михаила Шишкина «Венерин волос» (2004). Давно не читал отечественной беллетристики, хотя вру, кое-что незначительное, вроде Пелевина, читал на сон грядущий и настолько не был вдохновлен, что и строчки написать об этом не захотелось. Потянуло посмотреть, что же у нас сейчас пишут и за что дают премии по литературе.
Увы, особого впечатления Шишкин не произвел. Читается неплохо, нормальный русский язык. По стилистике умеренно постмодернистский текст. Несколько сюжетных линий (хотя впрямую никакого романного сюжета в классическом смысле нет – ряд новелл переплетаются на протяжении всего текста между собой). Одна – явно автобиографическая – линия толмача – переводчика в швейцарском центре по приему беженцев (надо думать, 90-е гг. прошлого века). Другая – воспроизведение жизни некой русской певицы из Ростова Изабель в форме ее дневников, полубредовых воспоминаний (в старости) и т. п., в основу чего легла вроде бы жизнь Изабеллы Юрьевой, пластинки которой толмач слышал ребенком. Все это перемежается иногда какими-то сценками, навеянными «Анабасисом» Ксенофонта, текстами Св. Писания и т. п. Автор по примеру всех постмодернистов прошлого века стремится блеснуть эрудицией – знанием множества терминов и имен из разных времен и народов, за которыми сегодня далеко не надо ходить – все под рукой – в Интернете.
Название «Венерин волос» встречается в книге на самых последних страницах в полубредовых предсмертных воспоминаниях Изабель, которая находит эту траву (из рода папоротников, у нас – комнатное растение) где-то под стенами Пантеона в Риме и почитает ее за бога богов, главного бога жизни, символизирующего любовь. «Травка-муравка из рода адиантум. Венерин волос. Бог жизни. Чуть шевелится от ветра. Будто кивает, да-да, так и есть: это мой храм, моя земля, мой ветер, моя жизнь. Трава трав. Росла здесь до вашего Вечного города и буду расти после».
Соответственно и главная тема книги – любовь, как правило, несостоявшаяся, какая-то фрагментарная, обрывочная, что в целом традиционно для всей постмодернистской литературы прошлого века. Любовь – в мечтах, снах и грезах девочки, девушки, женщины, старушки… Отчасти и в отношениях толмача с некой дамой сердца (Изольда) в пространствах современного Рима и Италии.
Однако… Все вроде бы и так, и вроде бы читабельно, но менталитет, внутренний склад писателя чем-то не устраивают меня. Он вроде бы много знает, много понимает, умеет десятками страниц закручивать мносмысленные абсурдинчики, но в целом получается какой-то анемичный, даже я бы сказал, обывательский текст. Чтиво для современных псевдоинтеллектуалов, для «образованцев», как именовал их Солженицын. Нет в нем той глубинной силы переживания, с какой писали еще многие русские писатели второй половины XX века (и все деревенщики, и Паустовский – более раннее поколение – и Трифонов, и Некрасов, и Айтматов, да и немало других). Интересно, что и наша история XX века, так живо и глубоко переживавшаяся нашими писателями и моим поколением их читателей, уже мало интересует современного автора, к тому же давно эмигрировавшего из России и живущего отнюдь не ее интересами. Основная жизнь главной героини проходит в период Первой мировой войны и революции, послереволюционной разрухи, Гражданской войны, но и героиню все это мало затрагивает, и автора книги тем более. То же самое можно сказать и о 90-х гг., когда автор еще жил в России, многое знал и видел, но убежал от этого в швейцарский рай и все сразу забыл. Да и в «раю» его мало что привлекает. И ничто особо не трогает. Ему доступны все духовные и культурные ценности Запада, но его менталитет – это менталитет европейского чиновника низшего ранга – толмача; офисного планктона. И интересы, соответственно, его же. Автор умело строит легкий постмодернистский текст, хорошо зная правила его построения. Не более того. Читать можно, но нужно ли? Я, вот, прочитал…
Затем взялся с налету за новый роман Захара Прилепина «Обитель» (ACT, 2014) и прочитал не без удовольствия. Это добротный, самый настоящий роман (не только по названию, как у многих постмодернистов типа Шишкина), продолжающий традиции лучших наших романов 60–70-х годов прошлого века, да и русского романа в целом. Больше всего порадовал хороший русский язык Прилепина, отличающийся яркой образностью, незатертой метафоричностью, своеобразной пластикой. Это в подлинном смысле слова художественное произведение, многие страницы которого доставляют эстетическое удовольствие.
Взялся я его читать с некоторым предубеждением. Ну, что может сказать современный автор о временах ГУЛАГа после книг Шаламова, Гинзбург, Солженицына? Оказывается, может. Он фактически не рассказывает нам «истории» в том смысле, на котором зациклились почти все современные литераторы, режиссеры, кинематографисты. Хотя есть там и сюжетная линия, как в традиционном романе, есть и все зверства и ужасы лагерной жизни (здесь еще только ее начало – 20-е годы, первый эксперимент с ГУЛАГом), есть и своеобразная любовная интрига, но сила его не в сюжете и его развитии, а в том, как это дается в прилепинском тексте. Оказывается, что традиционные средства хорошей русской прозы вполне современны и актуальны. При этом, даже описывая мир лагеря, уголовников и всяческого отребья из лагерной охраны, автор спокойно обходится без ненормативной лексики, обычным богатым, я бы даже сказал, нередко интеллигентски богатым русским языком.
С современностью эту книгу объединяет, пожалуй, только постановка в центр повествования своеобразного антигероя, что теперь очень модно. Простой парень из обычной хорошей московской семьи Артём Горяинов, сидящий за какое-то несуразное импульсивное убийство отца (фрейдистский мотив не просматривается, но где-то все-таки брезжит на дальнем плане), представлен автором каким-то странным безбашенным пофигистом, постоянно нарывающимся на неприятности. Он сам их к себе притягивает, но до конца романа счастливо избегает их логического лагерного завершения, хотя все его окружающие персонажи, выведенные на первый план как более или менее позитивные (каковых практически и нет), так и предельно негативные, гибнут. Пофигист же Артём, для которого как для подлинного героя пост-культурного ареала или как для «лишнего человека» литературы XIX века не существует практически никаких ценностей, спокойно с какой-то шутовской бравадой проходит все круги лагерного ада и остается живым до самой предпоследней страницы (743!) романа, где кратко в одну строку уже в авторском примечании деловито сообщается, что его зарезали блатные летом 1930 г. (а время романа охватывает несколько месяцев лета и осени, кажется, 1925 года).
Насладившись хорошей русской прозой, которая сегодня, по-моему, не часто встречается, хотя я успеваю читать далеко не все, что ныне не только издается, но даже и как-то выделяется профессиональной критикой, можно задаться вопросом: а что же все-таки стремился выразить явно незаурядный писатель? В частности, поставив в центр романа этого самого Артёма-пофигиста? Понятно, что этот вопрос вполне уместен относительно художественного литературного текста. Артёму нет дела ни до большевиков, ни до белогвардейцев, ни до революционеров, ни до контрреволюционеров, ни до верующих, ни до неверующих, ни до научных работников, ни до блатных бандюг, которые окружают его в лагере. Единственное, что он любит – это поэзию. Сам не пишет, но многое знает наизусть (Блока, Белого – пофигист и вдруг любовь к поэзии?). Лишен каких-либо нравственных чувств. Не испытывает жалости ни к кому (даже к приехавшей навестить его матери, защищая честь которой, он и убил нечаянно отца), но вроде бы и не стремится делать никому никакого зла, хотя обладает чувством собственного достоинства и каким-то своим пониманием личной свободы. Никому не желает подчиняться даже в столь суровых условиях, как соловецкий лагерь, хотя и не отказывается выполнять любые официально назначаемые, даже самые тяжелые работы.
Почему он в центре романа? И почему практически его глазами автор дает нам описание жизни лагеря, а через нее и всей страны того времени? Думаю, что глобальный, возможно даже метафизический смысл такого авторского решения (вольного или невольного?) заключается в том, что автор смотрит на события почти столетней давности глазами статистически современного русского человека его поколения (надеюсь, не своими собственными; вот у Шишкина иное: его главный герой – среднестатистический пост-человек нашего времени во многом автобиографичен по своей сути). Человека пост-культуры, для которого не существует практически никаких ценностей, кроме, может быть, ценности самого себя, любимого. На Соловках автор собрал представителей практически всех сословно-политических формаций России того времени и в обстоятельствах того времени, но главный герой-антигерой совсем из другого времени. Он представитель России начала XXI века, и именно его глазами автор смотрит туда, во время, реально ушедшее и уже мало актуальное для современного человека. Именно поэтому Прилепин в актуальном пространственно-временном континууме постепенно умерщвляет практически всех персонажей романа – героев того времени – и оставляет в живых только Артёма как представителя иного измерения. Ощущая при этом, что все-таки такой герой-антигерой не имеет будущего (уже сегодня он его не имеет, хотя и весьма распространен в действительности), он выводит его все-таки из игры в построманном пространстве, за рамками собственно романа, за скобками.
Роман хорошо читается и наводит на постгерменевтические размышления. Думаю, что это совсем неплохо для современной прозы. Хотя я не стал бы делать далеко идущие выводы о том, что литература возрождается, а Культура еще имеет будущее. Это, как я и писал неоднократно, хороший рецидив Культуры, какие еще могут встречаться и в будущем, но не возрожденческая, увы, тенденция. Надо попросить Н. Б. узнать у ее студентов, сколько из них прочитали этот роман и что о нем думают. Хотя это тоже не показатель. Они все-таки будущие творцы (учатся как-ни-как во ВГИКе) и, возможно, еще читают литературу и подыскивают в ней «истории» для своих будущих бесконечных телесериалов, которые сегодня заполонили все ТВ и в которых снимаются совсем даже неплохие актеры (есть именитые и талантливые), а начинают их снимать уже известные по неплохому кино режиссеры.
И под конец небольшое личное (анамнестическое уже) воспоминание в связи с романом Прилепина. Как вы знаете, в юности я неоднократно бывал на Соловках, поэтому, читая роман, я хорошо видел многие из мест, описываемых в нем. Особенно сам монастырь. Правда, в 20-е годы он был еще, видимо, не так разорен, как в 60–80-е, когда я бывал там и один, и всей семьей. Место-то во многих отношениях уникальное и духовно предельно насыщенное.
Однако здесь я не об этом. Ближе к концу романа описывается, как лагерная любовь Артёма чекистка Галина из лагерной администрации, пытаясь спасти его от грозящей ему смерти, а себя – от возможного ареста за связь с зэком, бежит с ним на катере с Соловков. Ярко и образно описываются их злоключения в отнюдь не гостеприимном осеннем море на утлом суденышке. И я, читая эти описания, сразу вспомнил о своей первой поездке на Соловки в июне 1966 года. Тогда только родился Олег, поэтому Люся не могла со мной поехать (и слава Богу! Поездка была не из легких), но я, будучи в то время страстным любителем путешествий по Древней Руси, вырвался на две недели на русский Север. Маршрут заложил себе крутой: от Вологды через Кириллов, Ферапонтово, Белозерск, Кижи, Яндом-озеро, Кемь на Соловки.
Денег было совсем мало, поэтому я пробирался по этому огромному маршруту еще на студенческий манер – где автостопом, где безбилетником в плацкартных вагонах, а вот в Кеми вышла заминка. В то время пароход из Кеми ходил на Соловки редко и нерегулярно, поэтому основная масса туристической молодежи (а их немало бродило тогда с рюкзаками по Руси) переправлялась на Соловки на рыбацких дорах – небольших рыболовецких баркасах с экипажем в три-четыре человека. И плата была вполне умеренной – бутылка с носа. Тогда на нашем Севере действовал сухой закон, власти опасались, что все население вымрет поголовно от пьянства, которое там, как и по всей Руси великой, процветало особо пышным цветом. А закусывать было нечем. Кроме картошки на базаре, да хлеба в магазине (и то не всегда) ничего не было. Прилавки на Севере всегда сверкали ослепительно чистой пустотой. Поэтому все расчеты с приезжающими, особенно московскими и питерскими, там велись только в водке. Особенно ценилась московского розлива.
Многие бывалые туристы везли с собой целые рюкзаки водки. Я, конечно, этого не знал. Где-то в Медвежьегорске ко мне присоединились еще два таких же искателя приключений и любителей Древней Руси из Питера. Оба инженеры, один постарше меня лет на пять, уже лысоватый. Они тоже ничего не слышали о водке как универсальной валюте на Севере. Осмотрев прекрасный деревянный храм в Кеми (ради него я стремился в Кемь, а Соловки стояли под вопросом, ибо в Москве я точно и не знал, как туда добираться), наша тройка двинулась на пристань. Это где-то часа в два ночи. В те дни был апогей белых ночей. Солнце, кажется, лишь на один час скрывалось за горизонтом, и всю ночь было светло, как днем. Поэтому и из местного населения далеко не все спали ночью. Где-то играла музыка, слышался смех, бегали дети; на какой-то площадке резались в волейбол, а на причале было полно туристов.
К общему колориту северного городка надо добавить еще деревянные мостовые. Они кое-где, а тротуары, пешеходные дорожки все сплошь были деревянными, как и достаточно большой причал. Весна, лето, осень в тех краях обычно сырые, грязь почти никогда не просыхала, а леса вокруг много, поэтому издревле строили деревянные дорожки, площадки и т. п. На вполне комфортном деревянном причале в разных местах живописными группами возлежали туристы в ожидании прибытия пустых дор, разгружавшихся где-то неподалеку от улова, но здесь имевших место постоянной приписки. Здесь-то мы и узнали о специфической плате за проезд. Денег рыбаки не брали. Только водку. Видя наш совершенно опечаленный вид, ребята одной из групп, достаточно большой по численности и ехавшей надолго на Соловки, сжалились над недотепами и согласились выдать за нас по бутылке, договорившись с рыбаками, что те через пару дней, когда будут сами возвращаться, отвезут нас назад уже за деньги. У них было с собой несколько рюкзаков водки.
Через какое-то время стали возвращаться пустые доры к нашему причалу. Рыбаки уже знали, что здесь их ждет лучший улов, чем в море, и быстро начали загружать туристов, получая с носа по бутылке. Загрузилась и наша группа – человек двадцать с огромными рюкзаками. Только мы трое были налегке, так как не собирались надолго задерживаться на Соловках.
Вспомнил же я об этой поездке в связи с названным эпизодом из книги Прилепина потому, что, как только мы вышли в открытое море, сразу поняли, что такое северные моря. Шла достаточно сильная волна, хотя рыбаки сказали, что это не шторм, а просто небольшая рябь, которая всегда бывает на Белом море. Мне же эта рябь показалась штормом баллов в пять-шесть. Наш утлый баркасик с дохлым мотором кидало вверх и вниз, как щепку. Уже через полчаса Кемь скрылась из виду за белесыми волнами и таким же белесым небом, а до Соловков было еще километров шестьдесят. Рыбаки сказали, что обычно они плывут часа четыре-пять.
Между тем они сразу же раскупорили бутылки и тут же упились вусмерть и отрубились (сказалась усталость – они были до этого в море больше недели), оставив одного на штурвале, который продержался на ногах не более пятнадцати минут, успев только сказать, чтобы мы держали курс «все время прямо». А что такое «прямо», когда берегов не видно, а солнце скрыто за мощной серо-пепельной завесой? Когда кто-то попытался выяснить у него, засыпающего стоя, а где у них компас, он заплетающимся голосом ответил: «Да мы его сразу, как только весной получаем, выпиваем». Оказывается, компасы у них были какие-то спиртовые.
Двое крепких парней из туристов встали за штурвал и стали вроде бы держать баркасик «прямо», ориентируясь по волне и ветру. Чем дальше мы плыли, тем сильнее швыряли нас волны. Ощущение было не из приятных – полная беспомощность в бескрайней водной враждебной стихии. Вот об этом я и вспомнил, читая Прилепина, ибо там описывалась подобная ситуация. Только его герои плыли с Соловков к материку, и у них были компас и карта, а мы шли в открытое море, не имея никаких средств для ориентации с упившейся командой. Между тем время от времени мы проплывали мимо каких-то островков, что несколько воодушевляло. По рассказам бывавших уже на Соловках, островки должны были встречаться по пути. Было ощущение, что мы идем верно. Правда, половина народа, особенно девушки, чувствовали себя очень плохо. Морская болезнь. Да к тому же они боялись находиться на палубе, на которой не было никаких ограждений, кроме низенького на уровне колен тросика вдоль бортов, и волны время от времени перехлестывали ее всю. А в трюме, где и сидела большая часть туристов, нестерпимо пахло тухлой рыбой, водорослями, и вообще там был, по-моему, ад кромешный.
Я находился все время на палубе. Сидел с несколькими еще ребятами перед рубкой, в которой и был штурвал, но в нее с трудом вмещалось только два-три человека. Выучился даже делать пару шагов по палубе на полусогнутых ногах. Часов через пять все острова исчезли, волны стали крупнее, усилился ветер, а Соловков не было видно нигде. Ребята из туристической группы забеспокоились и начали будить капитана, что удалось далеко не сразу. Слегка очухавшись и нещадно матюгаясь, он выбрался на палубу, понюхал воздух и констатировал: «Да вы, братцы, давно проплыли мимо Соловков и чешете в открытое море. Давай, крути штурвал назад». Тут уж ребята насели на него всерьез. Поставили самого к штурвалу, а двое стояли по бокам, поддерживая его, чтобы он не уснул и не выпал за борт.
Только еще часа через три мы добрались до Соловков, которые стоили того, чтобы вот так поболтаться в холодном Белом море по бескрайним волнам в течение более чем восьми часов и совершенно мокрым и продрогшим почувствовать, наконец, под ногами твердую почву святой земли. Здесь я не собираюсь описывать мощи Соловецкого монастыря и красоты сурового северного пейзажа. Думаю, все это обрисовано многократно более талантливыми писателями и журналистами. А вспомнил об этом сейчас лишь потому, что только после указанного места из романа Прилепина задумался о том, насколько опасным все-таки (если не безрассудным) было то мое первое путешествие по Белому морю в утлой лодчонке, серьезно перегруженной туристами с пьяным экипажем.
Наши попутчики и «благодетели» взвалили рюкзаки на спины и, не задерживаясь в монастыре, двинулись в глубь острова. А наша троица застряла на Соловках не на два, а на целых четыре дня. Рыбаки не двинулись в обратный путь, пока не выпили всю полученную водку. Мы поочередно смотрели соловецкие памятники, а один из нас троих постоянно дежурил на доре, чтобы рыбаки не уплыли без нас. Теплоходы из Архангельска и Кеми за эти дни не пришли, море все время штормило. Так что нас могли вывезти только наши рыбаки. Им-то это море было по колено.
Наконец запасы их кончились, и мы двинулись в обратный путь, который тоже не обошелся без приключений. Денег они с нас не взяли, но придумали нечто иное. Сразу двинулись не к берегу, а в открытое море. Там оказывается в это время (они всё знали!) проходил большой теплоход «Мудьюг» из Архангельска в Мурманск с заходом в какой-то залив. А на нем был буфет, где пассажирам продавали спиртные напитки. На пассажирский транспорт сухой закон не распространялся. Вот они и вышли наперехват к «Мудьюгу», причалили к одному из его служебных трапов и отправили наверх нашего лысоватого коллегу, назвав его «профессором»: «Нас туда не пустят, а тебе, профессор, и водочки продадут, уговоришь их. Не достанешь водки, сбросим вас в море, на корм рыбам. Трудись!» Думаю, что последнее было сказано для красного словца, так как мы втроем были в этот момент значительно сильнее четверых упившихся в доску и почти не стоявших на ногах рыбаков, и кто кого мог сбросить на корм рыбам – еще вопрос. Однако… Профессор, кряхтя, полез по шаткому трапу на борт теплохода, а туда его долго не пускали, отпихивая ногой его лысоватую голову. Так он и вернулся, даже не попав на борт.
Тогда я понял, что надо лезть мне. Я вел себя не настолько интеллигентно, как «профессор», а еще приближаясь к борту, заорал на моряка, что мы профессора из Академии наук и требую отвести меня к капитану. Это сработало, хотя на профессора я в том момент явно мало смахивал. В эту поездку я начал отпускать бороду, которая и сейчас при мне (так что ей, как и Олегу, почти 50 лет), но тогда это была просто густая щетина, как у нашего великого дирижера Мариинки Гергиева сейчас; был я в пропахшей дымом костров штормовке с обветренным лицом, развевающейся гривой волос (они еще росли тогда неплохо), в кирзовых сапогах и каких-то грязных штанцах (на Севере, правда, тогда и все так выглядели), зато в очках. Последнее, видимо, и убедило моряка у трапа, что я профессор. Я рассказал капитану о нашем бедственном положении, он подивился смелости городских интеллигентов плавать по неспокойному морю с какими-то уголовниками – «здесь почти все рыбаки когда-то отсидели сроки в местных лагерях» – и дал указание буфетчику продать мне три бутылки коньяка «три звездочки». Водки у них к этому времени уже не осталось.
Помня о злоключениях первого плавания, мы не отдали коньяк сразу, пообещав выдать его только на берегу. Это возымело свое действие. Часов через пять мы, уставшие, но живые и даже невредимые, уже выходили, сильно пошатываясь без всякого коньяка, на кемскую пристань.
Вернусь, однако, к новейшей русской прозе. Тем более что последний роман, о котором я хотел бы кратко упомянуть здесь, как-то перекликается и с моими юношескими путешествиями, и с моим профессиональным интересом к Древней Руси. Речь в нем, правда, не о Соловках, но во многом о русском средневековом Севере и любимых мною с юности местах: Кириллов монастырь, Псков, Великий Новгород и т. д.
Я имею в виду тоже отмеченный нашей литературной критикой и даже какими-то премиями (в том числе «Большая книга», 2013) роман Евгения Водолазкина «Лавр». Автор уже не юноша (1964 г. рожд.), доктор филологических наук по древнерусской литературе. Это второй его роман. Первый я не читал. Жанр романа – житие святого со всеми его жанровыми инвариантами – аскезой, исцелениями, чудесами, пророчествами, паломничеством, юродством и юродивыми, дремучестью народа и т. п. Время действия конец XV – начало XVI в. Основные места действия уже назвал, но также и путешествие от Пскова до Иерусалима. Герой романа – лицо вымышленное, чисто художественный персонаж. Автор хорошо владеет древнерусскими реалиями, профессионально начитан в древнерусской литературе, хорошо знает время и обычаи людей того времени и т. п. Нередко дает достаточно большие фрагменты прямой речи героев на несколько стилизованном древнерусском языке.
И первое время эти вставки меня даже немного раздражали, но потом вчитался и понял, что они вполне уместны и, пожалуй, необходимы в художественном отношении. Они в какой-то мере оттеняют и усиливают по контрасту, в общем-то, не совсем средневековое мышление главного героя (он, кстати, на протяжении романа имеет ряд имен – Арсений, Устин, Амвросий, Лавр, двигаясь по лествице духовного возрастания). В определенные моменты он обладает знаниями и складом мышления человека XX века, да и лексикой, близкой к современной. При желании это можно списать и на неумение писателя полностью встроиться в дух Средневековья (хотя, думаю, что автор не ставил перед собой такой задачи), и на легкую дань постмодернистской традиции по перемешиванию всего и вся, но и понять как совершенно осознанный художественный прием. Именно он позволяет автору на вроде бы средневековом материале показать сегодня в художественной форме общечеловеческие и актуальные во все времена духовные ценности – высокую любовь, веру, самопожертвование во имя чего-то возвышенного, святость, т. е. ценности, забытые пост-культурой и сознательно устраняемые ею из нашего сознания.
Понятно, что сегодня их нельзя демагогически прямым текстом вдалбливать в сознание современного читателя (не будет просто читать), что уместно лишь в контексте богослужения, когда сознание паствы уже подготовлено к этому, настроено на волну прямого восприятия хорошо всем известных, но мало кем выполняемых истин и нравственных норм. Поэтому Водолазкин и прибегает нередко к ироническому смешению типов мышления, которые создают некую ауру зыбкой неоднозначности и вроде бы неправдоподобности тех серьезных вещей, о которых собственно роман. Отсюда в книге не часто, но все-таки достаточно регулярно наряду с древнерусской речью встречаются и сентенции нарочито модернизаторского типа, вложенные в сознание средневекового человека:
«Интересно, сказал Арсений, ощупав под собой тележное колесо. Интересно, что время идет, а я лежу на тележном колесе, не думая нимало о сверхзадаче своего существования». «Связь неба с землей не так проста, как, видимо, привыкли считать в этой деревне. Подобный взгляд на вещи мне кажется излишне механистическим». «Это есть феномен, достойный всяческой поддержки, сказал посадник Гавриил». «Чем ты докажешь, скажи, Амброджо, что расчеты твои непогрешимы и что рождество Спасителя нашего Иисуса Христа действительно пришлось на 5500 год? Какой, спрашивается, гармонией ты поверишь всю эту алгебру?» «В самом же общем смысле путешествия подтверждали миру непрерывность пространства, которая все еще вызывала определенные сомнения». «У меня, любовь моя, хороший спутник, молодой интеллигентный человек с широким кругом интересов. Смугл. Кудряв. Безбород, ибо в его краях бороды бреют. Пытается определить время конца света, и хотя я не уверен, что сие в его компетенции, само по себе внимание к эсхатологии кажется мне достойным поощрения». «Да, конец света. А заодно и конец тьмы. В этом событии, знаешь ли, есть своя симметрия». «Город святых, прошептал Амброджо, следя за игрой теней. Они представляют нам иллюзию жизни. Нет, также шепотом возразил Арсений. Они опровергают иллюзию смерти».
Книга – не выдающееся явление в литературе, но читается легко, с интересом и наводит на приятную мысль, что еще возможно что-то действительно стоящее в нашей, да и в мировой, литературе. Кажется, пока не все так худо, как прописано в известной в наших кругах Последней книге Культуры. Тем не менее, эти единичные примеры никак не могут опровергнуть ее глобального метафизического апокалиптического смысла.
Опасаюсь, что я утомил вас, дорогие друзья, своими байками. Поэтому прощаюсь и жду ваших весточек – о чем угодно.
Ваш В. Б.
350. Н. Маньковская
(12.05.15)
Дорогой Виктор Васильевич!
Не могу не откликнуться, хотя бы кратко, на Ваши рассуждения о современной русской прозе. Остановлюсь хотя бы на романе Михаила Шишкина «Венерин волос», увенчанном множеством литературных премий (среди них и «Большая книга»). Честно говоря, книга эта большая только по объему, но никак не по значимости, и ажиотаж вокруг нее наводит меня, как и Вас, на грустные мысли – неужели это действительно лучшее, что есть сегодня в нашей литературе? Ведь ее автор, как бы самоидентифицирующийся с героиней (будто бы Изабеллой Юрьевой) по известному флоберовскому принципу «Эмма – это я» претендует на глубинное понимание (и описание) всех тайн женской души (и тела – зачастую в самых неприглядных его проявлениях). А на самом деле его поползновения такого рода банальны, плоски, примитивны, как будто и не было прекрасной русской литературы, отличающейся проникновенным психологизмом. В отношении не только женщин, но и мира в целом Шишкину, видимо, не дают покоя лавры Жоржа Батая и Мишеля Уэльбека – только если у последнего отталкивающими были Париж и Руан, то взгляд русского писателя отвращают Рим (открытые археологические раскопки напоминают ему обглоданные кости) и итальянская Ривьера.
Да уж, не повезло в жизни alter ego автора – неприкаянному толмачу с его многочисленными комплексами. И вряд ли внешний успех, вся эта шумиха с премиями способны их компенсировать…
Думаю, мы еще продолжим разговор об отечественных литературных новинках.
Солидарная с Вами Н. М.









































