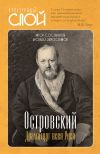Текст книги "Театральное эхо"

Автор книги: Владимир Лакшин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Один лишь Пестель не питает в отношении власти никаких иллюзий. Он видит перед собой врагов и не может чувствовать перед ними никаких моральных обязательств – он отпирается, обманывает, хитрит, издевается над своими следователями. Уж он не даст себя провести, и, сочувствуя его ловким ответам, мы видим здесь в нем, как в зародыше, тип особого рода революционера-политика. Он сам называет себя «охотником» и оправдывает своих товарищей тем, что люди всегда поначалу теряются, когда оказываются среди хищников.
Спектакль дает возможность объяснить и то, почему лично бесстрашные люди, такие, как Сергей Трубецкой, герой Бородина, четырнадцать часов стоявший под ядрами, проявляют в решающие минуты восстания постыдную слабость и склоняют голову перед Николаем Павловичем. Одно дело сражаться в общем воинском строю, в открытом поединке, ощущая за своей спиной поддержку всей армии, страны и государства, и совсем другое – выступить против этого государства в кучке заговорщиков. Тут другая природа страха, когда человек может показаться себе ничтожной, одинокой пылинкой. Царь еще во многом свой для них, его власть освящена церковью и обычаями отцов, так что потребна могучая сила духа, чтобы преодолеть это гипнотическое внушение традиции и авторитета.
Среди иного значение 14 декабря и в покушении на идею царской власти. Государственный переворот не удался, но покушение на идею состоялось. Следующие поколения революционеров воспользуются этим опытом и будут чувствовать себя свободнее. А революционность декабристов подвергнется еще раз страшному испытанию в казематах Петропавловской крепости и следственных кабинетах Зимнего дворца.
Прежде чем человек вступит на революционный путь, он должен не раз победить страх, миновать множество порогов в своем сознании. Декабристы осознали, что надо восстановить общественную справедливость, освободить крестьян, дать обществу свободу слова и совести – через эти рубежи мысль их прошла сравнительно легко. Труднее было решиться на то, чтобы пролить кровь, убить царя, а для успеха дела – вести тайную жизнь заговорщиков, конспирировать, подчиняться единому центру и т. п. И когда после разгрома восстания они очутились в тюремных одиночках, казалось – легче еще раз обмануться, поверить новому царю.
Искренность, честь и другие черты человеческой цельности поразительно сочетаются у декабристов с наивностью легковерия. В самом деле, как ловко проводит их эта заводная кукла, этот лицедей Николай Павлович! Якубович, Штейнгель, Бестужев, Трубецкой – все они, ободренные Николаем, пишут у себя в камерах Алексеевского равелина записки, проекты, трактаты о том, как исправить Россию, наладить ее торговлю и финансы, экономику и суды, пресечь злоупотребления и воровство и т. п. И несется, нарастая, из разных концов сцены этот шепот, ропот, вопль, умело придуманный режиссером: «Ваше Величество… Ваше Величество… Ваше Величество… Ваше…» Но это не голос слепого рабства – это вера, возможная лишь с отчаяния, последняя попытка воззвать к разуму самодержца, его совести и мирным путем совершить то, что не удалось им на площади.
Одни из них поймут потом, как наивны были их иллюзии. Другие найдут здесь путь для примирения с самодержавием и приобретут душевное спокойствие, подчинив благонамеренности свою личную совесть, как то уже ранее успел сделать Блудов с его болезненным и цинически равнодушным лицом (его хорошо играет В. Никулин).
Один из предателей декабристов – Яков Ростовцев, показанный в спектакле смешным, розовощеким дурачком, впоследствии остепенившись и совершив хорошую карьеру, сочинит на склоне лет целую теорию о двух видах совести: личной совести, которой люди руководятся в своем личном быту и осуждают с ее помощью свои злые помыслы и дела, – и общественной совести, которая заменяет, по его словам, личную совесть в жизни общественной и представляет собою верховную власть, карающую за нарушение законов и порядка и награждающую за гражданские или военные доблести. Какая «удобная» теория!
Впрочем, все это уже остается за границами спектакля, посвященного как раз органическому единству личной и общественной совести, обязательному для всякого революционного деятеля. И, возвращаясь к главной теме спектакля «Декабристы», можно сказать, что гуманизм Никиты Муравьева должен еще многое испытать и многому научиться, чтобы бросить остатки иллюзий в отношении царя, возможностей бескровного переворота и т. п. Но и диктаторские замашки Пестеля, его легкое отношение к крови и насилию должны пройти суровую проверку в школе исторического опыта.
А пока – драматический, сильный конец спектакля: праздник на Елагином острове в честь императрицы, веселый вальс, в котором безмятежно кружатся пары, молодые лица офицеров, будто и ведать не ведающих о трагической судьбе, постигшей их товарищей, и под звуки этого зажигательного вальса – скорбный мартиролог казненных и скупое, но полное сарказма извещение о судьбе их предателей: Блудов вскоре станет графом, потом президентом Академии наук, членом Государственного совета; Ростовцев получит чин генерала и будет назначен заведующим военными учебными заведениями; капитан Майборода будет произведен в майоры, потом в подполковники, пока не покончит жизнь самоубийством в Темир-Хан-Шуре.
Ледяным холодом несет, когда заглянешь в эти грядущие николаевские годы. Над Россией опустится долгая ночь, и подлость будет торжествовать свою победу.
Но нерешительность декабристов будет искуплена народовольцами. Новый царь станет дрожать перед революционерами, запираясь от их пуль и бомб в своем дворце. Невозможны станут иллюзии ранней весны русского революционного движения. Но не канет в Лету героический пример декабристов, потому что беззаветная преданность революции не пропадает, как скажет Ленин, даже тогда, «когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы».
3В ожидании, пока в зале погаснет верхняя люстра и начнется спектакль «Народовольцы», вы можете разглядеть заранее выстроенную на сцене превосходную декорацию: выбегающая на зрителя пустынная улица, мощенная булыжником, неподалеку от Семеновского плаца, где нынче состоится казнь; серая, однообразная линия домов с узкими мертвыми глазницами окон, покосившиеся фонари и полосатая будка. Эта будка да еще российский двуглавый орел над сценой как бы подчеркивают в самом оформлении преемственность со спектаклем «Декабристы», а вместе с тем все здесь иное. Перед нами прозаический, скучный Петербург, город Некрасова и Достоевского, Петербург канцелярий и доходных домов, пестрой толпы чиновников, студентов, ремесленников, мещан. Не блестят мундиры и эполеты, не слышно бальной музыки и французского говора. И не рыцарский турнир с самодержавием, а сумрачную, беспощадную, кровавую борьбу с царем ведет новое поколение революционеров – герои «Народной воли».
Надо сказать, что к восприятию пьесы о народовольцах (автор ее – А. Свободин) публика меньше подготовлена, чем к спектаклю о декабристах. Многие годы подвиг героев «Народной воли» был у нас забытой и едва ли не запретной темой. Их деятельность, их борьба расценивались, вопреки известным высказываниям Ленина, исключительно с отрицательной стороны. «Избранный народниками путь борьбы с царизмом посредством отдельных убийств, посредством индивидуального террора был ошибочным и вредным для революции»; «Народники отвлекали внимание трудящихся от борьбы с классом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса» – так писали долгое время о народовольцах.
В последние годы советская наука много сделала для восстановления объективной исторической оценки деятельности революционных народников, и театру было на что опереться в его работе.
Я не скажу, чтобы автор пьесы о народовольцах распахивал эту ниву очень глубоко, но труд его интересен, современен и безусловно заслуживает сочувствия. Чтобы верно его оценить, не запрашивая лишку, надо иметь в виду, что это не пьеса в собственном смысле слова, а хроника, скорее даже публицистический монтаж, построенный изобретательно и остро. Он не обладает, быть может, достоинством открытия характеров, но в форме живых картин, основанных на воспоминаниях и документах, обращает наше внимание к некоторым из таких вопросов, которые не могут оставить безучастным современного зрителя.
Последовательность событий в спектакле сдвинута, смещена. Действие, начатое ранним утром 3 апреля, когда должны казнить народовольцев, возвращается вспять, и мы видим, как накануне суда прокурор обдумывает обвинительную речь, а один из главных обвиняемых готовится в своей камере к защите революционной партии и ее дела. То, что для Желябова составляет его жизнь, дорогие ему воспоминания о товарищах, об этапах совместной борьбы за свободу народа, то для его обвинителя – разоблачительный материал созревания чудовищного, бесчеловечного заговора преступников-террористов. И как тени, вызванные заклинаниями двух враждебных сторон, перед нами проходят события и лица, отмечающие вехи краткой истории народовольчества: Липецкая встреча, Воронежский съезд, неудача в Александровске, московский подкоп и, наконец, взрыв на Екатерининском канале…
Привыкнув к лицам актеров, мы начинаем различать среди яростно спорящих молодых людей долговязого, простодушного в своем радикализме Николая Морозова (Р. Суховерко), волевую, с нервным, подвижным лицом Веру Фигнер (Л. Толмачева), маленького, собранного в комок энергии Александра Михайлова (А. Мягков)… А впереди других – две фигуры, которые естественно выходят в центр спектакля: Андрей Желябов и Софья Перовская, главные герои «Народной воли», по праву приковывающие к себе наибольшее внимание зрителей.
Но сами народовольцы – лишь часть действующих лиц пьесы. Автор и режиссер смело ввели в спектакль то, что можно назвать голосами эпохи, живым историческим фоном: пестроту сословий и лиц, говор улицы, крики толпы. Замысел интересен и важными своими сторонами входит в общую концепцию спектакля, хотя должная мера, кажется, не везде была соблюдена. К чему, например, появляются на сцене три канканирующие девицы, или крестьянка, качающая люльку, подвешенную на проволоке, вдруг спустившейся с потолка, или шарманщик, предсказывающий судьбу? Рискуя получить упрек в консервативности вкуса, я должен признаться, что во время действия скучал порой от сумятицы на сцене, избытка пестрого и лишнего «фона», передающего социальные «функции» или бытовые «приметы». Не лучше ли было больше внимания отдать личным характерам основных участников этой исторической драмы – их побуждениям, мотивам, противоречиям, страстям?
К тому же постановщик, то и дело перенося место действия из комнаты на улицу, а с улицы – в здание суда, не дал воображению зрителя ровно никаких подпорок, хотя бы в виде условных выгородок. Спору нет, быть может, это и смело, и современно, но поскольку перед глазами все время одна хоть и превосходная, но связывающая воображение декорация, порой возникало чувство неловкости, оттого что заговорщики едва ли не кричат друг другу через улицу о своих тайных замыслах цареубийства, в то время как рядом прогуливаются обыватели, офицеры, журналисты и жандармы. Народовольцы ведут себя так неосторожно, что их главный конспиратор Михайлов гораздо чаще, чем он это делает в спектакле, должен был бы восклицать: «Несчастная русская революция!»
И однако спектакль несет важную мысль, заставляет зрителя задуматься, связать концы и начала. По отношению к народовольцам в куда большей остроте, чем по отношению к декабристам, возникает вопрос: признает ли современный зритель их историческую правоту, оправдает ли их методы борьбы?
Народовольцев обвиняет товарищ прокурора Муравьев (Г. Фролов) – в барском халате с белыми отворотами, играющий карандашиком у губ и с профессиональным самодовольством обдумывающий, как бы похлестче заклеймить цареубийц. И надо ли говорить, что всё наше сочувствие обращено в эти минуты к сидящему у другого края сцены в тюремном долгополом одеянии Андрею Желябову.
Желябов, каким его играет О. Ефремов, высокий, благообразный, с открытым лбом и по-мужицки подстриженными сзади под горшок волосами, – это новый тип интеллигента из народа, из крестьянской среды. Демократические инстинкты соединились в нем с широкой образованностью. В нем угадываешь богатую внутреннюю жизнь, силу характера и природную одаренность. Он верит в социализм, ему близки и нравственные начала христианства, но он знает и то, что «вера без дела мертва есть», и бросается в омут практической революционной работы. Во внушительной фигуре Ефремова-Желябова есть благородная значительность, и жаль, что по ходу пьесы он так статичен.
Перед царским судом Желябов с товарищами сумеют отстоять себя и с гордо поднятой головой взойдут на эшафот. Но ведь есть еще и другой суд, куда более важный самому Желябову, – суд истории, суд потомков, который в скромном своем отражении совершается и сегодня в маленьком зрительном зале на площади Маяковского. Сочтет ли он, этот суд, его самого и его товарищей напрасной жертвой и, сожалея о погибших зря силах, отвернется от них или, даже споря с ними, признает их заслугу перед будущим?
Да, мы готовы склонить головы перед нравственной чистотой, самоотверженностью и верностью революционному долгу борцов «Народной воли». Этот редкостный тип людей, может быть, с наибольшей полнотой и законченностью воплотился в Софье Перовской, горящей сухим пламенем самоотречения и преданности своему делу. Худенькая, скромная женщина в черном платье с глухим воротом (ее играет в спектакле А. Покровская), с нежной и беззащитной улыбкой, пробивающейся временами на суровом, скорбном лице, – она была оплотом стоической верности долгу и нерассуждающего героизма. А вместе с тем какой тонкий и гибкий ум, какая преданность товарищам, выдающая всю глубину и страстность ее натуры!
В решительную минуту у народовольцев уже нет и не может быть никаких колебаний, никакой жалости к царю и слугам самодержавия – жертвам революционного террора. Кровь, которую так боялись пролить декабристы, не пугает народовольцев. За царем организуется настоящая охота. Восемь раз кончается неудачей покушение на его жизнь: его стерегут в Москве, Петербурге, за городом, на железной дороге и убивают наконец, как затравленного зверя.
Нет ли, однако, во всем этом черт бессмысленного и упорного фанатизма, когда кровопролитие не оправдывается исторической нуждой? Спектакль «Современника» допускает как будто и такую возможность трактовки, тем более что Александр II в исполнении Е. Евстигнеева выглядит не столько страшным деспотом, сколько жалким, сломленным стариком, готовым по доброй воле согласиться на конституцию. Не будем, впрочем, спешить с выводом, ибо театр, верный и на этот раз принципам художественного исследования, реалистического анализа, оставляет нам и другие возможности объяснений, которыми грешно пренебречь.
Первые же сцены спектакля – споры в Липецком курзале и в Воронеже, под перезвон колоколов Епифаньевского монастыря, создание «тайного общества в тайном обществе», когда группа недавних мирных пропагандистов социализма в деревне решает перейти к политической борьбе с помощью бомбы и кинжала, – неожиданно остро обнажают перед зрителем неизбежность такого хода вещей. Ведь жестокое преследование правительством агитаторов, «пошедших в народ», невозможность распространять свои идеи мирным путем, жестокая кара, павшая на головы их товарищей, – всё это с неизбежностью вело недавних деятелей мирной «Земли и воли» к той реальной форме борьбы, которая еще была для них возможна, – к индивидуальному террору.
Они решают прибегнуть к террору как к самозащите, как к вынужденному средству борьбы. «Нас довели до этого», – говорит Желябов на суде. Еще прежде чем холодный рассудок заставит народовольцев думать о политических последствиях их решения, непосредственный взрыв чувств, жажда немедленного действия и протеста убедит их в своей правоте. «Не до теорий, жить нечем, дышать нечем!» – воскликнет Перовская. Они должны отомстить за кровь своих товарищей. Это почти как защитная реакция человека против наглости угнетателя: он едва успел осознать, что его оскорбили, унизили, а эмоциональный порыв опередил его мысль и он отвечает ударом на удар. Такое душевное движение, такой порыв, вызывает только уважение и не может идти в ущерб нравственности.
В одной из важных сцен спектакля пылкий Гольденберг (его прекрасно играет В. Никулин) с надрывом, с отчаянием убеждает Плеханова в необходимости борьбы, выкрикивая одно за другим имена убитых, повешенных, затравленных самодержавием товарищей. Так думает в эти минуты не он один. Он лишь особенно бурно, яростно выражает то, что чувствуют и другие. А вместе с тем как раз в Гольденберге с его безумным взглядом, спутанными на лбу волосами, в том доходящем до истерии тоне, каким он оглашает свой мартиролог, мы узнаем революционера чувства, фанатика мести, поглотившей в нем все остальное. И недаром именно Гольденберг, падкий на чувство и фразу, не выдержит потом уготованных ему судьбою испытаний.
Чувство мести не может само по себе стать двигателем революции. Вспышка чувств грозит рано или поздно угаснуть, а раз начатая борьба неизбежно должна получить и более общее оправдание. Из революционной мести террор превращается в средство агитации, подает урок мужества запуганному обществу, расшатывает правящую власть. Наиболее дерзкие умы хранят еще и надежду после убийства царя силой вырвать демократические свободы и привести общество к народоправству. Но все эти рисующиеся смутно теории и программы имеют в конечном счете своей подкладкой все то же возмущенное и бунтующее революционное чувство. В этом смысле народовольцы, как и декабристы, остаются романтиками революции.
Члены партии «Народной воли», объявившие войну правительству, как бы заранее отрекаются от себя, чувствуют себя людьми, принесшими свою жизнь в жертву родине и свободе и готовыми, если ничего иного не остается, бесстрашно взойти на эшафот. «Для меня мораль дела важнее его успеха», – говорит в спектакле Софья Перовская. И можно поверить, что она не способна перешагнуть через недостойные способы и сомнительные в ее понимании средства, хотя бы они сулили революционеру немедленную удачу.
Но почти религиозная самоотреченность и жертвенность, превращающая народовольцев в подобие монашеского ордена, жестоко отзывается на них самих. Готовые без колебаний отдать революции свою жизнь, они переступают через себя, безжалостно подавляют в себе все личные симпатии, стремления и надежды, кроме тех, что непосредственно связаны с террористической деятельностью исполнительного комитета. И недаром Кибальчич так мечтает вернуться к своей науке, к неосуществленной мечте о воздухоплавательном аппарате, а Перовская, готовя очередное покушение, всякий раз дает себе слово, что оно будет для нее последним и она вернется в деревню просвещать и лечить крестьян. «Скорлупы боюсь, узости…» – с тревогой говорит она. Но когда волна террора подхватывает, закручивает ее, она уже не считает себя вправе думать о чем-либо ином, кроме убийства царя, и стоически выполняет свой долг.
Отречение от себя идет в среде народовольцев так далеко, что они и любят как-то мучительно, с пароксизмами, надрывом: простые человеческие чувства кажутся им чем-то недозволенным. «Стыдись, – говорит Перовская полюбившему ее Желябову. – Наше дело не цветами, а динамитом пахнет». А потом, не выдержав борьбы со своим чувством, сама первой приходит к нему. Это голос живой жизни, не выдерживающей пригнетения суровой моралью.
Прирожденный конспиратор Александр Михайлов мечтает о создании такой организации, «которая станет для своих членов всем – религией, молитвой, станет действовать, как шестеренки часов». «Мы должны контролировать друг друга, – развивает он свою любимую мысль, – все слабости наши, вплоть до интимных, должны знать. Что у каждого в кармане, в бумажнике. Надо выработать привычку к взаимному контролю, чтобы контроль вошел в сознание». А. Мягков, играющий Михайлова, произносит эти слова с искренней убежденностью, и мы лишь потом начинаем раздумывать, что это – хорошо или дурно?
Нет сомнения, что основанная на таких началах организация заговорщиков будет действовать по-своему эффективно. Но где гарантия, что возведение революционного дела в почти религиозный послуг, граничащая с фанатизмом подозрительность и контроль друг за другом не подействуют губительно на личность заговорщика, не сдавят, не обузят его человеческие чувства? А ведь это в конце концов может наложить печать и на характер самого движения.
Театр показывает, как сильно переживают герои-народовольцы свою трагическую замкнутость, как часто возвращаются к надеждам на временность террора и возобновление социалистической пропаганды в народе, как чувствуют внутреннюю опасность тактики, втягивающей их в колесо все новых и новых покушений и убийств.
Это мучительное внутреннее состояние особенно сильно передано О. Ефремовым в сцене неудавшегося подкопа у Александровска. Ефремов-Желябов вваливается ночью на конспиративную квартиру с комьями грязи на сапогах, измученный бессонницей и непосильной земляной работой, ничего не видящий в двух шагах из-за куриной слепоты. Он устало падает на стул, и мы вдруг понимаем, что этот человек на пределе. В какую-то минуту он словно бы ослаб, надорвался и в лихорадочном жару начинает горько мечтать, как о недостижимом счастье, о непрочитанных книгах, о разговорах с крестьянами. «Мне в кружки надо, в общество, пропагандировать, движение создавать…» – как бы спохватывается он. Правдиво, с мужественной сдержанностью передана актером эта смертная усталость – до отчаяния, эта мука человека, добровольно оторвавшего себя от всего, что было ему по сердцу, и с маниакальным упорством добивающегося своей цели, упершегося в одну точку, сосредоточившего все силы души на одном – убить царя, и готового в случае неудачи начать все сызнова.
Почему же так сильно действует эта коротенькая сцена? Почему такой горькой самоиронией звучит в устах Желябова-Ефремова его словцо – «затерроризировались»? Потому что здесь наблюдаешь в упор и кожей, что называется, начинаешь ощущать сам психологический механизм незаметного перерождения средств в цель: каждый следующий террористический акт выглядит уже не свободным по выбору, но навязанным беспощадной логикой террора.
Было бы недостойно упрекнуть Желябова за его упорство, и театр заставляет зрителя восхищаться силой духа этого человека. Но та внутренняя неудовлетворенность, те нравственные утраты, о которых тоже напоминает спектакль, входят составной частью в драматизм его характера и судьбы.
Слов нет, чистота идейных побуждений народовольцев, их нравственная прямота и цельность ставят их исключительно высоко в нашей памяти как людей, безраздельно преданных делу освобождения народа. Они не только не ждали какой-либо корысти для себя, будь то хотя бы посмертная слава и признание, но, напротив, сознательно приносили себя в жертву, шли против своих личных интересов и желаний, освистанные по пути на эшафот тем самым народом, за благо которого они готовились умереть.
Можно ли, однако, рассматривать нравственные побуждения революционера изолированно от практических итогов, политических результатов его деятельности? Правы ли оказались народовольцы по отношению к своему времени и к более дальней исторической перспективе? Наивно было бы ждать от театра ответа на все эти огромной сложности вопросы, но материал для правильного их решения спектакль «Современника» безусловно дает. Он приковывает наше внимание к спору с народовольцами молодого Георгия Плеханова и заставляет зрителя напряженно думать, прежде чем он безусловно примет одну или другую сторону.
Плеханов (Ю. Рашкин) рассуждает, обращаясь к энтузиастам террора, горячо и резко, давая повод заподозрить себя даже в некоторой амбиции. В своей европейской одежде, светлой, с иголочки тройке и с элегантной шляпой в руках, он уже внешне выделяется в толпе мужчин в смазных сапогах и поддевках, ношеных пиджаках и студенческих тужурках и женщин в темных платьях курсисток. Народовольцы рвутся к решительному действию, а их товарищ выливает ушаты холодной воды на разгоряченные головы, замечая, что на кончике кинжала парламента не утвердишь, а убийство царя поведет разве лишь к тому, что вместо двух палочек рядом с его именем появятся три.
Сам переход народовольцев к политической борьбе, когда мирная пропаганда социализма стала невозможной, – важная их заслуга, недостаточно оцененная Плехановым. Однако существенно и другое.
В сцене разрыва с народовольцами Плеханов ставит перед ними вопросы, на которые ему по существу никто не отвечает. Он тщетно пытается обратить своих товарищей к мысли о том, что станут они делать в случае успешного переворота, после захвата власти. Народовольцы не хотят думать об этом раньше времени; пока надо отомстить за погибших товарищей, показать царю, что он не безнаказан, – об остальном думать рано, пусть это станет уделом будущего. А между тем здесь коренной вопрос для революционного деятеля – вопрос не о ближайших и кажущихся несомненными, а о более отдаленных целях, в свете которых и средства могут быть избраны иные, чем те, что как будто лежат под рукой.
Народовольцы – люди безупречной личной нравственности и отваги. Но в понятие революционной нравственности входят не только непосредственные душевные импульсы: честность, совестливость, готовность к самопожертвованию. Ведь революционер хлопочет не о себе лично. А стало быть, мало знать, что твой непосредственный порыв был благороден и ты не можешь ни в чем упрекнуть свою совесть. Надо еще испытывать чувство ответственности перед будущим, сознавать последствия, к каким поведет твой поступок. Словом, одно революционное чувство и даже самый искренний энтузиазм тут не выручат. Нужна и благородная, человечная, заглядывающая вперед мысль – в этом фундамент новой революционной этики.
Плеханов в спектакле говорит о том, что, даже захватив власть, Желябов с товарищами могут оказаться в драматическом положении: в России нет пока организованного рабочего класса, нет таких общественных сил и социальных учреждений, которые помогли бы заговорщикам удержать власть и не дали бы ей переродиться. Горстке революционеров придется по необходимости навязывать свою волю большинству, вводить социализм теми же привычными для них методами террора. «Кто мне даст гарантию, что мы не увлечемся всем этим?» – спрашивает Плеханов в пьесе А. Свободина, и это верно передает взгляды автора книги «Наши разногласия» в ту пору, когда его особенно высоко ценил Ленин.
Его предостережения имеют в виду то, что принято называть в марксистской литературе «иронией истории». Видя впереди некую цель и бескорыстно стремясь к ней, исторический деятель с недоумением обнаруживает, что плоды его усилий не соответствуют порой тому, чего он сам ожидал. Верно говорится: «Что посеешь, то и пожнешь», но жатва может порой разительно мало напоминать посев, в чем, однако, не склонен сознаться себе ни один сеятель. Исторический поток сносит даже опытных пловцов, если они пытаются плыть наперекор течению, а их утешения себе, что они держат прежний курс, начинают выглядеть комически. Политическая реальность способна до неузнаваемости видоизменять первоначальный идеал и цель, приспособляя их к своим нуждам и являя как бы насмешку практики над субъективными намерениями и декларациями.
Вспоминая пример якобинцев, опыт Великой французской революции, Плеханов говорит о том, что даже незаурядные исторические деятели легко становятся в иных условиях диктаторами и узурпаторами власти.
Тень Робеспьера и Комитета общественной безопасности, лишь однажды, если не ошибаюсь, мелькнувшая в спектакле о декабристах – в диалоге Пестеля с Никитой Муравьевым, – служит в 1879 году предметом глубокого и напряженного спора. Театр еще вернется к этой теме в последней части трилогии – и тогда окончательно прояснятся многие важные ее стороны. Пока же отметим, что если в «Декабристах» гуманность натуры Муравьева и наполеоновские замашки Пестеля заключали в себе прежде всего психологическое противостояние двух характеров, то в «Народовольцах» личные характеры оказались не так важны, зато с отчетливой публицистичностью выступило столкновение двух взглядов, двух тенденций в русском освободительном движении.
В спектакле «Народовольцы» самым сильным аргументом Плеханова против Желябова и его друзей звучат, пожалуй, слова Лаврова, «вашего бога, теоретика Лаврова», о том, что всякая неограниченная власть портит самых лучших людей и что даже гениальные люди, думая облагодетельствовать народы декретами, не смогли этого сделать. Однако эти слова, сильно звучащие со сцены театра, мы не должны считать ответом, сметающим все недоуменные вопросы.
Вспомним, что сам Плеханов спустя пять лет после раскола в Воронеже писал в работе «Наши разногласия», что он выступает против захвата власти путем террора не потому, что «всякая диктатура портит людей», как считал Лавров. Этот вопрос, говорил он, едва ли окончательно разрешен историей и психологией. Важно другое – какие существуют гарантии, что народ завоюет победу и сможет удержать ее? Именно здесь, в вопросе о гарантиях, Плеханов видит коренное различие между марксистами и теоретиками террора. «Первые требуют объективных гарантий успеха своего дела, гарантий, которые заключаются для них в развитии сознания, самодеятельности и организации в среде рабочего класса; вторые довольствуются гарантиями чисто субъективного свойства, отдают дело рабочего класса в руки отдельных лиц и комитетов, приурочивают торжество дорогой им идеи к вере в личные свойства тех или иных участников заговора»[5]5
Плеханов Г. В. Сочинения. Гос. изд. М. – Л., 1926. Т. II. С. 300.
[Закрыть]. Так все трудности, сомнения и противоречия революционного движения сходятся в конечном счете, как к главному узлу – к проблеме народа, народного самосознания.
В спектакле «Современника» народ то и дело появляется в разных своих обличьях: он торгует, нищенствует, молится, плачет, поет, кощунствует и мечтает. В согласии с замыслом публицистического спектакля и народ в нем представлен условно, тенденциозно. На липецком курорте пробегающий мимо источника мужик (О. Табаков) отказывается от воды, которую господа тянут из поильников, – он предпочитает «свою, простую», то есть взятую у шинкаря. И тот же мужик первым бросается на интеллигента «в очках», увлекая за собой толпу, готовую освистать, затюкать, затравить его до смерти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?