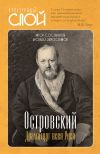Текст книги "Театральное эхо"

Автор книги: Владимир Лакшин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Пожалуй, только на всякий случай, для порядка, он приносит из своей комнаты «портфейль» и начинает пересчитывать в присутствии Дормидонта деловые бумаги. В портфеле должно лежать семнадцать документов. И, не чая беды, в полнейшем благодушии, говоря с Дормидонтом о чем-то постороннем, Маргаритов почти механически делает проверку бумагам… Он немного встревожен: счет документов не сошелся – в портфеле шестнадцать бумаг вместо семнадцати. «Четырнадцать, пятнадцать… Где же семнадцатый?» – «Поищите», – откликается Дормидонт-Грибков. И Яншин начинает пересчитывать сызнова. Он только называет цифры: один, два, три… Первые бумаги пролистываются быстро, без заметных признаков беспокойства. Но с каждым следующим, отложенным в сторону документом растет его волнение – неужели что-то из бумаг пропало? Тогда конец его честной репутации стряпчего, конец карьере и надежде выбиться из нужды. «Девять, десять, одиннадцать…» У него уже дрожат руки, в голосе напряжение. И вместе с ним каждый в зрительном зале ведет про себя этот счет, хотя зрители знают и без того, что Маргаритов прав в своей ужасной догадке и семнадцатый документ отсутствует: он похищен Людмилой для Шаблова. Когда Яншин с паузами, в которых чувствовалось его опасение, недоумение, отчаяние, произносил последние цифры – еще не до конца веря себе и с каждой следующей пересчитанной бумагой убеждаясь, что падает в пропасть: «четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать…» – ничего и досказывать не надо было, никаких монологов не требовалось.
Обведя потерянным взглядом зал, Маргаритов лишь выдохнул: «Продали!» – и зала взорвалась невероятной после мертвой тишины, оглушительной овацией. Несколько минут подряд, прервав ход действия, не давая актерам продолжить сцену, зал рукоплескал гипнотическому искусству актера. После окончания спектакля я стал считать вызовы. Помню, что занавес давали восемнадцать раз! Не знаю, повторилось ли это чудо на премьере. Кажется, он не всегда потом так играл. Но этот спектакль был его вершиной. Если бы я даже не видел Яншина в других ролях, все равно за одну эту минуту я запомнил бы его как великого артиста.
Незадолго до его смерти в моей квартире зазвонил телефон. «С вами говорит Яншин… артист Яншин…» – сказал знакомый и милый, чуть квакающий голос. «Здравствуйте, Михаил Михайлович», – отозвался я. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» – изумился он простодушно.
Оказалось, он звонил мне из больницы, спустившись к автомату на площадке лестницы из своей палаты, звонил как незнакомому человеку и только для того, чтобы сказать несколько добрых слов об одной моей статье.
Я не признался ему тогда почему-то, что мы давно знакомы, что литератор, чей телефон он специально разыскал, и тот пестовский мальчишка, который провожал его восхищенным взглядом, это одно лицо. И совсем уж не решился я тогда сказать ему то, что по закону благодарности обязан произнести сейчас: Яншин более, чем кто-нибудь, заставил меня думать, что театр всё же – необъяснимое чудо.
Веселый свет
В первый раз вижу Топоркова так близко, не с галерки или из кресел партера, и с любопытством вглядываюсь в его странное, большегубое, очень некрасивое лицо. На него будто положен резкий грим, предназначенный для какой-то роли. Глубокие складки морщин на щеках, по-африкански вывернутые губы, маленький подбородок… Невероятное, в сущности, лицо: верхняя часть – лоб, нос – римского патриция; нижняя – потомственного плебея. И с этим в лад имя-отчество торжественное, фамилия же – простодушно-юмористическая. Взглянешь на верх лица: Василий Осипович! Поглядишь ниже – Топорков… Лицо, как маска мима, неподвижно-безличное в ожидании представления, но уже в следующую минуту волшебно оживающее и пригодное для любого облика, лика, физиономии, личины или даже рожи. Почти безобразен – и неоспоримо привлекателен, глаз не оторвать.
Но вот он заговорил. Не знаю, для всех ли так, но для меня голос, само звучание голоса – половина впечатления от человека. Знакомый, обаятельный голос Топоркова – высокий, с богатым тембром. Речь ясная, точная в каждом звуке и по-московски «вкусная». И все это вместе – и лицо, и голос, и бабочка у воротника – уже первый миг сцены, соблазнительное обещание театра.
Топорков сидит между тем, нога на ногу, на стуле у моего редакторского стола в «Новом мире». Разговор, поначалу вялый, скользит с темы на тему, и, постепенно обжившись в незнакомом пространстве, Топорков перехватывает нить беседы.
Рассказывает он с полнейшей простотой, отсутствием нажима и «красок», ничем не выдавая конечного эффекта; рассказывает не по-актерски скромно, и, по большей части, не закулисные анекдоты, а случаи из жизни.
«Я – неудачник. Иду в студию на занятия, там маленький порожек – непременно цепляюсь и падаю. Другие проходят, хоть бы что. А я еще заранее, предвидя неприятность, говорю себе: там порожек, не забыть переступить. Хлоп – падаю… Я ведь еще в Первую мировую был на фронте, попал в плен, и там, знаете, был у меня такой случай…»
И Топорков рассказывает, как оказался в лагере для военнопленных вместе с французами. К большим праздникам, на Рождество и Пасху, Красный Крест посылал в лагерь посылки. Каждому полагалась плетеная корзиночка, а в ней сало, десяток яиц и пачка табаку. Знакомый французский капрал подошел к Топоркову и предложил пари: с семи шагов, прицелившись, бросать яйцо в закрытые лагерные ворота, и, если попадешь, он отдаст все свои яйца, не попадешь – твоя корзинка переходит к нему. «С такого расстояния только дурак промажет», – подумал Топорков и согласился. Прицелился потщательнее, бросил яйцо, и оно – фьють, фьють, фьють – тремя причудливыми движениями, описав дугу в воздухе, взмыло над аркой ворот и исчезло. Пришлось отдать капралу свою корзинку.
Долго его мучила эта загадка, пока кто-то не объяснил, что сырые яйца ведут себя так не зря, поскольку на лету меняют центр тяжести. Обогащенный этим знанием, Топорков решил отомстить судьбе за неудачу.
К следующему празднику военнопленным снова вручали посылки Красного Креста. Топорков выбрал новичка, молоденького прапорщика с простодушным открытым лицом, и решил испытать на нем французский фокус. Условия пари он усовершенствовал. Предложил, что сам встанет в пяти шагах, а прапорщик будет целиться в него яйцом: промажет – отдаст корзинку.
Топорков стоял невозмутимо-спокойно, заранее уверенный в выигрыше. Новичок прицелился и – бац! Яйцо ударило прямо в лоб, и желток потек по лицу…
Василий Осипович картинно показал, как это случилось, медленно проведя пятерней от лба к подбородку, и я увидел смертельно обиженное, несчастное, детское лицо человека, раздавленного неудачей. Только тут он произнес заключительную реплику своего рассказа: «Скажите, – спросил меня прапорщик, когда я отдавал ему корзинку, – зачем вам это нужно было?»
Великий знаток тайны смеха, Топорков рассказывал с невероятной, подкупающей серьезностью, готовя ошеломляющий комический эффект финала.
Неожиданность, заключенная в этом рассказе, была для меня и в даре Топоркова-актера, во всем его художественном облике. Разговор об этом впереди, а теперь надо наконец объяснить, почему летом 1963 года Топорков оказался в редакции литературного журнала и о чем именно собирался я с ним разговаривать.
Дело в том, что в ящике моего редакторского стола лежала мало кому известная рукопись романа Михаила Булгакова «Записки покойника». Потребуется довольно долгое отступление, чтобы понять, при чем тут Топорков.
С этой рукописью я знакомился дважды. Впервые я узнал о ней еще подростком, году в 1948-м, благодаря любезности одного булгаковского персонажа, или, чтобы выразиться точнее, одного из прототипов его комической театральной хроники. Федор Николаевич Михальский, о котором я уже рассказывал, случалось, у нас в гостях не отказывал себе в удовольствии прочесть вслух главку-другую из «Записок покойника» за дружеским ужином. Веселый хохот прокатывался над столом. Все присутствующие хорошо знали этот мирок и воспринимали книгу горячо, но, пожалуй, поверхностно, как цепочку карикатур и дружеских шаржей, угадать прообразы которых не составляло малейшего труда. Потрепанную рукопись в коленкоровом самодельном переплете Михальский не выпускал из рук – приносил и уносил с собою.
Летом 1963 года я читал эту рукопись совсем другими глазами и, не скрою, с журнальной корыстью. «Новый мир», в котором я работал, испытывал в этот момент нехватку хорошей прозы, и мне показалось своевременным обратиться к лежавшему забытым грузом наследству. Надо сказать, при втором знакомстве «Записки покойника» не показались мне такой уж непритязательной, легкодумной книгой: в ней была бездна веселого, неожиданного юмора, но и авторская горечь, боль, чего я прежде, по младости лет, не почувствовал. Для меня не было сомнения, что передо мной, пусть и неоконченная, но редкая, великолепно написанная вещь… Однако как убедить Твардовского ее напечатать?
Требования к прозе в «Новом мире», как известно, были строги и высоки, и к тому же редактор журнала, при огромной его чуткости к хорошему в искусстве, был весьма своенравен. Я было разлетелся со своими восторгами, толкую ему о Булгакове, а он: «Это который “Дни Турбиных”? Та-а-ак. Да ведь вы говорите, вещь неоконченная… Наверное, театральные шуточки… Цеховое сочинение…» – и дальнейшего интереса не выказал. К театру он вообще относился настороженно-скептически, булгаковская же проза была ему в те поры незнакома.
Развеять предубеждение Александра Трифоновича было не всегда легко. Но надежды терять не следовало. С нами в редколлегии работал один товарищ, старший летами и опытом, с мнением которого Твардовский обычно считался. Суровый, бдительный редактор, он вместе с тем отличался бесспорным житейским обаянием. Чуткий к юмору, падкий на беззлобно-смешное, он умел хохотать заразительным заливистым тенором. В конце рабочего дня я зазвал его к себе в кабинет, усадил в кресло и, пообещав необычное удовольствие, стал читать вслух.
Я выбрал главу о конторе Филиппа Филипповича, Фили, и то место, где дама с лисой на плечах, в которой угадывается Елена Сергеевна Булгакова, кокетничает с администратором, пока ее сын, малый лет семи с осоловелыми глазами, объедается шоколадом, а немка-бонна Амалия, тщетно пытаясь оторвать его от этого занятия, беспомощно вскрикивает: «Фуй, Альёша»
На пятой строке мой настороженный слушатель фыркнул, потом хохотнул, через абзац рассмеялся, а как перевалило на вторую страницу, застонал от смеха и уже далее то и дело заливался высоким тенором, повторяя время от времени сквозь слезы: «Фуй, Альёша!» – и тем самым мешая мне читать.
За этим занятием и застал нас Твардовский, заглянувший в комнату, где происходило чтение, уже в плаще и с портфелем, чтобы проститься перед уходом.
– Что это вы такое смешное читаете? – спросил он, стоя в дверях. Я ответил.
– Ну, ну, – сказал он и, не раздеваясь, присел на краешке кресла с сигаретой. Послушал немного, сдержанно улыбнулся и сказал, вставая: – Вот что. Дайте мне на вечер эту штуковину, я дома посмотрю.
На другой день он приехал в редакцию патриотом романа Булгакова:
– Конечно, театр – стихия мне чужая. Но как написано! Какой юмор! Я жене за ужином читал – оба смеялись… Да это подарок нашим читателям – настоящее семейное чтение!
Услышав эти слова, я торжествовал. «Семейное чтение» в его устах всегда было знаком высокого одобрения.
Откладывать дело Твардовский не любил: решено и подписано. Условились, что роман будем печатать в ближайших номерах. Но Александра Трифоновича продолжало несколько беспокоить, что книга обрывается на полуслове, да и название «Записки покойника» не вполне оправдано сюжетом и сугубо траурно.
– У нас в литературе покойников не любят. Скажут: зачем мрак нагоняете? – рассуждал Твардовский. – А нельзя ли сменить название?
Менять название Булгакову? Решиться на это было нелегко, хоть я и понимал, что в журнальном смысле Твардовский прав. Публикация и без того была несколько необычна для нашего строгого, традиционного издания, к тому же то и дело попадавшего в перекрестье критических прожекторов. Требовалось как-то облегчить путь вещи к читателям.
А не назвать ли книгу попросту: “Театральный роман”? – подумал я. И, одолевая робость, позвонил вдове Булгакова. Елена Сергеевна даже вскрикнула от радости, узнав о намерении «Нового мира» печатать булгаковскую рукопись. Но едва я осторожными обиняками повел дело к тому, что хотелось бы переменить название, насторожилась, напряглась.
«Как вы посмотрите на такое – “Театральный роман”? – набрав побольше воздуха в легкие, спрашиваю я. И слышу, как в телефоне повисло нехорошее молчание. «До сих пор Мишу не переименовывали…» – после долгой паузы раздельно и звонко говорит Елена Сергеевна. «Да нет, я не настаиваю, чтобы именно так, – поспешно отступаю я, – но ведь надо бы что-нибудь придумать, и Твардовский просит…»
С заметным сопротивлением в голосе Елена Сергеевна согласилась подумать, а на другой день позвонила весело, ликующе: «Представьте, я нашла в бумагах листок, где Михаил Афанасьевич прикидывал разные названия для этой вещи. Там есть и такое: “Театральный роман”!»
Как она радовалась этому совпадению, и я, признаться, ликовал, что реабилитировал себя в ее глазах.
Вечером того же дня я навестил дом у Никитских Ворот и за круглым столом, под уютным светом старинной настольной лампы с абажуром слушал рассказы Елены Сергеевны о том, как писались «Записки покойника». Более всего не терпелось мне узнать, как собирался Булгаков продолжить книгу, оборванную на второй главе II части. По соотношению частей и механизму сюжета выходило, что в романе не дописано по меньшей мере восемь-десять глав.
«Да, – подтвердила Елена Сергеевна, – Миша собирался, закончив “Мастера”, вернуться к этой работе». По ее словам, роман должен был двигаться дальше примерно по такой канве: драматург Максудов, видя, что его отношения с одним из директоров Независимого театра, Иваном Васильевичем, зашли в тупик, как манны небесной ожидает возвращения из поездки в Индию второго директора – Аристарха Платоновича (в нем легко было угадать черты Немировича-Данченко). Аристарх Платонович приезжает, и Максудов знакомится с ним в театре на его лекции о заграничной поездке. (Эту лекцию Булгаков уже держал в голове и изображал в лицах оратора и слушателей – необычайно смешно.) К своему огорчению, драматург убеждается, что приезд Аристарха Платоновича ничего не изменит в судьбе его пьесы – а он столько надежд возлагал на его заступничество! В одной из следующих глав Максудов случайно знакомится с молодой женщиной из производственного цеха, художницей или бутафором. У нее низкий грудной голос, она нравится ему. Бомбардов уговаривает его жениться. Вскоре она умирает от чахотки. Между тем спектакль по пьесе Максудова, претерпевший на репетициях множество превращений и перемен, близится к премьере… Булгаков хотел изобразить взвинченную, нервозную обстановку первого представления, стычки в зале и за кулисами врагов и почитателей драматурга. И вот премьера позади. Пренебрежительные, оскорбительные отзывы театральной прессы глубоко ранят Максудова. На него накатывает острый приступ меланхолии, нежелания жить. Он едет в город своей юности (тут Булгаков руки потирал в предвкушении удовольствия – так хотелось ему еще раз написать о Киеве). Простившись с городом, герой бросается головой вниз с Цепного моста, оставляя письмо, которым начат роман…
Такова была отрывочная, по памяти, реконструкция Еленой Сергеевной конца книги. О многом еще мы говорили в тот вечер. Имя Топоркова, как автора возможного предисловия или послесловия к публикации, тоже впервые всплыло в этом разговоре. Булгаков, говорила Елена Сергеевна, ценил талант Топоркова и с безупречным доверием относился к его человеческой порядочности.
С этой-то целью некоторое время спустя я и пригласил Василия Осиповича зайти к нам в редакцию. Помню его смущение, когда я сказал ему, о чем пойдет речь. «Книга Булгакова, что и говорить, замечательная, я за нее двумя руками. Но ведь я не критик, не знаю, как писать…» Чтобы раззадорить, я спросил его, а близко ли он знал Михаила Афанасьевича, хорошо ли помнит его.
– Конечно, помню, как не помнить, – живо отозвался Василий Осипович. – Я ведь и в «Турбиных» играл, и в «Мертвых душах», им инсценированных, и в пьесе о Пушкине… Встречались часто, рассказчик он был чудесный…
И Топорков очень картинно, в лицах, пересказал со слов Булгакова историю его литературного дебюта.
«…Голодный, иззябший, принес редактору опус.
– Через неделю.
Через неделю прием другой. Хватает за руки.
– Амфитеатров. Амфитеатрова знаете?
– Н-н-нет.
– Непременно прочтите. Вы же пишете почти как он. Дорогой мой! Талантище!
– Значит, фельетон понравился?
– Что за вопрос! Гениально!
– Значит, напечатаете?
– Ни в коем случае! У меня семья!.. Но непременно заходите. Приносите еще что-нибудь… Амфитеатрова прочтите непременно!»
Рассказав эту историю, Топорков печально добавил: «Но предисловие написать я вряд ли смогу. Как писать? Что писать?» – «То, что рассказали, то и напишите, – посоветовал я ему. – И еще немного об отношении Булгакова к Станиславскому – оно ведь не было враждебным?» – «Что вы! Станиславского все в театре боготворили, – взмахнул руками Топорков. – И Булгаков не исключение. Конечно, и о Константине Сергеевиче за кулисами рассказывали смешное, «изображали старика». Актеры, знаете, есть актеры, а у Булгакова особо острый глаз на все необычное».
Топорков лишь подтвердил то, что я не раз слыхал и от других артистов Художественного театра. За кулисами всегда были в ходу рассказы о невинных чудачествах Станиславского, о грозных его «не верю!», летевших из зала на сцену во время репетиций, и детски-беззащитном страхе перед милиционером в форме или домоуправом.
Великий художник сцены, он обладал ребяческой непосредственностью и вулканическим воображением, которое позволяло ему из ситуаций жизни легко соскальзывать в игру, а из игры с трудом возвращаться в жизнь. Неожиданность и сила его фантазии ошеломляли.
Старейший мхатовец, партнер Топоркова по «Лесу», Владимир Львович Ершов рассказывал мне, как однажды ехал с гастролей, кажется из Ленинграда, в одном купе со Станиславским. Молодого артиста заранее долго предупреждали, какая честь ему выпала и как он должен дорогой беречь покой Константина Сергеевича. Едва отъехали от вокзала, попили чаю и стали спать ложиться. Ершов, как младший, на верхней полке, Станиславский, натурально, на нижней. Погасили свет, заперли купе, и только-только Ершов глаза смежил, слышит снизу:
– Владимир Львович, вы не спите?
– Нет, Константин Сергеевич, а что?
– Как вы думаете, гм… а если на наш поезд нападут разбойники? Я слыхал, прыгунчики какие-то объявились, на железных дорогах грабят…
– Что вы, спите спокойно, Константин Сергеевич, я запер дверь на задвижку. Снаружи даже специальным ключом открыть нельзя, разве что на узкую щелку.
– А-а, понял, понял. Спокойной ночи, Владимир Львович.
– Спокойной ночи, Константин Сергеевич.
Только Ершов начал задремывать, и снова:
– Владимир Львович, вы не спите?
– Засыпаю, Константин Сергеевич.
– Простите, гм… Но вот вы говорите – щелка… А ведь через нее револьвер просунуть можно. Наведут дуло – и конец.
– Господь с вами, Константин Сергеевич, – говорит Ершов, потерявший сон. – Сами рассудите, щелка маленькая, дуло не развернешь, и пуля прямо в окно уйдет.
– Ах, да. Понял, понял. Спасибо. Засыпайте, пожалуйста, я вас не беспокою.
И через минуту громким шепотом:
– Владимир Львович, вы не спите?
– Нет!..
– А если пистолет… кривой?!
Разговаривая с Топорковым, я напомнил ему этот рассказ Ершова. Посмеялись, и он сказал, на минуту задумавшись:
– А ведь и у меня был с Константином Сергеевичем отчаянный случай. Только что прошла премьера «Мертвых душ», я играл Чичикова. Признаться, готовя эту роль, трусил я ужасно, в особенности когда на репетиции пришел Станиславский. «Показывал» он, разбирая образ, гениально, сцены выстраивал виртуозно и очень помог мне. Но, как и все, я боялся его, трепетал… Пьеса пошла, вернулся я как-то домой после второго или третьего спектакля, и вдруг поздним вечером – телефонный звонок: «Алло, гм, гм… С вами говорит Станиславский». А надо сказать, в театре все отлично знали манеру разговора Станиславского, его голос, его легкое пришепетывание, и не копировал его разве что ленивый. Я сразу смекнул, что меня разыгрывают. С какой стати ему после полуночи звонить домой молодому артисту? Ну, думаю, шалишь, не дамся. «Так что, говорю, старик, тебе нужно? Я у телефона…» – и жду, когда шутник сознается, что розыгрыш не прошел. В трубке, однако, молчание. Потом: «Простите, кто у аппарата? Мне нужен Топорков… Гм, гм, это Василий Осипович? С вами говорит Станиславский…» – «Ну слышу, слышу, давай, что тебе?» – не сдаюсь я, а сам, кажется, уже начинаю догадываться, кому из приятелей я обязан этой идиотской шуткой. «Простите… Это Топорков? Сегодня я смотрел два первых акта и хотел только сказать вам… что вы хорошо играли Чичикова. Я не понимаю, почему вы… гм, гм, так странно со мной говорите?.. До свидания». Я повесил трубку и только тут понял, что в самом деле говорил со Станиславским, – рассказывал Топорков. – Отчаянию моему не было границ. Какую ночь я провел! Собирался наутро идти в Леонтьевский переулок, готов был пасть на колени, вымаливать прощение! Но когда мы встретились и я попытался объясниться, Станиславский и виду не подал, что обиделся на меня: легко простил и забыл…
Великий реформатор сцены, гениальный художник, но кто сказал, что нельзя улыбнуться над его странностями и слабостями? Топорков хорошо понимал, что своей книгой Булгаков ни в малой мере не задел, не уронил престижа Художественного театра или Станиславского, хотя от работы над «Мольером» в 1935/36 году и остался у драматурга горький осадок.
…Послесловие к «Театральному роману» Топорков принес в редакцию через неделю, точно в срок, только все робел и оговаривался, что написал, наверное, «не то». Смущался он напрасно, статью его все в журнале одобрили. Но ни он, ни я не представляли еще тогда, какой долгой будет дорога к читателям булгаковской книги.
Человек, с которым Твардовский решил посоветоваться и от которого в известной мере зависела публикация романа, упрямо отвергал саму возможность его появления. Мы сидели на сером плюшевом диване в его кабинете, крутили ложечками чай в стаканах, чувствуя, как накаляется беседа:
– Да вы смеетесь! В книге задет авторитет Художественного театра, это может подорвать саму «систему» Станиславского, а подорвать «систему» – значит разорить театральное хозяйство: у нас все театры страны по ней работают.
Мы с Твардовским переглянулись недоуменно, а наш собеседник, памятуя, что лучший вид обороны – нападение, повторял с горячностью:
– Нет, оставьте, вы меня разыгрываете. Неужели вы в самом деле хотите это напечатать? Никогда не поверю, что вы всерьез. Сознайтесь, что шутите!
Это задело, наконец, не терпевшего скользкой двусмыслицы Твардовского, глаза его побелели от едва сдерживаемого гнева, и он произнес короткий, яростный монолог:
– Это чудесная книга. Настоящее семейное чтение. Не пасквиль, не памфлет, как вы говорите, а добрый юмор. Герцен утверждал, что тот, кто свою силу чувствует, не боится юмора, насмешки. А если мы так горячо печемся об авторитете театра и «системы», кабы о них кто чего худого не подумал, то это, знаете, даже подозрительно… Что это за кисейно-лилейная «система» такая, что она рухнет и рассыплется от одного дуновения мнения? И имейте в виду, Станиславский Станиславским, но и Булгаков с его наследством чего-то стоит. Как можно такого писателя не печатать?
Но наш собеседник, исчерпавший аргументы и возражавший все более вяло, был несдвигаем, однако, как стена.
Наконец я решил пустить в ход последний козырь. Сказал, что послесловие к нашей публикации написал прямой сподвижник Константина Сергеевича, выдающийся артист МХАТа, автор книги «Станиславский на репетиции» Василий Осипович Топорков. Уж его-то никак не упрекнешь в неуважении к «системе» и Художественному театру, он всю жизнь им посвятил.
– Топорков? Это хорошо… Но то один Топорков. А что скажут нам другие корифеи?
Тем и кончился неприятный, обескураживающий разговор.
К счастью, «корифеи» Художественного театра не подвели Булгакова. Когда дело казалось уже безнадежно подкошенным, премудрая Елена Сергеевна собрала у себя как-то вечером на ужин группу актеров, в большинстве «турбинцев» первого поколения. Там были Станицын, Кудрявцев, Яншин, Марков и некоторые другие. Все они поддержали ее желание увидеть «Театральный роман» напечатанным. Вспоминали, как ничуть не обидчиво, а напротив, дружелюбно-весело воспринимал эту книгу изображенный в ней Василий Иванович Качалов. Говорили, что и Станиславский наверняка от души рассмеялся бы над этими страницами, как смеялся он, разглядывая шаржи на себя и на других «стариков» Бориса Ливанова. Те, кто чиновничьими запретами мнимо охраняют его авторитет в искусстве, и без того бессомненный для всего театрального мира, более роялисты, чем король, или католики святее Папы.
Для театральных друзей Булгакова не было сомнения, что его книга должна явиться в свет. Единственное, о чем они просили меня, – сочинить от редакции журнала по всей форме запрос в театр на их имя.
На другой же день на бланке «Нового мира» пошло в театр письмо примерно такого содержания: «Многоуважаемые “старейшины” Художественного театра! Журнал намерен напечатать неоконченный “Театральный роман” М. А. Булгакова. Мы обращаемся к вам, сподвижникам К. С. Станиславского, с просьбой высказаться по существу такой публикации. Мы надеемся…» и т. д. и т. п.
Письмо было отправлено с курьером – и будто провалилось. Шли дни, а ответа не было. «Старейшины» необъяснимо молчали. Я стал уже волноваться и позвонил Станицыну. «Да нет, письмо получено, – успокоил меня Виктор Яковлевич, – да вот какая загвоздка… Мы затрудняемся, как убедительнее составить текст… Не сочтите за труд, набросайте заодно уж и ответ на ваш запрос…»
Дело прошлое, и я должен признаться в этом конфузном обстоятельстве. Я сел за свой редакторский стол и написал самому себе примерно следующее: «Многоуважаемые редакторы “Нового мира”! В ответ на ваш запрос сообщаем: мы, старейшие работники Художественного театра, не только не имеем ничего против публикации романа Булгакова, но настоятельно советуем вам напечатать книгу замечательного драматурга, нашего старого друга…». Это письмо в ближайшие же дни было подписано пятнадцатью народными артистами СССР и РСФСР, и, разумеется, первым среди них стояло имя Топоркова.
Не прошло и двух лет после этих событий, как «Театральный роман» был напечатан в «Новом мире» (1965, № 8), и Булгаков-прозаик начал свое посмертное победное шествие среди читателей. Отрадно думать, что ныне этот роман издан в нашей стране неоднократно, о нем написаны десятки исследований, он переведен на все основные языки земного шара и, наряду с «Мастером и Маргаритой», признан классикой советской литературы. Да, имеют свою судьбу книги…
Думаю, не случайно Василий Осипович так быстро и надежно отозвался тогда на мою просьбу помочь в издании «Театрального романа». В его душе всегда была жива благодарность Булгакову-драматургу – и за Чичикова в инсценировке «Мертвых душ», и за Мышлаевского в «Днях Турбиных», и за роль в пьесе о Пушкине.
В роли Мышлаевского я, к сожалению, Топоркова не успел увидеть, но что он первоклассно сыграл Биткова в «Последних днях» – тому и я счастливый свидетель,
Да, в булгаковской пьесе о Пушкине и без Пушкина, где все художественное целомудрие замысла в том и заключалось, что поэта на сцене не было – и он был, возникала полнейшая иллюзия его близкого наличного бытия: только что вышел, сейчас войдет… Ото всех действующих лиц из окружения Пушкина шли излучения, рефлексы, бежали блики и тени, воссоздававшие реально-идеальную, поэтическую несомненность его присутствия рядом. Шли они, эти рефлексы, и от сыщика Биткова, которого играл Топорков.
Просочившийся под личиной часовщика, незаметно вползший в дом на Мойке агент III отделения – подглядывающий, пугливо озирающийся, вздрагивающий при скрипе половиц, кабы не застали его за стыдным делом – проглядыванием бумаг Александра Сергеевича, – вот он, Битков, у больших стоячих часов в гостиной, которые будто бы нуждаются в его починке… И на докладе в низкой сводчатой комнате жандармского управления, где он попадает впросак, желая получше услужить господину Дубельту, – не ту записку с пушкинского стола прихватил!
«Ах, сколько я стихов переучил, будь они неладны!» – с искренней досадой восклицал булгаковский Битков. Актер бережно и с деликатной постепенностью развивал известную в искусстве метафору: преследователь, палач, срастающийся со своей жертвой, не мыслящий вне ее своего существования. Битков еще раз явится перед зрителем на глухой почтовой станции, в февральскую метель, на пути к месту последнего упокоения тела убитого поэта: он опять неразлучен с ним.
Измерзшийся в долгой скачке за гробом, потирающий зябко руки, съежившийся от стужи, жадно приникающий к штофу с водкой… И несчастный. Вся жизнь Биткова вставала за исполнением артиста: жизнь нищая, зависимая, рабья, жизнь с вечной оглядкой по сторонам, жизнь нечистая, засаленная, искалеченная.
«Да, стихи сочинял… И из-за тех стихов никому покою… ни ему, ни начальству, ни мне, рабу божьему Степану Ильичу… Я ведь за ним всюду… Но не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не те, не такие…»
(В последних словах Биткова, замечу в скобках, мне всегда слышалась личная авторская интонация. Елена Сергеевна рассказывала, что, когда в середине 30-х годов пьесы Булгакова одна за другой, не дойдя до премьеры, снимались из репертуара и даже либретто оперы и сценарии для кино с фатальной неизбежностью отвергались, Булгаков шутил невесело: «Не кажется ли тебе, что я стреляю из кривого ружья: прицелился точно, взял на мушку, сейчас попаду… бац! – и мимо…» То самое кривое ружье, которое, по рассказу Ершова, бросало в дрожь Станиславского.)
Под вой метели на затерянной в снегах почтовой станции Битков болтает со смотрительшей, любопытствующей узнать, кого это так секретно везут; напиваясь мало-помалу, он рискует наговорить лишнего. И тут в движении образа происходит еле заметный и не ожидаемый зрителем поворот. Вот чудо гуманности и у Булгакова, и у Топоркова, так полно понявшего автора (а оба они будто от Пушкина этот голос услышали): жаль этого человека, как заглянешь в щелки его пьяненьких, испуганных глаз. Нет, не раскаяние его посетило, и до сознания тут далеко, но что-то «можжит», сосет его душу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?